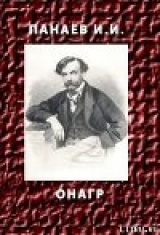
Текст книги "ОНАГР"
Автор книги: Иван Панаев
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)
ГЛАВА II
Деревенские мысли и столичные мечты. – Вечер Онагра
Онагр от Бобыниных приехал домой, бросился на диван и, полный любовного волнения и таинственных предчувствий, с большим восторгом пропел куплет из какого-то водевиля:
И с страстью чистою, сердечной
Я буду век ее любить,
А без любви взаимной, вечной
Я не могу счастливым быть!
Он повторна: "Я не могу счастливым быть!" – и закричал:
– Гришка!
– Что-с?
– Сбегай поскорей в трактир за обедом. (Я что-то проголодался.) Возьми также в погребе бутылку красного вина. (Теперь я без вина решительно не могу обедать. Если бы деньги, всякий день пил бы шампанское. Ах, если бы деньги!..) Ну что ж ты, урод, стоишь?
– Я забыл вам доложить, – сказал Гришка, почесывая в затылке, – к вам письмо, сударь, с почты принесли.
– Письмо, а не посылку? от кого же письмо?
– Не знаю-с; кажется, от маменьки-с.
– Ну, подай же его да принеси свечку, и пошел за обедом.
– Пожалуйте деньги-с.
– Возьми в кошельке, болван; вон кошелек на столе.
Гришка подал барину письмо и свечу, взял деньги, отложил из них двугривенный в свой карман и ушел. Барин распечатал письмо и прочел:
"Друг мой бесценный Петенька. Благодарю тебя, мой ангел, за то, что не забываешь меня: три письма твои одно за другим вскоре я получила и целую тебя заочно. Ты знаешь, что у меня не осталось другого сокровища на земле, кроме тебя, после кончины незабвенного моего мужа, потерю которого я и до могилы не забуду. Письма твои единственная моя отрада в жизни. Не жили бы мы в разлуке с тобой, голубчик, если б богу угодно было продлить дни
Александра Ермолаича. Он теперь, верно, имел бы генеральский чин и получал бы большие оклады, а я за ним не знала бы никаких хлопот, и все бы жили в Петербурге. И я провела бы старость спокойно! Впрочем, на все воля божия: кому определена смерть, тот непременно умрет. Совесть моя в отношении к тебе, дружочек, спокойна; я пожертвовала для тебя всею моею жизнию. По смерти отца твоего за меня сватались хорошие женихи с чинами и с состоянием: я отказала им с тою целию, чтобы иметь о тебе попечение и сохранить для тебя небольшое именьице, полученное мною в приданое. Сколько лет уже я живу в деревне и забилась в глушь, чтобы скопить тебе хоть немного деньжонок, да неурожаи последних годов уничтожили все мои планы. Нечего делать, надо покориться всемогущей воле и переносить все без ропота…"
Молодой человек немного нахмурился; рука его, державшая письмо, опустилась, и он подумал:
"Гм!.. Уж эти проклятые неурожаи! И отчего они? Когда я вырос и когда мне нужны деньги – так тут, нарочно, неурожаи! И пришла же маменьке мысль копить деньги… Лучше бы присылала мне больше. Здесь нельзя жить в свете без денет. Сунься-ка попросить в долг! под залог, говорят, пожалуйте… А что я дам под залог? У меня и теперь ни гроша нет: что ж я буду делать?"
После этого размышления он опять принялся за чтение письма:
"Тяжела деревенская жизнь: везде надо свой глаз, на старосту надежда плохая. У меня недавно поставлен новый староста Ильюшка, брат Ваньки – Григорьева сына; Мирошку же я сменила за грубость. Признаюсь, и сил недостает мне, слабой женщине, управляться с крестьянами: такая вольница, все перебаловались, только по вечерам отдыхаю. Спасибо соседям, не забывают; всех чаще у меня бывает Фекла Ниловна, – ты ее знаешь, прелюбезная дама, образованная, и жила в Петербурге, всех знает, презабавные анекдоты рассказывает; с нею не соскучишься… Она вспоминает об тебе, говорит, что любит тебя душевно: тот же, кто любит тебя, мил всегда моему сердцу. Если бы по милости божией ты получил хорошее и прочное место по службе, это меня утешило бы. С удовольствием вижу, по письмам твоим, что тебя начальники отличают от других; так и должно было ожидать: ты воспитан, как немногие, в лучшей петербургской гимназии, где воспитываются всё дети известных благородных фамилий. Для того чтоб сделать тебя человеком, я не щадила денег и лишила себя необходимого. Ты, кроме обыкновенного ученья, и приватные уроки брал, и нынче берешь уроки у танцевального учителя. Это хорошо, друг мой; в свете надо быть ловким.
Пожалуйста, сердце мое, будь всегда на глазах у начальства, угождай всем, не забывай именин и рожденья своего директора и директорши, ласкайся ко всем; этим ты ничего не проиграешь; поверь мне, ищи в людях, – люди нужны. Особенно не забывай Дмитрия
Васильевича Бобынина; говорят, он в большой силе у вас в Петербурге и живет как вельможа. Съезди к нему нарочно по получении сего письма и поклонись от меня; скажи ему, что все люблю его по-прежнему, как родного брата. Он писал ко мне, что хочет купить мою деревню с переводом долга, но предлагает за нее самую ничтожную сумму. Об этом ему ни слова не говори, будто ничего не знаешь, а я не замедлю отвечать ему сама… Правду говорят, что чем люди богаче, тем скупее. Супруги его не имею удовольствия знать, а говорят, прелестная, самого лучшего тона дама…"
Герой наш при этих словах протянулся на диване с выражением самодовольствия и неги, снял со свечи и сказал:
– Прелестная… мало этого – просто душка!.. Да что ж маменька об деньгах-то ничего не пишет? Посмотрим далее.
"…Я Дмитрия Васильича помню, как он еще был офицером и не имел ничего. Уж и тогда многие почему-то пророчили, что он пойдет далеко. Слухи носятся, что он нажил свое богатство нечестно, да ты этому не верь, это говорят вольнодумцы, друг мой, и никогда об этом ни с кем не говори. Если бы и точно слухи эти были справедливы, то нам до этого дела нет: с ним знаются люди и повыше нас и уважают его, так мы не должны умничать; к тому же Дмитрий Васильич тебе всегда пригодится, как человек с связями. Приятно мне было между прочим читать в письме твоем, что ты находишься в самом лучшем обществе и в коротких отношениях с князьями и графами; только, глядя на них, не кидай, бога ради, деньги и помни, что у них у всех золотые рудники, а у нас с тобой только четыреста душ, и те заложенные. Правда, у тебя есть, как ты пишешь, дядюшка, от которого после смерти достанется тебе тысяча восемьсот душ, но в животе и смерти бог волен: мы видим ежедневно примеры, что молодые умирают, а старые живут… Да продлит бог дни твои, голубчик, к моему утешению; я это говорю только к тому, что, надеясь на чужое неверное, нельзя проживать свое верное. Братцу еще только пятьдесят семь лет; он очень крепок в своем здоровье. Он дал мне за мою Агашку шестьсот рублей. Теперь за мной ходит Лизка, дочь
Евграшки-повара: девка добрая, старательная и безответная. Знаешь, что мне пришло в голову: не послужит ли твое знакомство с детьми вельмож в твою пользу? нельзя ли тебе через них как-нибудь постараться, чтоб тебя произвели в камер-юнкеры? А деньги на мундир я как-нибудь сколочу. Тогда бы твой карьер был сделан, и дядюшка смотрел бы на тебя другими глазами. (Пиши к нему чаще и понежнее.) Что заговорили бы у нас в губернии, если б это случилось! Мысль, что сын мой достиг до такой высоты, сделала бы меня вполне счастливою. Стану молиться об этом богу: авось создатель услышит мои грешные молитвы…"
"Что, в самом деле? – подумал молодой человек. – у маменьки недурна мысль! Ах, если б в камер-юнкеры! У! Я стал бы тотчас выезжать в первые дома, все к князьям и посланникам, на Английскую набережную.. Вот тогда бы пройтись по Невскому-то! Я начал бы непременно ухаживать за княгинею Е**: она прехорошенькая. И какая у нее походка!..
Она гуляет по набережной, так, едва-едва прикасаясь ножками к плитам, а следок у нее узенький и ножка крошечная!.. Я познакомился бы со всеми здешними львами… Тогда уж не я волочился бы за Катериной Ивановной, а она волочилась бы за мною… Вхожу в мраморную или в атласную залу; там кипит народ… Я пробираюсь между генералами…"
– Кушать, сударь, готово, – сказал Гришка, – я взял двухрублевый обед.
– В каком трактире?
– В "Неаполе"-с.
– Вот мерзость! Я такого трактира и не слыхивал, Я думаю, есть ничего нельзя.
– Отчего-с? обед как следует. Посмотрите.
Барин отправился в столовую.
Он кушал с большим аппетитом и продолжал думать:
"Через кого, впрочем, попадешь в камер-юнкеры? директор наш не представит меня: он, говорят, на меня сердится за то, что я редко хожу в департамент. Начальник отделения тоже что-то посматривает на меня косо… Князья и графы! Хорошо, если б я не шутя был знаком с ними, а то я только так написал об этом маменьке, чтоб она деньги скорее выслала…
Но я уж по тону ее письма вижу, что отказ… Надо все-таки прочесть до конца".
"…Ты пишешь во всех трех письмах, сердце мое, о своих крайних надобностях и о скорейшей высылке денег… Милый друг мой, нечего говорить тебе, что я рада отдать последний платок с себя для твоего спокойствия; я не раз доказывала это, удовлетворяя твои просьбы, и теперь готова была бы доказать, если б не бедственное положение всего нашего края. Рожь последние три года сряду совсем была плохая, так что и на посев зерен недоставало; овсы еще туда-сюда, даже конопля нынешний год не уродилась, и крестьяне, за неимением ржи, кормятся лебедою. Проценты же в ломбард следует платить аккуратно. Что станешь делать? Тяжело, мой друг, быть хозяйкой при нынешних обстоятельствах. Вы же, молодые люди, неопытны и ничего не берете в расчет и думаете, что деньги у нас в деревнях из земли вырастают. Умоляю тебя, дружочек, если не хочешь огорчить свою мамашу, будь побережливее. Что-то бог даст на следующий год, а с осени всходы были нехороши…"
– Вот тебе и еще утешение! Всходы! В Петербурге не станешь рассказывать, что всходы нехороши. Здесь и не знают, что такое всходы, а кричат "подавайте денег!"
Молодой человек начал грызть ногти от досады.
"…Куда же так скоро ты прожил те две тысячи рублей, что я четыре месяца назад прислала тебе? Еще кроме четырех тысяч рублей, которые высылаю тебе ежегодно, ты получаешь две тысячи пятьсот рублей жалованья в таком маленьком чине; трудись, может быть, тебе и еще прибавят, когда повысят. Без трудов, друг мой, жить нельзя. Ты уведомляешь, что завел лошадку, – это ничего; при твоем знакомстве нельзя, точно, быть без лошадки, да не обманывает ли тебя кучер? знаешь ли ты цены овса и сена?.."
"Две тысячи пятьсот рублей жалованья!.. Охота же мне была нахвастать, – думал молодой человек, – я ни копейки не получаю. Лошадку! У меня не одна, а две лошадки, да об другой-то я не хотел написать…"
"…Сколько ты платишь кучеру в месяц? Не лучше ли будет, если я вышлю тебе старика Ермолая: он уж ничего барского не украдет, а, напротив, будет все беречь и соблюдать во всем экономию. Наемному же человеку что за охота беречь господское добро?
Крепостной всегда лучше, потому что он в ответе. Ермолай ездит хорошо: он был кучером при отце твоем…"
– Нет, покорно благодарю; я срамиться не намерен, я не хочу, чтоб на меня пальцами указывали, когда я буду кататься по Невскому или по Английской набережной.
"…Доволен ли ты Гришкой? Не давай ему много воли и не балуй его; пуще всего, чтоб у него не были в руках деньги. Тысячу пятьсот рублей, по просьбе твоей, я выслать тебе никак не могу, а восемьсот рублей пришлю с первою почтою: 500 рублей из тех, что получила за Агашку, себе оставляю только сто рублей; триста же рублей дал мне взаймы добрый и милый сосед наш Семен Никифорыч Колпаков… Он только узнал, что тебе нужны деньги, сейчас вызвался ссудить меня последними тремя стами, которые у него были.
Напиши к нему письмо поласковее и поблагодари его за это и за участие, которое он принимает во мне; также купи самую модную жилетку, которую и вышли немедленно: я хочу подарить ему. Надо быть благодарным, дружочек; благодарность выше всего. Семен
Никифорыч человек редкий: он угождает мне и ухаживает за мною, как родной. В нынешнем свете чужие, право, лучше родных. У меня что-то глаза становятся слабы, с трудом веду хозяйственные книги: видно, старость приходит; в марте мне сорок шестой год пойдет.
Сходи ко Всех скорбящих божией матери и помолись за меня. Целую тебя, мой ангел
Петенька, без счету и обнимаю тебя. Береги свое здоровье, драгоценное для меня, и не бросай попусту деньги. Остаюсь твоя мать и друг
Прасковья Разнатовская".
Петр Александрыч окончил письмо, проглотил засушенное миндальное колечко, выпил стакан красного, зевнул, сказал самому себе: "Ну, по крайней мере хоть восемьсот!" – и задремал.
Гришка собрал со стола, докушал барские остатки, снял со стены семиструнную гитару и принялся наигрывать "Барыню".
Петр Александрыч впросонках услышал эти звуки, рассердился и закричал:
– Гришка!
– Чего-с? – отозвался Гришка из своего чулана.
– Ты музыкой забавляешься?
– Никак нет-с.
– И отпираешься еще, дурак! Кто ж это бренчит? Ты, кажется, помешался. Барин почивает, а ты изволишь шуметь.
После этого Петр Александрыч снова погрузился в дремоту, и в квартире его воцарилось безмолвие. Минут через десять громкое и неровное храпение слуги слилось с тихим и однозвучным храпением барина.
В восьмом часу барин открыл глаза и с удовольствием несколько раз потянулся.
– Какой приятный сон! Я видел Катерину Ивановну, точно наяву, будто я целую у нее руку, – а она мне говорит: "Шалун! что вы делаете? перестаньте", а я и не слушаю ее и… и… все это очень может случиться!
Мечты его были прерваны звоном колокольчика в передней. В комнату вбежал офицер с серебряными эполетами.
– А я к тебе, мон-шер. Что ты делаешь?
– Ничего.
– И я ничего… Что это ты сидишь в потемках?
– Да так, заснул, братец… Гришка! свечей!
Свечи принесли.
– Куда ты вечером, мон-шер?
– Не знаю; а ты?
– Не знаю. В "Сильфиду" не поедешь?
– Нет, братец, надоела.
– И мне, мон-шер, надоела: я десять раз сряду ее видел.
– Я сегодня был у Бобыниных с визитом.
Минуты две молчание. Офицер прошелся по комнате и запел: "Тра-ла-ла, тра-ла-ла!,."
– Кто?
– Катишь Бобынина.
– Да! Ах, я тебе не говорил: мы вчера вечером с Митей таскались, таскались по
Невскому, да и вздумали вдруг зайти к Доминику поужинать… Две бутылки шампанского выпили.
– Катишь мне говорила сегодня – мы с ней долго сидели вдвоем, – что ей скучно, что ей надоели балы. Все, говорит, это вздор, сердце ищет чего-то, и она так страстно посмотрела на меня и потом сказала: "Приезжайте ко мне на днях вечером; я буду одна". Это недурно, братец?
– Гм! Не сыграть ли нам в банчик?..
– Пожалуй… у меня теперь денег нет; впрочем, я сейчас получил письмо от матери из деревни: она пишет, что высылает мне четыре тысячи. Нет ли у тебя рублей двадцати пяти?
Мне только на несколько дней.
– С удовольствием, мон-шер, с удовольствием. Офицер схватился за боковой карман.
– Ах, канальство! бумажник-то я свой позабыл дома! У меня деньги есть: я на прошедшей неделе получил от отца пятьсот рублей карманных… Сыграем же в банчик; если проиграешь, отдашь мне после, если я проиграю, то завтра пришлю. Что время попусту терять? а?
– Разумеется… Гришка, мелки и карты!
– Неигранных карт нет-с, надо сходить в лавочку.
– Ну, подай игранные. Не все ли равно?
Игра началась, мелки пришли в действие, карты загибались и отгибались. Ни Петр
Александрыч, ни офицер не заметили, как пролетело время. Их уж и ко сну клонит. Петр
Александрыч в выигрыше.
– Который час?
Офицер посмотрел на часы.
– Вообрази, мон-шер, три часа.
– О-го! Не перестать ли?
– Как хочешь; сколько я проиграл тебе?
Петр Александрыч принялся считать.
– Сто один рубль.
– Только? я полагал больше. Адьё.
"Славно! право, славно! – подумал Петр Александрыч, провожая офицера, – мне и в любви и в картах начинает везти!"
ГЛАВА Ш
Кучер в васильковой шубе и глазетовом кушаке. – Будуар госпожи среднего сословия.
– Добродетельный человек с огромным ртом
Прошел день, другой, третий; офицер с серебряными эполетами не является и не шлет денег. По прошествии четырех дней Петр Александрыч написал письмо к офицеру:
"Мне крайняя нужда в деньгах, а из деревни я еще не получил. Сделай одолжение, mon cher ami, пришли сто рублей, которые ты намедни проиграл мне. Что новенького? Вчера я был у Бобыниных. Молодецки иду на приступ, все говорил с ней о любви. Ах, женщины! женщины! что, если б не было на свете женщин? Моя Катишь меня с ума сводит. В ожидании ста рублей tout a vous
П. P.
Петр Александрыч запечатал письмо и написал на конверте:
Monsieur de Anisieff.
– Кучеру новую шубу принесли-с, – сказал Гришка.
– Принесли?
Петр Александрыч вдруг оживился и вскочил со стула.
– Вели же ему поскорей одеться и прийти сюда.
Кучер явился в светло-васильковой шубе, отороченной кошкой. Его сопровождал портной с ярко-пунцовой шапкой в руке: на шапке лежали глазетовые и парчовые кушаки.
У Петра Александрыча разбежались глаза. Прежде он бросился к кучеру, потом к портному; и шуба хороша, а шапка прелесть, и кушаки блестящие!
Шуба сшита удивительно.
– Застегни-ка, Васька, ее на все пуговицы да надень шапку.
Петр Александрыч обошел кругом кучера.
– Славно!..
"Какой бы только кушак выбрать? (его взяло раздумье) парчовый ли с цветами или просто глазетовый золотой?"
– А кушаки, любезный, какие моднее? – спросил он у портного в нерешительности.
– Это уж, батюшка, все самые княжеские, самые последние. Какой вам приглянется; по-нашему, все единственно, что тот, что другой.
– Ну, я возьму глазетовый; только знаешь, любезный, надобно его сложить пошире, на два пальца еще прибавить, так он будет виднее. Сложи-ка теперь… Вот так…
Портной подал счет барину и начал повязывать кучеру кушак.
Барин, не смотря, бросил счет на стол и подумал: "Блесну же я теперь перед
Катериной Ивановной! Пущу же я ей пыль в глаза! Кучера не у многих и аристократов так одеты".
– Васька, смотри же, беречь платье. Я сейчас поеду: поди поскорей, заложи, да все новое и сбрую новую…
Кучер ушел.
– А касательно счетца-то-с? – заметил портной.
– Да! да!
Петр Александрыч взял счет со стола и начал его внимательно рассматривать.
– Двести девяносто пять рублей?
– Точно так-с.
– Хорошо, любезный, хорошо…
– Сейчас пожалуете?
– Нет… то есть… не сейчас… у меня, вот видишь ли, и есть деньги, но один приятель взял до вечера. Завтра пришлю… на днях непременно.
"Охотничий кафтан!" – подумал Петр Александрыч, садясь в сани с сияющим лицом.
У тротуара на Английской набережной он вышел, а саням приказал ехать за ним, не отставая.
Прогуливаясь, он беспрестанно оглядывался назад.
– Васька, держись прямее! у тебя какая-то странная посадка.
Кучер выпрямился.
– Послушай, братец, спусти кушак немного пониже…
Навстречу Онагру попался Дмитрий Васильич.
Дмитрий Васильич шел с Владимиром Матвеичем Завьяловым, с тем самым, который известен был в некоторых средних кружках петербургского общества под именем прекрасного человека. Они с жаром о чем-то рассуждали.
– Мое почтение, Дмитрий Васильич! – сказал Онагр.
– А! что вы, гуляете?
– Гуляю-с.
– Это не ваш ли такой блестящий кучер?
– Мой-с.
– Мотаете, молодой человек, мотаете! А маменька жалуется на неурожаи… До свиданья!
Петр Александрыч поморщился.
"Что ему за дело, мотаю я или нет? Однако кучера-то он не мог не заметить: видно, эффектно одет. Не съездить ли мне к Катерине Ивановне? теперь, верно, у нее никого нет.
Поеду!.."
В дверях будуара Катерины Ивановны он встретился с господином очень высокого роста, плечистым, худощавым, но крепкого сложения, с лицом смуглым и с черными усами.
На этом господине был темный сюртук, застегнутый на все пуговицы, крепкий, волосяной галстук и казацкие широкие шаровары.
Этот господин посмотрел на Онагра, подернул бровями и расправил ус.
Онагр с чувством собственного достоинства застегнул пуговицу своей желтой лакированной перчатки и ответствовал усачу величавым взором, в котором выразилась вся бесконечность светской гордости.
"Что это за человек? – подумал он, – я его встречаю в третий раз у Катерины
Ивановны; как можно принимать таких?"
В будуаре г-жи Бобыниной царствовал полусвет. Цветные стекла вполовину закрывали окна; между окон стояла массивная горка с амурами, огонек тлелся в камине.
Она в широком пеньюаре сидела на штофном диване, в одном из тех грациозных положений, о которых так хорошо рассказывают русские светские повествователи.
Она одна!
Медленно, неохотно приподнялась она от эластической спинки дивана, увидев
Онагра…
– Pardon! – сказала она молодому человеку, прикоснувшись двумя пальчиками к пеньюару, – что я так принимаю вас; я не совсем здорова, но для коротких знакомых можно позволить себе, я думаю, эту небольшую вольность.
Онагр поправил свою голубую жилетку и подумал: "Браво! да она, кажется, очень неравнодушна ко мне!"
Он отвечал:
– Помилуйте, мне гораздо приятнее, что вы… только не обеспокоил ли я вас?.. Сейчас на Английской набережной видел Дмитрия Васильича…
– Право?
– А как ветрено сегодня, вы не можете себе представить, – такой резкий ветер с моря.
– Неужели?
– Вот у вас очень тепло: бесподобное изобретение камин. Не будете ли вы в середу у
Калпинской?.. Там иногда бывает приятно.
– В середу… что у нас сегодня?
– Суббота.
– Да, я непременно у нее буду…
"Как бы придраться, чтоб поговорить о любви?" – подумал Онагр, перевертывая шляпу.
– Ваш будуар, – начал он, осматривая потолок и стены, – убран с большим вкусом; это маленький храм… Из него выйти не хочется…
Онагр пристально посмотрел на свою богиню.
– И этот полусвет, – продолжал он, – так располагает к мечтаниям, к лю…
– Господин Иконин, – сказал слуга.
"Черт возьми! – подумал Онагр, – я только было расходился, чудесные фразы пришли в голову, а тут кого-то нелегкое принесло, как нарочно".
– Проси, – сказала Катерина Ивановна слуге, накидывая на себя шаль и поправляя волосы.
– Кто это такой Иконин?
– Один отличный старичок, добродетельной жизни, немножко странный, впрочем, он имеет важное место на службе.
В комнате показался человек небольшого роста, пожилой, с коротко подстриженными волосами, с большими карими глазами и с огромным ртом, в вицмундире с пуфами на рукавах. Он молча подошел к ручке Катерины Ивановны, потом голова его покачнулась на неподвижном туловище, как у автомата; потом рот его раздвинулся до ушей, а веки захлопали – то была улыбка.
– Как я рада вас видеть, Филипп Иваныч! – сказала ему хозяйка.
– Покорно благодарю-с.
– Милости прошу садиться.
Катерина Ивановна придвинула для него стул к дивану.
При взгляде на Онагра голова добродетельного старичка с огромным ртом снова покачнулась. Он сел.
Полминуты безмолвия.
– Как вы в своем здоровье-с?
– Слава богу!
– А супруг ваш-с?
– И он слава богу; его нет дома.
– На службе-с?
– Кажется.
– Много, я полагаю, занятий-с у Дмитрия Васильича?
– Очень много.
За сим последовала минута молчания, после которой добродетельный старичок с огромным ртом вынул из кармана две тоненькие брошюрки нравственного содержания.
– Вот-с я вам принес-с. Прекрасные речи-с, весьма красноречиво написанные. Не угодно ли-с, я вам прочту.
– Сделайте милость, Филипп Иваныч: вы знаете, что я люблю все нравственное.
Он развернул одну брошюрку и начал читать.
Чтение продолжалось три четверти часа. Онагр повертывался на стуле и, кусая губы, смотрел на свою желтую перчатку.
– Что вы никогда не приедете к нам на вечер, Филипп Иваныч? – сказала Катерина
Ивановна после чтения.
– Покорно благодарю-с; я на вечера не езжу-с…
– Правда, вам наши светские собрания кажутся тягостными и ничтожными…
Катерина Ивановна вздохнула.
– Счастлив, кто может вести такую добродетельную жизнь, как вы!
Филипп Иваныч покачнул голову.
Вслед за этим он завел речь о производстве одного начальника отделения в вице– директоры, одного коллежского советника в статские советники, о любви к ближнему и о безнравственности современной литературы. Потом он приподнялся, совершил свой обычный обряд приложения к ручке и ушел. Катерина Ивановна провожала его до дверей залы.
– Вот человек! – сказала она Онагру, возвратясь в будуар, – таких людей мало; что за ум, что за ученость! и притом это истинно добродетельный человек.
– Да это сейчас видно, – отвечал Онагр.
"Терпеть не могу эдаких, – подумал он, – только мешают волочиться; очень приятно слушать их проповеди!"
Вошел слуга.
– Барин вас просит к себе, сударыня; он сейчас приехал.
Катерина Ивановна сказала Онагру:
– Извините, до свидания, – и выпорхнула из комнаты, как птичка.
"Если бы не этот проклятый чтец, может быть, сегодня…" – подумал Онагр. – Васька! пошел куда-нибудь… ну, хоть на Дворцовую набережную, а там на Невский – и домой…
Васька, что, я думаю, другие кучера теперь смотрят на тебя?
– Как же-с, сейчас, Петр Александрыч, два господина спрашивали? чьи сани.
– Хорошо одетые?
– Да-с. Должно быть, важные господа.
Онагр улыбнулся.








