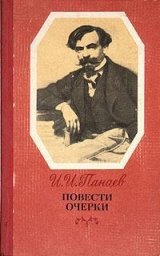
Текст книги "Кошелек"
Автор книги: Иван Панаев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)
И. И. Панаев
КОШЕЛЕК
Сцены из петербургской жизни
I
Старушка мать, бывало, под окном
Сидела, днем она чулок вязала,
А вечером за маленьким столом
Раскладывала карты и гадала.
Пушкин.
Ах, тетушка, как хорош ваш Петербург! Мне никогда и во сне не снилось ничего подобного!.. Как здесь все великолепно!.. какие набережные, какие площади, какие дворцы, какие огромные домы, какие нарядные дамы, какие экипажи! А останавливались ли вы когда-нибудь, тетушка, перед монументом Петра в лунную ночь? Любовались ли Невою? господи боже мой, как хороша ваша Нева, тетушка!
Так говорил в лирическом жару молодой человек "с цветущими ланитами и устами", с простодушным взглядом, в длинном, гораздо ниже колен, сюртуке, – настоящий представитель отрадного деревенского быта.
Тетушка, к которой он адресовался с своею кудрявою, девственною речью, была старушка, как обыкновенно бывают все простые русские старушки, с морщинами на лице, с чепцом на голове, с очками на носу и с чулком в руках.
Странна показалась тетушке речь племянника – и прутки замерли в ее руках, и она отложила чулок на маленький стол, который стоял возле нее, подняла очки на лоб, протерла глаза и пристально посмотрела на племянника.
– Что это ты, Иванушка? Бог с тобой! Экой проказник: что я за полоумная, что стану ходить по ночам да глазеть на памятники?
И старушка от души смеялась над проказником.
В эту минуту девушка, сидевшая на скамейке у ног старушки, выронила из рук иголку и шитье, подняла вверх свои темно-голубые глазки, закинула назад свою грёзовскую головку, всю в локонах, взглянула на старушку, потом украдкою бросила взор на молодого человека: ей хотелось улыбнуться, и она, кажется, закраснелась.
Но, может быть, то был луч догоравшей зари, который, уловив движение девушки, страстно прильнул к ней и любовно оцветил ее личико своим пламенем.
Хороша была эта картина из трех лиц: морщинистая старушка, румяная девушка, молодой человек, задумчиво облокотившийся на ручку кресел… Небольшая комната, просто убранная, ситцевые занавески у окон с красною шерстяною бахромою и ерани на окнах. В этой комнате все дышало спокойствием и счастием, тою отрадною безмятежностью, о которой, кажется, не ведают люди, живущие в огромных золоченых палатах.
– Вы сегодня, маменька, что-то очень долго заработались. Уж скоро совсем смеркнется.
– Да, да, твоя правда, Лиза; у меня и глаза начинают слипаться.
И, говоря это, старушка вкладывала свои очки в красный, потемневший от времени футляр.
– И тебе пора бросить свое шитье: ты и без того у меня сегодня глаз не спускала с иголки. Надо и покой знать. Убери-ка мой чулок, Лизанька.
Девушка поцеловала руку старушки, встала с скамейки, подошла к столику, взяла чулок, который вязала она, положила его в желтую плетеную корзиночку и вышла из комнаты.
– Ах, ты моя красавица? – шептала старушка, провожая Лизу глазами.
Лиза была, точно, чрезвычайно мила с своими воздушными локонами, с своею тонкою талиею. К ней очень шло ее темное ситцевое платье, ее черный кушачок и пестрый передничек с карманами по бокам.
– Вот, мой родной, – продолжала старушка, когда Лиза вышла из комнаты, – в этой девушке господь бог послал мне настоящего ангела. Ну, что бы я была без нее на старости лет? Уж подлинно могу сказать, что и родная дочь не любила бы меня больше ее. Вот около покрова будет пятнадцать лет, как она при мне, и я не помню, чтобы когда-нибудь хоть раз чем огорчила меня, даже когда была еще ребенком. Этакой девушки и днем с огнем поискать. А какая рукодельница! недаром молилась я об ней угоднику божию Николаю-чудотворцу! Вот хоть бы и ты, мне родной племянничек по отце, да уж любить меня так не можешь, как она.
– Как мне вас не любить, тетушка? у меня не осталось никого, кроме вас… А вы ходите когда-нибудь с Лизаветой Михайловной в театр? Я думаю, в Петербурге чудесный театр, тетушка?
– Вот у него, сударь, что на уме: театры да променады… Уж, никак, тебя, мой батюшка, Петербург-то совсем с ума свел. А?
И в самом деле, Петербург почти свел с ума молодого человека. Да и как не сойти с ума от Петербурга тому, кто не видал ничего краше, не воображал ничего совершеннее своего губернского города?
Здание К*** университета было для него идеалом великолепия. Он часто останавливался перед этим зданием и дивился его огромности, потому что до четырнадцатилетнего своего возраста он ничего не видел, кроме изб, крытых соломою, да полуразвалившегося барского дома, обнесенного плетнем, да ворот, на которых некогда была нарисована домашним гением какая-то аллегорическая картина, размытая впоследствии дождями и бурями…
И после всего этого очутиться в Петербурге, и, как будто нарочно, в ту минуту, когда он, сбросив с себя снеговой саван, обновленный лучами весеннего солнца, блестит и щеголяет и, впервые после пятимесячного усыпления, самодовольно смотрится в свое чудное зеркало в гранитной раме… Согласитесь, что тут есть от чего сойти с ума молодому провинциалу!
Долго ходил он, разинув рот, по Невскому проспекту, в этом созерцательном восторге, который не может быть понятен нам, вечным и равнодушным петербургским жителям. Мимо его проходили разного рода петербургские франты, – и те, которые смотрят на все, вытаращив глаза, и те, которые никогда ничему не удивляются. Они оглядывали его с ног до головы с какою-то презрительною жалостью, а он не замечал этих господ и не подозревал, что доставляет собою такой прекрасный предмет для их острот, которых ожидает награда и в легоньких гостиных, и в великолепных салонах: в первых хохот от души, в последних – едва заметная улыбка.
Он был так счастлив! В эти первые дни своего приезда он жил не в Петербурге, совсем нет: он созидал свой мир, мир фантастический, идеал жизни небывалой; он населял петербургские громады какими-то волшебными существами, чудными созданиями, которые только могут зародиться в голове двадцатилетнего юноши. И если бы можно было уловить все эти туманные образы его разгоряченного воображения, если бы можно было передать словами все эти мечты, которые неопределенно, как китайские тени, проходили в голове его, тогда бы, может быть, вы яснее поняли, как легко, как незаметно переходит человек за роковую черту, которая отделяет его от безумия. И не была ли права тетушка, называя его сумасшедшим?
Тетушка очень любила его, и, между тем как он рыскал по Петербургу, она, сидя под окном в своих кожаных креслах и перебирая спичками, думала, как бы поскорей пристроить его на службу.
– Ветреник, ветреник! – говорила она, по обыкновению, когда он опаздывал к ее обеду или к чаю, а это случалось очень часто.
– Молодо-зелено! Заглазелся… Лизанька, посмотри, не идет ли он?
И Лизанька, по обыкновению, отворяла окно и очень пристально смотрела на улицу.
– Нет-с, не видать, маменька.
И старушка, по обыкновению, прибавляла:
– Экой пострел!
Надобно заметить, что с приезда племянника в доме тетушки произошли величайшие перемены. Комнатка, или, вернее, чулан, в котором лет двенадцать сряду хранился гардероб ее, отдана была молодому человеку. Все эти платья, развешанные в строгом систематическом порядке, с венчального до погребального, в котором она, безутешная, шла на Волково, за гробом своего супруга, – перенесены были за перегородку, находившуюся в ее спальне. Два стула, с перекладинками назади, стоявшие в симметрии по углам гостиной, были отданы племяннику. Тетушка никак не могла привыкнуть к таким переворотам в ее доме и часто говаривала:
– А что это, Лизанька, как будто чего-то недостает здесь?
– Двух стульев, маменька, которые перенесены в комнату Ивана Александровича.
– Да, да! точно, двух стульев.
Все бы это ничего, да старушка не шутя стала посерживаться за то, что Иванушка не возвращался вовремя к обеду, что он вместо часу являлся иногда в половине второго.
Уж это ей было пуще всего не по сердцу. Елизавета Михайловна, бог знает почему, никогда не могла равнодушно слушать, когда тетушка бранила Ивана Александровича (у нее было такое доброе сердце!) – и вот она начала придумывать, как бы отвести от него гнев тетушки.
Вдруг ей пришла мысль, но она так закраснелась от этой мысли… Боже мой!
Надобно было обманывать старушку! Обманывать, ей! Это ужасно! И кого же? свою благодетельницу, свою мать!..
"Нет, нет, я ни за что на свете не решусь обмануть ее!" – Так думала она, остановившись в гостиной перед часами, которые висели на стене.
"Нет, нет!" – и, в раздумье, она взялась за веревку, на которой висела гиря, и вертела в руках эту веревку; потом вдруг мигом вспрыгнула на стул… рука ее дрожала… она перевела назад стрелку.
Сердце ее сильно билось в этот вечер; и с этого вечера Иван Александрович стал всегда являться вовремя к обеду.
Однако старушке казалось это что-то подозрительно. Желудок ее вернее часовой стрелки доносил ей об обеденном часе.
– А что, который час, Лизанька? – спрашивала она.
– Еще только четверть первого, маменька, – отвечала та, потупив глазки.
– Странно! Отчего же мне так есть хочется?
– Извольте посмотреть на часы, маменька… Старушка прикладывала руку ко лбу, морщилась, смотрела на часы и повторяла:
– Да, четверть первого. Странно!
Но кроме всех означенных выше перемен, произведенных в этом почтенном доме приездом молодого человека, произошла еще одна – и очень важная. Елизавета Михайловна, от природы характера веселого и смешливого, стала очень задумываться, чаще бледнеть и краснеть, а иногда даже вздыхать. Ее иголка, когда она сидела за пяльцами, останавливалась в руке и долго, долго была неподвижна. Говорят даже, когда в комнате никого не было, она загадывала о чем-то: закрывала глаза, вертела руками по воздуху и соединяла потом два указательные пальца. А впоследствии изменила этот способ гаданья на другой: только что под руку попадалась ей какая-нибудь астра, она сейчас ощипывала листки и приговаривала: любит, не любит, точно как Гетева Маргарита.
Чтобы подметить, как изменялось личико Елизаветы Михайловны, надобно было смотреть на нее в ту минуту, когда в комнату входил Иван Александрович. Боже мой! как начинало биться тогда ее сердце, как она жестоко кусала свои пунцовые губки!
Но для чего же скрывать? Она мечтала о нем еще гораздо прежде его приезда. Ей так много наговорила об нем старушка маменька, что он и ученый-то, и умный-то, и хорошенький-то. И она, точно, нашла его и ученым, и умным, и хорошеньким. Ну, как можно было сравнить его с этим чиновником, с которым она танцевала прошлого года, когда маменька возила ее в 14-ю линию на балок к своей старой приятельнице, одной коллежской советнице? Этот чиновник только и говорил с ней о том, как занемог у них однажды начальник отделения, и как он ходил к нему на дом, и как он потчевал его чаем, да еще о том, как он устал танцевавши в танцклобе мазурку. Что ж это за разговор?
Правда, с ней говорил там и другой чиновник, и говорил о литературе.
Он подошел к ней и спросил:
– Видели ли вы на театре "Роберта-Дьявола"-с?
Она покраснела и отвечала:
– Нет-с.
– А прекрасная пьеса!
Потом, после нескольких минут молчания, он опять спросил ее:
– Ну, а смотрели ли вы "Михаила Скопина-Шуйского"-с?
Она снова покраснела и отвечала:
– Нет-с.
– А эта пьеса еще лучше "Роберта-Дьявола"-с.
И этот разговор ей не нравился: во-первых, он заставил ее краснеть, потому что она никогда не бывала в театре; во-вторых, этот господин говорил таким грубым, неприятным голосом. А голос Ивана Александровича – о, это настоящая музыка! К тому же Иван Александрович человек ученый, он кончил курс в университете! Иван Александрович говорит так красиво: в его языке всегда столько души. Когда он рассказывает что-нибудь, нельзя не заслушаться. Какие восторженные движения! Да, что ни говорите, а каждое слово его идет от души и в душу!
Так думала Елизавета Михайловна, и любовь незаметно обвивалась около ее сердца, как незаметно повилика обвивается около тонкого стебля молодого дерева. И скоро все фантазии этой девушки стали разыгрываться на одну тему: Иван Александрович. Он всегда был перед нею – и днем в мечте, и ночью в грезе; он повсюду преследовал ее – и в часы забот по хозяйству, и в часы отдыха. Он ходил с нею на рынок и на гулянье… Она начала покупать все припасы дороже прежнего, и добрая старушка покачивала головою.
– Эх, эх, Лизанька, – обыкновенно говорила она, – ведь надо торговаться, дружок!
Они, мошенники, ради брать лишнее.
– Я торгуюсь, маменька.
– То-то, голубчик.
Она хотела молиться, она стояла перед образом спасителя, но молитва была на устах, а в сердце не было молитвы; она видела, как другие возле нее со слезами клали земные поклоны перед этим образом… Да!.. и она, стоя на этом же самом месте, и только месяц назад тому, молилась так же усердно!
"Отчего он не идет? Он хотел прийти в церковь. Где же он теперь? Ах, если бы хоть маменька помолилась за меня! О, ее молитва скорее бы дошла до бога!.." Неделя за неделей уходили, и Лизанька с каждым днем открывала какие-нибудь новые достоинства в Иване Александровиче. 21-го мая его рожденье. К этому дню она готовила для него подарок – кошелек своей работы. Она заранее мечтала, как она будет поздравлять его, и заранее краснела при этой мечте.
Между тем много произошло перемен и в Иване Александровиче: его восторг мало-помалу утишился; он часто сидел повеся голову, не отвечал на вопросы тетушки, бесцельно сидел у окна, глазел на проходящих, хмурил брови и грыз ногти.
– Изволите видеть, чем занимается, – говорила тетушка, глядя на него, – ноготки себе погрызывает. Чему же тебя учили, сердечный, коли ты не знаешь, что от этого ногтоеда на пальце сделается?
Он не слыхал благоразумного замечания старушки; мысли его заняты были чем-то очень важным.
В эту минуту мимо окна проходил молодой человек чрезвычайно красивой наружности и вместе с этим удивительный щеголь: в коротеньком сюртучке самого тонкого сукна, с палкою в руке, с шляпою на ухо…
Иван Александрович пристально посмотрел на него и долго провожал его глазами, потом со вздохом взглянул на свой длинный сюртук и еще больше прежнего задумался.
II
Бывало, мать давным-давно храпела,
А дочка на луну еще смотрела.
Пушкин.
Вечер. Небо бледнеет, и ровный цвет лазури сменяется переливами перламутра; вот протянулась розовая лента на закате: она из чудного пояса радуги; вот за нею другая – темнее, а там багрового цвета, а там ослепительное золото, и, наконец, далее огонь – и на этом великолепном зареве заходящего солнца черная тень колокольни и куполы церкви Николы Мокрого.
Нева не шелохнется в своей гранитной колыбели, и небеса, налюбовавшись ею, заботливо покрыли ее своею золотою парчою…
Дивная, нерукотворная картина!
Что огни ваших роскошных праздников перед этим небесным огнем? Что блеск вашей позолоты перед этим божьим золотом? Что ваши убранства перед этим нетленным убранством?
Иван Александрович загляделся на небо, на Неву и на каменные громады берегов ее.
"Вот уж, кажется, я и привык к Петербургу, – думал он, – а все-таки не могу пройти равнодушно мимо Невы…" – К этой картине нельзя привыкнуть: право, чем долее смотришь, тем больше хочется смотреть, – кто-то проговорил тоненьким голосом возле него.
Это был ответ на мысль его. Он вздрогнул и обернулся в сторону. Перед ним была дама в желтой соломенной шляпке с пунцовым цветком и в длинной черной шали… Он посмотрел ей в лицо: просто красавица.
Она разговаривала с человеком очень высокого роста, в плаще с длинными кистями, из-за которого выказывался фрак какого-то особенного покроя, галстук с огромным бантом, пестрый жилет с голубыми атласными отворотами и по нем массивная золотая цепь, к которой прикреплен был золотой лорнет с разноцветными каменьями. Он прищуривался, поправлял свои виски, помахивал лорнетом, потом с необыкновенным искусством, с удивительною грациею приставил его к глазу, посмотрел на воду и, обратись к даме, произнес сквозь зубы:
– В самом деле, бесподобный вид!
Ивану Александровичу очень понравилась эта дама, и он не спускал с нее глаз.
Постояв немного, дама продолжала прогулку с своим кавалером, который, как уже заметили читатели, принадлежал к тому разряду франтов, встречая которых как-то невольно хочется воскликнуть: пощадите! За ними шел лакей в синей ливрее с желтым воротником и в треугольной шляпе с золотым галуном, вероятно, принадлежавшей его предместнику, потому что эта шляпа была ему не совсем впору и почти закрывала глаза; он время от времени вытаскивал из кармана орехи, грыз их и оставлял за собою таким образом дорожку из скорлупы.
"Верно, это не простая дама, – подумал Иван Александрович, идя вслед за нею. – Какая у нее важная поступь! Как она прекрасно одета, с каким вкусом!.. А ножка-то! просто игрушка, да и как обута… чудо!" Признаться, Иван Александрович стал немножко завидовать ее кавалеру. Да и нельзя было не завидовать!
Завидуя, и мечтая, и любуясь незнакомкою, он незаметно очутился – в Коломне.
Дама, и кавалер ее, и лакей, который уже уничтожил весь запас орехов, потому что шел спокойно, скоро остановились у подъезда одного небольшого каменного дома. Кавалер очень искусно, точно танцуя мазурку, первый подлетел к двери подъезда, с неподражаемою ловкостью дернул за ручку колокольчика, – от этого движения цепь лорнета его раскачалась и стекло лорнета ударилось о медную ручку замка, разлетевшись вдребезги. За всю эту эффектную сцену он награжден был восклицанием "Ах!" и приятною улыбкою своей спутницы.
Дверь отворилась и захлопнулась: все трое исчезли.
Иван Александрович неподвижно остался у двери.
Возвратись домой, он сделался еще скучнее и рассеяннее прежнего.
Это не могло ускользнуть от внимания Елизаветы Михайловны, и она, робко потупив головку, произнесла едва слышно:
– Вы не веселы, Иван Александрович?
– Еще нет десяти часов, – отвечал он, не слыша ее вопроса.
– Нет-с еще. А маменька спрашивала об вас. Потом через минуту молчания, с тою же робостию, так же тихо спросила:
– А вы принесли мне книжки, которые обещали, Иван Александрович?
– Книжки? Ах, да… да, – и он вынул из неизмеримого кармана своего сюртука две тоненькие книжечки, все истертые и засаленные, верно, из какой-нибудь "Библиотеки для чтения".
– Как я рада!
Елизавета Михайловна прыгнула от радости и исчезла.
"Он не забыл моей просьбы", – думала она… Далеко за полночь сидела она у окна своей комнатки с книгою в руках, и сон не тягчил ее век… и сердце замирало и билось.
Наконец она опустила книгу на колена, но уста ее еще повторяли эти очаровательные звуки, эти звуки, от которых билось и замирало ее сердце, которые мешали ей спать:
Я услаждала б жребий твой
Заботой нежной и покорной;
Я стерегла б минуты сна,
Покой тоскующего друга…
Ее развившиеся кудри упадали на полуоткрытую грудь, которая, полная вздохов, дышала сильно и часто.
– Нет, он меня не любит, не любит! – и слезы начали проступать на ресницах бедной девушки, и отяжелевшая голова ее скатилась на оконницу и вся утонула в кудрях.
В эту минуту не спал и Иван Александрович: он, лежа на постели, мечтал о своей незнакомке, украшал ее поэтическими цветками своего воображения, сравнивал с Теклою Шиллера, с Маргаритою Гете, с Юлией Шекспира, с Татьяною Пушкина и бог знает с кем еще…
Он мечтал, как познакомится с нею, как в первый раз явится к ней…
Бедная Елизавета Михайловна! В этих роскошных мечтах он вовсе забыл о ее существовании.
На другое утро, подкладывая транспарант под форменную бумагу для переписки какого-то отношения, Иван Александрович искоса посматривал на своего столоначальника, потому что ему не хотелось ничего делать, решительно ничего, а вот так сидеть сложа руки да мечтать о вчерашней даме… Здесь кстати заметить, что он уже за две недели до этого определился в департамент, по протекции одного начальника отделения, Евграфа Матвеевича… как бишь его фамилия? Так на языке и вертится… Нет, забыл. Ну, да все равно… Евграф Матвеевич был задушевный приятель супруга тетушки Ивана Александровича и по просьбе ее поместил молодого человека до первого случая на четырехсотрублевую вакансию. …Так, Иван Александрович подложил транспарант под бумагу, очинил перо и уже нарисовал первую букву В, но в эту самую минуту кто-то схватил его за руку.
– А, мое почтение, Федор Егорович.
Федор Егорович был помощник столоначальника, молодой человек очень приятной наружности, с прекрасно всчесанным хохлом, при золотых, настоящих часах, а не то чтобы с серебряною дощечкой сзади, ловкий в обращении и вообще, как говорят,
"славный малый". Он был аристократом в своем отделении, потому что имел собственные дрожки и лошадь, вследствие чего иногда позволял себе маленькие вольности, как-то: приезжать четвертью часа позже обыкновенного, и пр. А это уже не шутка! Все мелкие чиновники смотрели на него с особенным почтением, некоторые с маленькою досадою и завистью.
Раз один из его товарищей, подергиваясь и прихрамывая, подошел к нему и, указав пальцем на цепочку, которая красовалась на его жилете, спросил:
– А что, это семилёровая-с?
Федор Егорович посмотрел на вопрошающего очень гордо и нехотя отвечал:
– Золотая.
– Настоящая-с?
– Да.
– Изволите видеть. А что, я думаю, вещь-то ценная? Сколько заплатить изволили?
– Полтораста рублей.
– Гм.
При этом гм он вытащил из кармана довольно большую круглую табакерку, торжественно стукнул по крышке, повернул ее, со скрипом отворил табакерку и поднес к Федору Егоровичу. В табаке лежали три жасминные цветка.
– Не угодно ли? У меня бергамотовый-с.
Федор Егорович небрежно понюхал.
"Вишь, какой фертик, – подумал этот чиновник, – 150-рублевые цепочки изволит себе ежедневно носить!" После этого разговора Федор Егорович получил еще больший вес в своем отделении, а слухи о нем и богатстве его начали даже распространяться по всему департаменту.
Федор Егорович сошелся тотчас с Иваном Александровичем, узнав, что он кончил курс в университете; и не мудрено: он очень любил рассуждать о разных ученых предметах, это была его страсть. На вечерах и балах, в своем кругу, он слыл умницею, и даже очень солидные люди отзывались о нем с величайшею похвалою. Когда речь заходила об нем, они, по обыкновению нахмурив брови, произносили довольно протяжно:
"Фу! какая голова! что ни говорите, а он пойдет далеко!" В случае если между дамами возникал какой-нибудь литературный спор, то слабая сторона спорящих всегда почти посылала за ним: "Где Федор Егорович? Федор Егорович решит, он такой начитанный!" И Федор Егорович, являясь, торжественно решал спор.
Он-то подошел к Ивану Александровичу и взял его за руку, в ту самую минуту, когда тот призадумался над буквою В.
– Как поживаете, Иван Александрович? что новенького? А?
– Вам лучше знать новости, Федор Егорович, вы в свете. При этом Федор Егорович, очень довольный, улыбнулся.
– Да, оно конечно; но все это так надоело! Ну, что такое свет, ровно ничего, ейбогу! Нет, этак, главного – пищи для души, а остальное – пфф… Признаюсь, давно мне хочется заняться чем-нибудь существенным, литературою, например, написать чтонибудь: все-таки составишь себе имя, ознакомишься со всеми учеными. К тому же я чувствую в себе способность сочинять. Вот если я увижу, например, цветок или чтонибудь такое, то у меня сейчас и воспламеняется воображение.
Произнося это, Федор Егорович поправил галстук и стал обдергивать свою черную атласную манишку со складочками, на которой светились три запонки из мнимых брильянтов.
– Послушайте, Федор Егорович, – сказал Иван Александрович после нескольких минут молчания, отводя своего нового приятеля в амбразуру окна, – мне хочется кое-что спросить у вас, вы в Петербурге всех знаете, вам должно быть это известно.
Иван Александрович говорил вполголоса и нарочно удалился от стола, испытав в короткое время, до какой степени некоторые из его товарищей одарены преступною страстию любопытства. Он знал, что для этих господ ничего не может быть приятнее, как подслушать чужой секретец.
Федор Егорович, заложив руки в боковые карманы, нахмурил брови и сделал легкое движение губами, в знак внимания.
Иван Александрович рассказал ему о своей встрече с дамою, о том, как он следовал за нею; описал ее кавалера, ее ливрею, всё до малейшей подробности.
Лицо Федора Егоровича постепенно одушевлялось. Он уже поднял вверх брови.
Иван Александрович продолжал:
– Не доходя Покрова, она, знаете, и повернула налево, в Усачев переулок, я за нею; перейдя улицу, она остановилась у подъезда направо… кажется, четвертый дом от угла…
В эту минуту Федор Егорович схватил с величайшим восторгом руку своего приятеля и, в пылу самозабвения, закричал:
– Ну, так и есть… Она, она!
Надобно было посмотреть на физиогномию Ивана Александровича, пораженного таким нечаянным и таким скорым открытием.
– Может ли быть? так вы, вы ее знаете… знаете? Он ничего не мог произнесть более.
– Гм! Кого я не знаю? Это моя старинная знакомая. Надобно вам сказать, что я у них на короткой ноге в доме; совершенно свой. Не был день, два, – так сейчас посол: что, дескать, давно не были? откушать просят… Знаком ли я?
– Да кто ж она такая, Федор Егорович?
– Известная в Петербурге дама, на всех балах бывает… И какая начитанная; я с ней всегда мазурку танцую.
– А как ее фамилия?
– Марья Владимировна Болотова.
"Какое прекрасное имя!" – подумал Иван Александрович.
– А что, она замужем?
– Нет; вот года четыре как овдовела.
У Ивана Александровича на лице выступила краска.
– Не хотите ли, я вас познакомлю с нею?
"Познакомлю!.. Неужели в самом деле?" – Иван Александрович ужасно как смешался.
– Что ж, хотите, Иван Александрович? Вы ведь еще не выезжали в свет, а тут вы с первого раза ознакомитесь со всем лучшим обществом. Хотите ль? правду сказать, свет придает этак человеку полировку. – И при этом слове Федор Егорович с самодовольною гримасою посмотрел на себя и начал небрежно вертеть цепочкой, на которой висел ключик от часов.
– Что, едем?
– Очень рад-с, – произнес Иван Александрович, очнувшись.
– Прекрасно! Когда же, послезавтра? У Марьи Владимировны по вторникам дни.
Иван Александрович опять призадумался.
– Нельзя ли уж на следующей неделе?
"Тем временем, – думал он, – я сошью себе фрак. Ведь нельзя же явиться к такой богатой даме, не имея модного фрака".
– Так в следующий вторник? О, да мы там будем веселиться, за это я вам ручаюсь.
Грустно было Ивану Александровичу, очень грустно! Фрак по меньшей мере стоит 120 руб., он справился об этом у одного портного, который жил на Невском. На Невском всегда самые лучшие портные, он это давно знал. Откуда же взять ему вдруг 120 руб.? Из деревни его должны были прислать ему в октябре месяце 1000 руб. – годовой доход; но до октября еще сколько времени! Занять? Но у кого? У Федора Егоровича? Ни за что на свете! Иван Александрович не хотел одолжаться никому. У тетушки? тетушка не даст, да еще разбранит, назовет мотом, будет читать целую неделю наставление о том, как должен вести себя молодой человек, как вел себя в молодые лета ее покойник, что надо по одежке протягивать ножки, и проч., и проч. Он знал все это заранее. Что же прикажете делать?
Иван Александрович был в совершенном отчаянии. Он не ел и не пил.
Однажды после обеда тетушка вздремнула, а он открыл машинально какую-то книгу. Вальтер Скотт! А это его любимый автор, давно он не заглядывал в Вальтера Скотта, а бывало – он не разлучался с ним… Он вспомнил свои студенческие годы, то блаженное время, когда он был так беззаботно счастлив, когда в его завидном уединении широко развертывался перед ним мир поэтический, жизнь кипучей фантазии; когда его окружали эти дивные образы, эти вдохновенные создания великих творцов; когда он страдал их бедствиями и радовался их радостями, – он вспомнил все это и хотел читать…
Нет! Теперь ничто не привлекало его внимания: ни величественно-неподвижный образ Саладина, ни томно-смуглое личико очаровательницы Ребекки, ни гордо-угловатое лицо Елисаветы Английской… Нет! перед глазами его кружился в самом соблазнительном виде новый фрак, в мыслях его была сторублевая ассигнация.
Он закрыл книгу и вздохнул. Дверь скрипнула: в комнату вошла Елизавета Михайловна.
Она была очень бледна; в чертах ее лица выражалось что-то страдальческипрекрасное; и вы бы, взглянув на нее в эту минуту, увидели, что она, бедная девушка, любила его всею силою души своей, любила просто, как любят все бедные девушки, без подготовленных сцен, без кокетства, без этих утонченных соблазнов, которые так чудесно изобретают сердца, бьющиеся под батистом и бархатом.
Она подошла к Ивану Александровичу и села возле него. Видно было, что она хотела начать говорить, но как будто не решалась, еще как будто собиралась с духом.
Несколько минут в комнате было тихо, лишь слышалось за перегородкой храпенье старушки.
Наконец Елизавета Михайловна решилась говорить. Она сказала вполголоса:
– У вас что-то есть на сердце, Иван Александрович; с некоторого времени вы стали гораздо скучнее, гораздо…
– Это вам так кажется, – сказал он, перебирая листы книги.
– О, нет! Отчего же вы не хотите быть со мною откровенным? Отчего вам скучно, Иван Александрович, скажите мне? Я давно собираюсь вас спросить об этом.
Иван Александрович посмотрел на нее… В ее выражении было так много убедительности, так много чистосердечия.
Он улыбнулся.
– Ну, право, вам так показалось, Елизавета Михайловна. Я точно так же весел, как и в первые дни моего приезда сюда.
– Бог с вами! видно, я не заслужила вашей доверенности.
И, огорченная, она непритворно вздохнула. Ивану Александровичу стало жаль ее.
Он подумал: "Какая добрая девушка!" – Вы не можете помочь моему горю, – сказал он после минутного молчания.
– А почему знать?
– Видите ли, Елизавета Михайловна, коли сказать вам правду: мне нужны деньги – и скоро, а это очень беспокоит меня. Вы знаете, что у тетушки нельзя просить…
– Видно, кошелек, что я вам подарила, несчастлив?.. А сколько вам нужно денег?
– Рублей сто.
– Только? И вы будете веселы, если достанете эти деньги?
– Да откуда достать их, Елизавета Михайловна? Личико Елизаветы Михайловны вдруг просветлело; она вспорхнула со стула, исчезла – и через минуту снова явилась.
– Я принесла вам деньги, Иван Александрович.
– Как, деньги? Откуда? Что это значит?
– Вы теперь будете веселы, не правда ли?
Иван Александрович остолбенел от удивления и не мог ничего вымолвить.
– Это мои собственные деньги. Я семь лет копила маменькины подарки: тут, я думаю, будет больше ста рублей. Я хотела сделать салоп… теперь мне не нужен салоп, – и она протянула руку, чтоб отдать ему кошелек, и вся вспыхнула.
– Нет, я не возьму эти деньги, Елизавета Михайловна, ни за что на свете не возьму.








