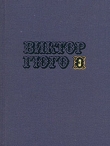Текст книги "Мы сгорели, Нотр-Дам"
Автор книги: Иван Чекалов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)
Иван Дмитриевич Чекалов
Мы сгорели, Нотр-Дам
© Чекалов И., текст, 2020
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020
Соборная площадь
Предисловие
Сколько-то месяцев тому назад, отдыхая от московской беготни, автор этой книги побывал в Париже. Он пробыл там всего неделю – и многое успел. Успел подняться по лестницам Монмартра, оглядеть Париж с вершины Эйфелевой башни, послушать гитару там, где, как казалось, гитары оказаться не могло (в самых грязных и забытых переулках, в самых дешевых ресторанах, у входа в башню Монпарнас и у парковки рядом с этой башней).
За какую-то неделю автор, глядя во все глаза и держа ухо востро, осмотрел все, что ему хотелось осмотреть, и, довольный, клюя носом от усталости и недостатка сна, стал собираться домой. Уже вылетая, он вдруг понял, что не увидел главную французскую святыню, Нотр-Дам. Ладно бы не посетить Дом инвалидов – с этим можно смириться, с этим можно жить, – но Нотр-Дам! Впрочем, вскоре автор пришел к выводу, что не посетил сейчас – посетит потом, не велика, в конце концов, беда. И так же, как из его головы выветрились Лувр, Мулен Руж и Пер-Лашез, исчезла всякая мысль о Соборе.
Спустя три дня загорелся Собор Парижской Богоматери.
Этот пожар и породил настоящую книгу.
Октябрь 2019
Шпиль
Моему дорогому брату Жану
15 апреля,
Нотр-Дам
Моему дорогому брату Жану
Не знаю, где ты сейчас. Письмо шлю по адресу, который мне тут дали. Анси, улица Сомейе, дом семь. Чего ты там делаешь? Я думал, ты в Париже еще, а тут мне сказали, что ты теперь в Анси. Анси. Это где вообще?
А я в Париже. Ты уехал в Париж четыре года назад, и все только и говорили четыре года, что Жан уехал. Жан уехал! Мне тоже захотелось в Париж. Все говорили: «Поль, куда ты поедешь, у тебя же тут Анна твоя!» И смеялись. Но я с Анной поговорил. Пришел к ней, посидели, она все поняла. У нее такие красивые ступени. Ну ты знаешь. А крыша у нее поехала, это да. Вот был бы ты дома, поправил бы. Кстати, что ты там строишь? Опять свои библиотеки? Не знаю, кто столько книжек может прочитать. Ну вот только ты и можешь, наверное.
Мне, когда ты уехал, совсем стало сложно. Тебе-то хорошо, ты умный, а я что? Мне же много не надо – я только к Анне приходил, и все. С тобой мы помнишь как? Ходили вместе, и ты, такой гордый, голову свою кудрявую поднимал, и я тоже как будто поднимал. Ты еще ждал меня на скамейке, когда я Анну подкрашивал, ей это нравилось, помнишь? А потом рассказывал мне, как у нее что называется, части тела ее. Колонны там, фронтон луковый, карниз. Помнишь? Я помню. А когда ты уехал, меня гнать стали. Я к Анне ходил, как обычно. Ну сидел там, обнимал иногда, ты знаешь. Кто-то ходит мимо, а мне все равно. Я на них не гляжу даже. А как-то раз там дети оказались, увидели меня. Плеваться стали, рожи мне корчить. Камнями кидались. И стали меня тогда гнать. Все вообще, не только дети. Я по ночам стал выходить, а они собаку выпустили, злющую такую. Ну я все равно как-то выбирался. Долго так было. А потом смотрю – и люди, кто видят меня, даже не плюются уже, а отворачиваются просто. Очень обидно было. Даже собака гавкать перестала. Была бы мама жива, она бы погнала их всех. Помнишь, как мама на Моро кричала, когда мы маленькие были? Очень громко. А Анна бы ей понравилась. Только крыша у нее поехала, да.
А в Париже я тут работаю на стройке. Вместе с Жюли. Она давно живет в Париже. Хорошая. Ноги у нее, как доски в заборе. Очень большие и коричневые. Помнишь, у нас за рощей был такой дом? С забором. Мы стучали по этому забору, помнишь, а потом выходил этот жуткий черный Моро и кричал: «Опять эти дети! Надо их убить, этих детей!» Вот Жюли, когда отворачивается, очень на забор этот похожа. Ногами.
На стройке не только Жюли. Жюли подруга. А работаем мы с Н. Над Н. Вместе с Н. Н удивительная, Жан, я таких, как Н, еще не встречал. Она удивительная. Ни на кого не похожа. Я помню, как ты мне показывал ее фотографии, давно. Мне тогда неинтересно совсем было, но это же совсем другое! Она когда перед глазами, такая большая, красивая, удивительная, невероятная! Ее плечи поднимаются так высоко надо всем, как будто, кроме них, и нет ничего. Такие бледные плечи. Жалко, я говорить не умею. Ты бы так про нее сказал красиво, наверное! А глаза у нее, как какие-то чудесные цветы, такие красивые и такие глубокие. Я когда приехал только в Париж, думал, что буду спать где-нибудь на скамейках, пока денег не найду, а теперь я рядом с Н сплю, каждый день. Жюли смеется надо мной и говорит: «Поль, какой ты смешной, приходи ко мне, ты можешь поспать у меня!» Но она по-доброму смеется. Жюли добрая. А когда не совсем еще вечер, когда солнце опускается, все уходят, Жюли уходит, другие рабочие уходят, и только мы с Н остаемся. На нее так красиво падает тень, что кажется, будто она горит. А если встать прямо за ней, особенно когда не совсем еще вечер, то как будто только ты и есть вместе с Н. А больше нет никого.
Н меня тоже любит. Когда жарко, рядом с ней прохладно становится, а когда холодно, можно совсем к ней прижаться – и становится тепло. Н удивительная. Я сначала в Париже вообще ни на что не смотрел, только на нее. И хочется все-все запомнить, части тела, как ты рассказывал, помнишь? И я запомнил. Лучше всех на стройке теперь, никто лучше меня Н не знает. Неделю назад я сидел с ней ночью, прижался так и тихо сказал: «Я тебя люблю». Так сердце у меня стучало, как будто землетрясение какое. Или собака гавкает так, очень громко. Никогда еще так не стучало. Смотрю на Н, дрожу, а на нее луна падает. Вся Н побелела, представляешь? И тогда я понял сразу, что она меня тоже любит. Так хорошо, Жан, так хорошо! Ты даже не представляешь.
Но мы тут не одни. Сначала мне было все равно, а потом я из-за этого стал злиться. Каждый день на Н таращатся. Приходят и смотрят, смотрят, фотографируют, опять смотрят. И еще так закрывают глаза, будто что-то понимают. Да ничего они не понимают! А есть совсем ужасные. Они другим рассказывают. Показывают, например, на ее плечи, на ее удивительные, невероятные, прекрасные, чудесные плечи и чепуху какую-то говорят про них. А остальные кивают, будто понимают. Не понимаете! Ничего не понимаете! Они все дураки, Жан, глупые, злые дураки. Они ее совсем не понимают, из-за них она не всегда со мной. Она всегда не только со мной, она всегда всех любит! За что их любить, Жан? Они же дураки! Они с ней не целиком, у них есть еще книги, картины, у них еще что-то есть, Жан! Еще что-то, кроме нее! А у меня ничего больше нет, мне ничего больше не нужно! Когда я засыпаю, я вижу во сне Н вместо окон, вместо облаков, вместо травы. Я люблю ее, Жан!
Жюли сегодня спросила меня, а как там твой дорогой брат Жан? А я ответил: не знаю, Жюли, он не писал мне уже два месяца, как я могу знать. Мне тебя не хватает, Жан. Ты бы мне что-то посоветовал. Я сижу тут, уже почти вечер, Жюли отошла покурить. Она взяла спичку, а коробок оставила здесь, у шпиля, в лесах. Шпиль очень красиво светится на солнце, как будто горит. И вокруг так много людей… И все смотрят на нее, глаза так выпучили, помнишь, когда я Анну целовал, они так же смотрели? Бедная Н. Она просто не видит. Надо ей помочь. Они глупые, злые, они так много всего видели, что больше не видят ничего. А я вижу. Все, хватит ждать. Не то они будут пялиться завтра, и послезавтра, и послепослезавтра. От меня отворачиваются, а от нее не могут. И солнце так красиво падает. В последний раз касаюсь тебя, Н. Больше к тебе никто не прикоснется. Они поймут. Они увидят. Я люблю тебя, Н. Пока, Жан. Прости, что опять про дома. Я больше не буду.
Портал
Je suis[1]1
Я есть (фр.).
[Закрыть]
Любой город начинает жить с утра. Москва уже в восемь часов спускается на эскалаторе в метро – нахмуренная, вечно чем-то недовольная; пунктуальный Лондон просыпается к шести (потом, правда, весь день спит на ходу); Нью-Йорк, после короткой передышки на ночь и разбавленного кофе, к семи часам снова горит всеми своими окнами – как будто и не спал. И то же самое Берлин – тот город строгий, лишний сон себе не позволяет. И то же с Прагой, Токио, Мадридом… Только Париж устроен по-другому. Так сразу не поймешь, что наступило утро. Разве что свет – до того белый, лунный – синеет понемногу. И тени появляются – длинные, прямые.
Париж живет по вечерам. Когда солнце прячется за краем неба, а Елисейские Поля – за Триумфальной аркой, когда начинают петь клошары и зажигают фонари, на улицы Парижа высыпают люди: с кем-то или сами по себе; выгуливающие, может быть, собак; держащие в руках портфели, сумки и корзины. Вечером все светофоры, словно сговорившись, светятся зеленым, опавшие листья бегают наперегонки. Деревья шуршат – ветки касаются друг друга, кроны кивают девушкам. Около ресторанов мяукают кошки. А луну видно всю ночь – даже сквозь облака.
Пятнадцатого апреля в доме 10 по улице Азиль Попенкур проходила вечерняя летучка. Редакция газеты Nicolas periodiques[2]2
Периодика Николя (фр.).
[Закрыть] придумывала новый номер. Холодный воздух заползал сквозь приоткрытое окно в уютный светлый кабинет, почти целиком занятый широким письменным столом. В дальнем углу на стене висели отобранные карикатуры на обложку, рядом, за распахнутой дверью, виднелся темный коридор. Слышался скрип маркеров, карикатуристы изредка поднимали головы от рисунков и перебрасывались парой слов. Из пяти человек, работавших в редакции, курили двое – карикатурист Филипп и колумнистка Нина. За неимением пепельниц пользовались забракованными карикатурами. Пепел лежал на хитро подмигивавшем кому-то президенте Франции, на желтом спасательном жилете, на красном дуле игрушечного пистолета… В окно подул ветер, пепел разлетелся по редакции. Главный редактор, Жорж Пьер, бледный скелет в круглых очках, чихнул. В знак солидарности молодая колумнистка Адель тоже чихнула – только тихо, отвернувшись. Жорж Пьер благодарно посмотрел на нее и, встав с кресла, гаркнул:
– Это невозможно! Филипп, Нина, не курите в здании. Дышать уже нечем от ваших сигарет.
– Ты закупи пепельниц лучше на редакцию. – Филипп, пожилой рыжий мужчина, с глубокой морщиной посередине лба и россыпью мелких на всем лице, затянулся и уныло посмотрел на Жоржа Пьера. – Не ущемляй права курящих.
Снова замолчали. Жорж Пьер покрутил головой, словно что-то забыл, и, наткнувшись глазами на Адель, улыбнулся:
– Ладно уж. Курящих… Сдаем послезавтра, а не готово ни черта. Нина!
Из-за стола выглянула маленькая кудрявая голова. В зубах у головы была тоненькая сигарета.
– Помнишь?
– Помню.
– Статья про жилеты. Сделай, пожалуйста. Все тебя ждем… Так. Что еще… – Жорж Пьер наклонился к Адель, и та шепнула ему что-то на ухо. – Да, конечно! Обложка. Есть у нас конечный вариант? Филипп, Андре?
Андре Симон, пятидесятидвухлетний седеющий карикатурист, смотревший всю летучку исключительно в окно, обернулся на главного редактора. В руках он вертел монетку в один евро.
– Все в порядке? – спросил Жорж Пьер.
– Что?
– Неважно выглядишь.
– Нет, все хорошо. – Андре поднялся из-за стола и медленно подошел к стенке с карикатурами. – По поводу обложки. Все ждут карикатуру на президента. Будет им. Завтра двадцать третий акт жилетов, надо туда бить.
– Ох, я вам напишу… – Нина хихикнула и снова склонилась над бумагой. Она затянулась и стряхнула пепел – комочки рассыпались по бумаге.
– Вот. Предлагаю так.
Андре показал монеткой на одну из карикатур. На красном фоне голова президента Франции, широко выпучив глаза и улыбаясь треугольником зубов, говорила: «Я начну с жилетов». В углу стояла белая подпись: «Реформы».
– Черт его знает. Мало. – Жорж Пьер подошел к карикатуре и взялся за край листа. – Нерва нет.
Андре вернулся к столу. Мелькали прожекторы Эйфелевой башни, где-то далеко проехала «скорая помощь». Вдруг Филипп поднял голову.
– А про Нотр-Дам мы чего, – спросил он, – молчим как рыбы?
О раму стукнулось окно – в редакцию залетел сквозняк. Жорж Пьер зябко передернул плечами:
– Нина, окно прикрой, пожалуйста.
– Так душно будет!
Главный редактор снова чихнул. Нина в последний раз затянулась, бросила окурок на улицу и закрыла окно. Жорж Пьер протер нос салфеткой.
– Ну а чего… – сказал он неуверенно, – Нотр-Дам.
– Так горит же. – Филипп обвел глазами редакцию.
– Да знаю, что горит. Нина, они тушат его вообще?
– Шлангами особо не потушишь. – съязвила Нина.
– А вертолеты?
– Ну какие там вертолеты? Крыша же…
– А, ну да, ну да… – Жорж Пьер почесал в затылке и растерянно взглянул на Андре. – Что думаешь? Сможем привязать?
Но Андре не мог ответить главному редактору Nicolas periodiques. Он уже не был в доме 10 по улице Азиль Попенкур. Он был в Нотр-Даме вместе со своей женой Николь.
Они познакомились десять лет назад. Андре было сорок два года, он умел рисовать, корчить рожи и готовить пасту карбонара. По словам друзей, получалось хорошо. К тому моменту Андре успел переменить десяток профессий – грузчика, клоуна в цирке, официанта, художника-мультипликатора для одного заслуженно забытого мультфильма, дворника. Жил он не то чтобы впроголодь, но бедно – ел немного, любил карбонару и зеленые оливки, а кроме этого, готов был жить на хлебе и воде. И жил.
За месяц до того Андре потерял очередное место – учителя французского в начальной школе. Впрочем, эта работа настолько не соотносилась с сорокадвухлетним Андре Симоном – Андре, не получившим высшего образования, Андре, хоть и читавшим Флобера и Золя, но помнившим лишь несколько их книг, – что он не очень-то о ней жалел. А выкинули его за то, что на уроке, посвященном букве «e», он охарактеризовал действующего президента Франции неприличным словом, начинающимся на эту букву. Только за восторженные взгляды детей, полные трепетного почтения к красивому ругательству, Андре готов был простить и президента, и школу, и даже эту самую несчастную букву «e».
Спустя пару недель, после обидного отказа в бухгалтерии маленькой аптеки, Андре возвращался по ночному Парижу домой. Шел дождь, сентябрь набирал силу, а куртка на Андре уже заметно расходилась в двух местах. На улицах было пусто. Капли барабанили по крышам.
Повернув на свою улицу, Андре увидел мима. Он изображал серебряного трубочиста – щетка валялась в луже на асфальте, а отломанную трубу он держал между ногами. Высыпав из пластикового стаканчика мелочь, мим старательно ее пересчитывал. Мелочи было много. Промокший до нитки Андре пару раз кашлянул. Мим медленно поднял на него глаза и, покачав головой, протянул деньги Андре.
На стеклах Нотр-Дама, путаясь с тенью от вздымавшегося позади аркады шпиля, горело солнце. Бирюзовые апостолы грустно смотрели на горгулий, а святой Фома, как будто что-то вспомнив, притронулся к виску. Западная роза пряталась от глаз зевак – снаружи на ней был виден только вписанный в квадрат витражный круг. Чуть ниже, под балюстрадой, гордо что-то высматривали ветхозаветные цари. Отгороженный тремя порталами от соборной площади, Нотр-Дам возвышался над островом Сите, словно престол над алтарем.
Андре, изображая президента Франции, стоял на постаменте перед Нотр-Дамом. Костюм был ему велик на три размера, а рукава, казалось, доставали до колен. Вокруг столпились люди. Время от времени кто-то из них подкидывал на постамент монетки. Тогда президент начинал говорить.
– Это что? Это что такое! Вы видите, в каком состоянии достояние республики? Видите? В а-ва-рий-ном! Нам надо спасать достояние! А как? Как, спрашиваете вы? Верно! Верно, мальчик! Три буквы, священная мантра французского народа. С – как свобода волеизъявления! Ш – как широта политических воззрений! А – как ангельская честность по отношению к друзьям из-за границы! Верно! Верно, девочка! США! США поможет нам подняться на ноги! – В этот момент Андре вставал во весь рост, и костюм ему внезапно оказывался мал. – И тогда я буду везде. В каждом телевизоре. В каждой новости. Слышишь, Нотр-Дам! Авария, вот что тебе нужно! Вот что нужно французскому народу! Вот что нужно мне!
И Андре снова замолкал – до того, как ему не подкинут еще немного мелочи. К вечеру людей на соборной площади почти не осталось. В костюме было жарко, Нотр-Дам смертельно надоел, и больше всего Андре хотелось вернуться домой и выпить стакан сельтерской воды. Но уйти он никуда не мог – перед ним, прямо на мостовой, сидела молодая девушка и что-то увлеченно рисовала. Денег она не кидала, но зато имела такие удивительные зеленые глаза, что Андре, даже когда моргал, продолжал их видеть. Она носила опрятное черное каре, лицо ее улыбалось, как лицо человека, не привыкшего хмуриться, а на подбородке темным заманчивым пятнышком выделялась очаровательная ямочка.
– Мадмуазель, – нарушая установившееся молчание, произнес Андре, – позвольте бедному президенту задать вам один нескромный вопрос.
Девушка улыбнулась:
– Когда президент начинает так разговор – жди беды.
– И все же. Кого вы рисуете?
– Вас, господин президент, – ответила девушка, вставая. – Хотите взглянуть?
– Ужасно. То есть – очень.
Девушка поднесла к глазам Андре блокнот. Там был изображен президент Франции в костюме, который был ему велик на три размера. Огромная голова президента болталась на крошечном тщедушном теле, он улыбался и говорил: «Авария! Нам нужна авария!» Андре задумчиво пробормотал:
– Я так сразу и подумал…
– Что подумали? – поинтересовалась девушка.
– Что вы не только красивая, но и талантливая… – Андре удовлетворенно кивнул. – Позвольте узнать ваше имя.
– Николь!
Девушка убрала блокнот в сумку. Края ее пиджака дрожали на ветру, от нее пахло свежестью, свежей листвой.
– Николя, – Андре поклонился, – президент. По выходным и праздникам скрываюсь за личиной мима. – Андре помолчал. – А это вы для себя рисуете?
– Для работы.
– Ах вот оно что, – протянул Андре. – Значит, художница? Картины пишете? Социальные?
– Карикатуры, – девушка улыбнулась. – В Nicolas periodiques. Слышали?
– Слышал… Вы знаете, в школе мне говорили, что я неплохо рисую.
– Карикатуры? – осведомилась Николь.
– Картины. Особенно удачной признавали работу «Падающий пожарный». Она у меня в ванной комнате висит, до сих пор. Вроде зеркала… А вам, случайно, художники лишние не нужны?
Николь расхохоталась.
– А вы приходите завтра с утра в редакцию. Посмотрим на вас… господин президент.
Холодный ветер обдувал нотр-дамский шпиль, протыкая небо яркими угловатыми звездами. Андре и Николь разошлись по домам. Они еще и сами ни о чем не догадались, ловили только себя на невольной улыбке – с чего бы ей здесь взяться? – и на странном, взволнованном настроении, когда ничего невозможно сделать: ни порисовать, ни пасту приготовить. Кроме них двоих только Собор Парижской Богоматери слышал это чувство. И тоже улыбался, пропуская лунный свет за витражи.
Первый месяц работы карикатуристом прошел для Андре ужасно. Маркер валился у него из рук, бумага соскальзывала со стола, а каждая свежая идея на поверку оказывалась вовсе не такой уж свежей. К тому же выяснилось, что навыка рисования – единственного навыка, за исключением готовки, которым Андре раньше гордился, – не только не хватало для газетных разворотов, но даже для маленьких портретов-шаржей.
В коллективе отношения у него не задались – рыжий маэстро Nicolas periodiques Филипп терпел его только из-за Николь, в которую, как оказалось, был давно влюблен; главный редактор Пербе, осматривая очередной его рисунок, сурово супил брови, и лишь высокий худощавый карикатурист Жорж Пьер жалел Андре. Впрочем, его в редакции тоже не очень-то любили. Не будь там Николь, Андре наверняка ушел бы из газеты, но там была Николь – Николь!
Когда прорехи в художественном образовании Андре стали совсем невыносимы, Николь снова повела его к Собору. Они сели на площади, ровно в том месте, где пару месяцев назад французский президент отчитывал Собор, и достали блокноты. Николь обернулась к Андре.
– Рисуй, – приказала она.
– Есть, капитан. – Андре достал карандаш. – Вопрос дозволяете?
– Дозволяю.
– Что рисовать?
Николь махнула рукой в сторону Собора. На ее очках блеснуло солнце.
– Нотр-Дам, – произнесла она на выдохе.
– Де-Пари?
– Де-Пари.
И Андре начал рисовать. Спустя полчаса Николь заглянула в его блокнот и перекрестилась.
– Андре, – спросила она испуганно, – это что?
– Это Собор, – невозмутимо ответил Андре.
– Нет, Андре. Собор – вот, – Николь кивнула в сторону Нотр-Дама, – а это черт-те что. Ты рисуешь карикатуру. Увеличивай, делай смешным, глупым. Хватит стирать, – Николь вырвала из рук Андре ластик и убрала к себе в сумку, – рисуй плохо!
Спустя неделю свежий номер Nicolas periodiques глядел на изумленные лица прохожих из всех витрин, киосков и продуктовых магазинов. На его обложке Нотр-Дам, выпуклый и глупый, с двумя башнями, наклонившимися друг к другу в виде сердца, смотрел розой на Францию и перевирал «Марсельезу»: «Allons enfants terrible». Под самим Собором Золя вместе с Флобером держали за шкирку президента Франции и надували щеки.
– Слушай, может, тебе воды?
Жорж Пьер сел около Андре и положил ему руку на плечо. В редакции становилось душно, Адель то и дело поглядывала на улицу, на часы – и снова за окно. Андре убрал монетку в карман, мотнул головой, скользнув взглядом по рыжей макушке Филиппа, разбросанным карикатурам, кудрявой голове Нины, и наконец сосредоточился на двух дужках, расходящихся к ушам главного редактора Nicolas periodiques.
– Нет, ничего, – тихо ответил он. – Давление, наверное… Я отойду на минуту?
– Да, конечно. Точно ничего не нужно?
– Нет, нет…
Андре вышел из комнаты.
Филипп все еще скрипел маркером по бумаге. Сигарета в его зубах окончательно превратилась в черный тонкий окурок, с которого даже отказывался падать пепел. Некоторое время все молча на него смотрели. Наконец Жорж Пьер не выдержал:
– Филипп, обложку все равно надо.
– Надо, – окурок перекатился во рту Филиппа.
– С Собором?
– С ним.
Жорж Пьер беспомощно взглянул на Нину. Колумнистка сложила руки на груди и поежилась.
– Слушай, – она почесала затылок, – а может… без?
– Почему это?
– Ну как. Жалко?.. – скорее спросила, чем ответила Нина.
Миниатюрные часы на руке Адель медленно готовились показать одиннадцать, и чем стрелки были ближе к этой цифре, тем больше Адель, расстраиваясь, бросала умоляющие взгляды за окно.
– Кого жалко? – Филипп рассмеялся. – Здание?
– Людей. Почему сразу… здание. На Андре посмотри.
– Андре тут при чем? Извини, Нина, мне надо работу доделать. Жорж, можешь по-быстрому горящий Собор нарисовать? Идея есть.
Жорж Пьер стал рисовать горящий Нотр-Дам. Ночь заползала в Париж, становились слышны птицы. Адель обреченно вздохнула и еще раз поглядела на часы.
Андре сидел в туалете редакции Nicolas periodiques и пытался вспомнить черты лица своей жены. Вспоминались брови, уши, нос… Но все ее манеры, каждая деталь, лишь на секунду вспыхнув в голове Андре, тотчас же снова исчезали. И как он ни старался, вспомнить заново Николь не удавалось. Он стукнул по кабинке. Андре пытался остановить мысль на жене, но вместо ее близкого, дорогого имени вдруг появлялись чужие имена, вместо ее темных волос возникала кудрявая макушка Нины, вместо очаровательной улыбки – сухая линия губ Пьера. Он попытался вспомнить ее глаза, ее чудесные зеленые глаза, которые она то ли из скромности, то ли из кокетства прятала все время за солнцезащитными очками. В этих глазах ему всегда виделся пожар, какая-то горящая стена, за которую можно было попасть только тому, кто вместе с нею был в огне. Андре снова вспомнил про Нотр-Дам – горевший Нотр-Дам, где горел он, где когда-то горела его жена; Нотр-Дам, вместе с которым горел весь Париж.
Она ушла раньше него. Стрелять начали в одиннадцать, а в девять она уже ушла. Он в девять еще спал. Она тихо встала с постели, надела обручальное кольцо (перед сном она всегда снимала его и клала на небольшую подставку около кровати, рядом с лампой, книгой и карандашом), схватила тост и, одевшись и взглянув на него в последний раз, ушла. После Андре пытался повторить то же самое множество раз – выключал свет, снова включал, тихо вставал с постели, хватал тост (обручальное кольцо он не снимал), но никогда не мог дойти до двери. У двери он всегда поворачивал назад. Она в тот день назад не повернула. В одиннадцать началась стрельба, а в десять он уже вышел из дома. До редакции можно было добраться на метро, автобусе, такси. Андре пошел пешком. Было холодно, зима уже перевалила за январь, а на нем только и было, что легкое пальто. Он вдыхал холодный воздух и останавливался возле каждого киоска. Последняя его карикатура казалась ему особенно удачной. В одиннадцать уже стреляли, а в половине одиннадцатого он проходил мимо Нотр-Дама. И что-то дрогнуло в Андре Симоне в десять сорок. В десять сорок он решил зайти в Собор.
Андре не верил в Бога. И все же иногда, в самые неожиданные моменты своей жизни, когда Андре даже не вспоминал про Бога, Бог как будто вспоминал про Андре. Сам Андре не смог бы растолковать, что это значит. С ним не случалось никаких совсем уж необъяснимых и неведомых чудес, не было никаких голосов, пронзающих небесный свод, никаких горящих смоковниц, да что там: даже поднеся из игривого интереса спичку к можжевеловому кусту, Андре не смог его поджечь. Но иногда – чувствуя полоски света, разделяющие его квартиру на шахматную доску; когда покупал в магазине хлеб, глядя в глаза кассирше, в которых отражался он, и хлеб, и что-то еще – непонятное, темное, обволакивающее, – смущенно протягивая деньги, потому что та уже начинала хмуриться; изо дня в день, переходя дорогу по пути к редакции перед расступающимися машинами и под расступившимися облаками, – иногда Андре чувствовал Бога. В тот день в десять сорок утра Андре не мог не зайти в Собор, хотя изо дня в день уже пять лет проходил мимо него и даже не поворачивал головы. Он отключил телефон – и все звонки, сообщения, все новости и эсэмэски, отправленные главным редактором Пербе, Филиппом, Жоржем Пьером, уплыли в темноту экрана. Николь написать мужу не успела. На следующий день появились чужие люди – и все зачем-то плакали, все выходили на улицы, поднимали руки. И говорили: «Je suis Nicolas».
Андре знал, что они не Николя. Николя умер в тот день, в одиннадцать – вместе с Николь. В Нотр-Даме Андре провел двадцать минут. После он сам не мог вспомнить, что там делал. В одиннадцать часов утра застрелили Николь Симон – а он в одиннадцать только выходил из Нотр-Дама.
Спустя четыре года, сидя в туалете Nicolas periodiques, Андре беззвучно плакал. В сжатом кулаке он все еще держал маркер. За стенкой слышались голоса. Все в редакции напоминало Андре жену. Створки окон были отпечатком ее ног, складки штор – изгибами плеч. Неправильный контур ее носа отражался в ручке двери, а ее волосы повторялись в полосках света, откидываемых жалюзи. Глаза Николь были в горящем Нотр-Даме.
Андре вышел из кабинки, подошел к раковине и вгляделся в отражение. В зеркале стоял полноватый седеющий карикатурист с мешками под красными глазами, с ввалившимися щеками и с маленьким сжатым ртом. Андре посмотрел себе в глаза. За красными сосудами виднелся отблеск света. И то ли лампа в эту минуту подмигнула Андре, то ли он сам моргнул – но отблеск на секунду потемнел. В темноте Андре увидел кабинку туалета, приоткрытую дверь. За потухшим отблеском Андре чувствовал Бога.
Нотр-Дам горел. Прошло четыре часа с появления маленькой искры в районе шпиля – сейчас огонь был уже везде. Целые бригады пожарных сновали по свинцовой крыше, доставали и убирали лестницы, уезжали и приезжали на больших машинах. Тонкие струи воды, кружась с пламенем на крыше, рождали дым, и понемногу дым заволок весь Нотр-Дам. Спряталась крыша, уже обрушился шпиль, не было видно башен, стрельчатых порталов, витражей. Нотр-Дам умирал. Снаружи сновали люди, весь Париж следил за Собором, вся Франция, весь мир. Внутри Собора был только Андре.
В руках Андре все еще держал маркер. И думал он все еще только о Николь. Собор горел, а Андре горел вместе с ним и мечтал только об одном – наконец-то догореть. Андре осмотрелся. Пол был усеян обломками. Новые падали со сводов каждую минуту. Пахло гарью. В конце центрального нефа, за главным алтарем, огнем светился крест. Рядом стоял Христос. Он надул губы и сказал:
– Обидно.
– За что? – спросил Андре.
– Такая красота была.
Христос поднял обломок шпиля и посмотрел наверх. Андре взглянул туда же. На крыше стоял мощный седой старик в крестьянской рубахе, подвязанной ремнем, и поливал из огромного ведра огонь. На его длинной бороде лежал пепел, а брови не разгибались от тяжелого прищура. Старик расторопно бегал по крыше и пытался потушить огонь. Его фигура показалась Андре смутно знакомой. Он вопросительно посмотрел на Христа.
– Писатель. Представитель, временный. – Христос улыбнулся и посмотрел на Андре. – Ну что? Горим?
Андре промолчал. Он стоял в туалете редакции и смотрел в тупое мутное отражение перед глазами.
– Зачем? – тихо спросил он.
– Не знаю, Андре, – Христос грустно посмотрел на Андре и подошел к нему вплотную, – сам не знаю.
– Почему? – Андре опустил голову на грудь Христа. – Почему? Я хочу к Николь, хочу домой!
– Знаю, Андре. Скоро.
– А Николь?
– Николь давно там.
Андре протер кулаком глаза.
– Забери меня, – жалостливо попросил Андре. – Пожалуйста, забери. Я устал…
– И я устал. Горим, Андре, – Христос улыбнулся, – горим…
Слышались крики пожарных, дым забирался внутрь Собора, становилось тяжело дышать. Андре закашлялся.
– Возьми, – Христос протянул Андре бутылку воды.
– Святая?
– Сельтерская.
Андре сделал несколько глотков. По вкусу вода напоминала ту, что у него в квартире текла из-под крана.
– Боже… – Андре поднял глаза на Христа. – А ты есть?
Христос улыбнулся и показал на старика сверху. Тот протер рукой запотевший лоб и громко чихнул. Воздух из его ноздрей смыл розы, башни, свалил с лестниц кричащих пожарных. От звука лопнули стекла в витражах, засигналили перевернувшиеся машины. А пепел с его бороды забрал с собой горящий Нотр-Дам, обвалившуюся крышу, шпиль, горгулий, Бога и Андре.
Андре помотал головой, нащупал в кармане маркер и забежал обратно в кабинку. Он оторвал лист туалетной бумаги и заштриховал ее, оставив посередине только одну белую надпись.
– Нет, ну, по-моему, отлично.
– Да, хорошо…
Редакция Nicolas periodiques склонилась над совместной карикатурой Андре, Жоржа Пьера и Филиппа. На красном фоне президент Франции все так же злобно улыбался треугольником зубов, в углу стояла та же надпись: «Реформы». Но теперь на его макушке горели башни Нотр-Дама, а говорил президент следующее: «Я начну с несущих конструкций». Филипп подпрыгнул от удовольствия.