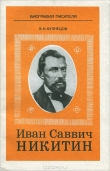Текст книги "За пределами Ойкумены(изд.1993)"
Автор книги: Иван Ефремов
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 22 страниц)
Никитин посмотрел на часы – два часа двадцать три минуты – и прильнул к стеклу, вцепившись в поворотный винт призмы. Снова медленно потянулось время, но сейчас ожидание было напряженным – ученый знал, что увидит минувшее.
Медленно, очень медленно солнце изменяло свое положение на небе. Никитин забыл про все окружающее…
Вот серая согнутая тень направо постепенно вырисовалась четким контуром человеческой фигуры. Косая линия обрисовала копье.
Вобрав голову в широкие плечи со вздутыми, напряженными мускулами, человек уселся, пригнувшись, выставил вперед длинное копье. Широкое, изборожденное морщинами лицо было наполовину повернуто к Никитину, но глаза устремлены на синеющие вдали округлые, заросшие лесами горы, открывавшиеся за обрывом площадки. Никитин успел заметить густые всклокоченные волосы, обрамлявшие довольно высокий лоб, выдающиеся скулы, массивные челюсти. Ученому показалось, что на лице человека он прочел тревожное и мучительное раздумье, словно тот в самом деле пытался заглянуть в будущее. Все это Никитин рассмотрел за несколько мгновений. Несмотря на жгучий интерес к другим деталям картины, палеонтолог не мог разрешить себе дольше всматриваться в аппарат, ему нужен был снимок. Никитин быстро вставил кассету и схватился за шибер, чтобы открыть пластинку, но замер на месте, так и не сделав нужного движения. Блеск гладкой стены внезапно потух, вокруг потемнело, и, оглянувшись, Никитин увидел массивную длинную тучу, медленно наползавшую на солнце. А за ней сомкнутыми рядами, оседая на вершины окрестных сопок, ползли из-за гор тяжкие свинцовые облака того зловещего лилового оттенка, который предвещает сильный снегопад.
С отчаянием в душе ученый осматривал небо. Если пойдет снег, то он больше ничего не увидит – тончайшие отпечатки света неминуемо будут стерты.
Затаив смутную надежду, Никитин докрыл аппарат плащом, оставив его на месте до следующего дня, и апатично поплелся к палаткам. Нелепая случайность, новая неудача отравили сознание, обессилили тело.
Спутники Никитина притихли, глядя на подавленного, молча сидящего начальника; они переговаривались вполголоса, как у постели тяжелобольного.
В скалах жалобно завыл ветер, закрутились крупные хлопья снега.
Никитин налил себе спирту, выпил и приказал принести сверху аппарат. Не только погибла всякая надежда увидеть снова образ древнего человека – больше нельзя было допускать ни одного лишнего часа задержки. Приходилось взять себя в руки: запоздание могло привести к тому, что карбаз попадет в ледостав и застрянет в замерзшей реке ниже порогов, среди безлюдной тайги.
Наутро, едва лишь на небе резко выступили вершины сопок, люди засуетились, укладывая вещи.
Причальный канат тихо плеснул, упав в воду; карбаз едва заметно продвигался к пенной границе главной струи. Вдруг словно чудовищная мягкая лапа подхватила судно. Карбаз рванулся вперед и понесся в ущелье, где исчез, прыгая, как щепка, в реве и пене острых волн.
Настольная лампа с глубоким колпаком бросала круг света на заваленный книгами стол. В большом кабинете было полутемно. Никитин в напряженном раздумье неподвижно сидел у стола.
Три года, как он не знает покоя… Прежняя работа кажется ему теперь такой спокойной и ясной, так манит снова отдаться ей целиком! А он не может и разрывается между старым и новым, стараясь добросовестно выполнять свои прежние задачи, в то время как вся душа его – в погоне за тенью минувшего. За эти три года еще дважды минувшее было у него в руках, два раза он видел то, что не дано было никому увидеть. И он так же далек от выполнения задачи, как в тот незабываемый момент в горах Аркарлы. И аппарат… он не годится. Он слишком груб.
Должно быть, он сделал ошибку в прошлом. Человек не должен быть одинок…
Никитин зажег верхний свет и, щурясь, стал собирать разбросанные бумаги. Бросил взгляд на свой прибор, стоявший на отдельном столике, потертый и исцарапанный в путешествиях. На секунду сравнил себя с ним, горько усмехнулся и вышел.
В музее было темно. Кабинет Никитина находился в конце огромного зала, заполненного витринами и скелетами вымерших животных. Выйдя из освещенной комнаты, Никитин как бы ослеп. Он знал проходы между витринами, но знал также, что в нескольких местах в проходе выступают рога и оскаленные пасти скелетов, стоящих на открытых платформах. В темноте легко было ушибиться или, что еще хуже, разбить хрупкие кости.
Ученый остановился и стал ждать, пока глаза привыкнут к темноте. Вот едва заметно заблестели стекла витрин, но темные кости скелетов сливались с темным пространством зала, который казался пустым. Многолетней привычкой Никитин чувствовал незримое присутствие мертвого населения музея. Странное впечатление овладело палеонтологом – словно зал был наполнен призраками, ощущаемыми, но невидимыми.
Никитин двинулся вперед, ворча на несовершенство собственных глаз. Он знает все, что здесь находится, знает, что где стоит, и ничего не видит. Не хуже тени минувшего! Скелеты существуют и в то же время исчезли – для глаз слишком мало света…
И вдруг Никитин остановился – сравнение с тенью минувшего поразило его. Как он был наивен, надеясь только на свои глаза! Почему он упустил из виду, что тончайшие отпечатки световых волн могут в огромном большинстве случаев отражать лишь ничтожные количества света, количества, не воспринимаемые обычным зрением? Потому и искусственное освещение не могло вызвать вполне отчетливо запечатлевшиеся картины минувшего. А сколько, значит, пропущено более слабых отпечатков!.
Никитину стало стыдно. Он, ученый, действовал при создании своего прибора кустарно, по-дилетантски! Он забыл про мощь современной техники, обладающей приборами, чувствующими самые ничтожные количества света!
Медленно переступая, двигался палеонтолог по темному залу музея, и с каждым шагом крепло представление о новой конструкции его аппарата. Он обратится снова к физикам и техникам. Ему нужно получить восприятие отраженного от снимка света не непосредственно, а через комбинацию чувствительных фотоэлементов, перевести свет в электрический ток, усилить его и снова превратить в свет, уже видимый глазом.
Затруднение предвидится в точной передаче цветов, но тут можно комбинировать. Можно дать усиление контуров, а цвет получится из непосредственного отражения.
Никитин задел плечом витрину и шарахнулся в сторону… Да, тут есть над чем подумать, но, кажется, ключ к решению вопроса найден. “Если удастся создать такой аппарат, – продолжал думать ученый, – мне ничего не страшно. На открытом воздухе я делаю навес, даю искусственный свет. А под землей и говорить нечего! Тогда тень минувшего – тут! – Палеонтолог сжал пальцы в кулак. – С несколькими фотоэлементами [111]111
Фотоэлемент– прибор, в котором под действием света возникает электрический ток.
[Закрыть]я могу менять настройку аппарата, повышая или понижая чувствительность к разным лучам спектра”.
Веселый молодой машинист придвинулся поближе к инженеру, провожавшему в шахту группу явно наземных людей.
– Как их, Андрей Яковлевич? – шепотом спросил он. – С ветерком или с подпояской? – Машинист выразительно подмигнул на пришедших.
– Что ты, что ты! – ужаснулся инженер. – Это ведь знаменитый ученый! – Он украдкой указал на замешкавшегося Никитина. – И аппарат их повредишь… Посмей только! – угрожающе закончил инженер.
Никитин, отличавшийся тонким слухом, расслышал весь этот короткий и непонятный для непосвященных разговор и поспешил вмешаться.
– Давайте и с ветерком и с подпояской! – громко обратился он к машинисту. – Ни мне, ни аппарату ничего не сделается. Люблю вспомнить старые времена! А моим ребятам полезно – пусть привыкают.
Смутившийся машинист удивленно посмотрел на ученого, потом широко улыбнулся и кивнул головой.
Клеть медленно начала спускаться и внезапно рухнула вниз, точно оборвался канат. Ноги отделились от пола, сердце, казалось, подступило к горлу, дыхание оборвалось. Падение клети все ускорялось, затем так же внезапно и резко замедлилось. Огромная тяжесть придавила людей к полу. Словно невидимые руки перетянули каждого широким, неумолимо стягивающим поясом.
Это ощущение длилось не более секунды, и снова пол ушел из-под ног, тело стало невесомым, а замирающее сердце устремилось вверх.
– Ох! – вскрикнул помощник Никитина.
Но клеть уже плавно замедляла свой спуск и остановилась на одном из наиболее глубоких горизонтов шахты.
– Чтоб им пусто было! – выругался помощник, стараясь унять дрожь в коленях.
Никитин задорно расхохотался, к негодованию своих перепуганных сотрудников.
Палеонтолог спускался в шахту с небывалой уверенностью в успехе. Причиной этой уверенности был и заново переконструированный аппарат, и то, что здесь горняки обнаружили слой окаменевшей смолы, подобный черному зеркалу, впервые показавшему ему призрак динозавра, и… только что полученное письмо.
Никитин улыбнулся, перебирая в памяти немногие строки. Писала Мириам, не забывшая ни его, ни тени минувшего.
Она писала, что через год ей удалось снова побывать на асфальтовом месторождении. Черное зеркало оказалось разрушенным, но ничто не могло разрушить впечатления от призрака динозавра, глубоко запавшего ей в душу… Ей удалось заинтересовать тенью минувшего талантливого исследователя Каржаева. И теперь у них ведутся поиски слоев, сохранивших отпечатки световых волн.
Она не писала ему раньше потому, что это не было ему нужно – тут Никитин почувствовал скрытый между строками упрек, – но она все время следила за его работой и верила в то, что он доведет дело до конца. А теперь они нашли интересное наслоение и просят его приехать к ним.
Никитин еще не успел осознать все значение для него письма Мириам. Слишком мало времени было у него для размышлений в последний день подготовки к исследованию. Только вернулась к нему легкость прежних молодых дней, и эта возвращенная молодость удивляла окружавших его людей.
Из длинного старого штрека тянуло пощипывающей горло гарью, тихо шелестел всасываемый мощным вентилятором воздух. Никитин спешил приступить к испытанию сразу после отпалки [112]112
Отпалка– взрыв шпура.
[Закрыть]заложенных по его указанию шпуров [113]113
Шпур– скважина глубиной до двух метров, пробуренная в горной породе для закладки взрывчатого вещества.
[Закрыть]. Здесь, в старых выработках, в стороне от оживленного движения электровозов, грохота вагонеток, мелькания фонарей, было пусто и тихо. Беспросветный подземный мрак, плотно обняв идущих, сливался с безыменной чернотой угольных стен.
Где-то едва слышно сочилась вода, далеко в стороне мерно потрескивала крепь, предупреждая горняков о тяжком давлении породы.
– Кто показал это замечательное место? – вполголоса спросил Никитин шедшего рядом помощника.
Тот кивнул на маленького старика, замыкавшего шествие вместе с инженером.
– Он редкостный горный мастер, знает каждый слой во всех забоях. Если бы не он, потребовались бы годы поисков в этих бесконечных выработках…
Палеонтолог посмотрел с немой благодарностью на старого горняка.
Впереди забелела чистая колоннада новых крепежных столбов. Уже по их числу можно было догадаться, что ход заканчивался обширной камерой. Действительно, черные стены разошлись, открывая большое пустое пространство с высоким потолком.
Помощники Никитина замешкались, протаскивая громоздкий аппарат между столбами. Инженер выступил вперед и высоко поднял сильный фонарь. Истерзанная взрывами толща углистых сланцев окружила исследователей, грозя бесчисленными острыми выступами и отсвечивая сталью на гладких сколах…
В самом начале камеры по обеим сторонам стояли чуть покачнувшиеся толстые рубчатые стволы. Вросшие одной стороной в массу угля, они выделялись лишь ромбическим узором коры. На расчищенной поверхности иола распластались, словно громадные пауки, могучие пни с разветвленными корнями. Корни стлались по древней почве, служившей им опорой в бесконечно давно минувшие времена. Все пни были срезаны под один уровень – уровень воды в затопленном каменноугольном [114]114
Каменноугольный период– эпоха в истории Земли, около 350 миллионов лет назад.
[Закрыть]лесу. В уцелевших больших стволах мрачно зияли большие дупла.
Участок мертвого, превращенного в уголь и известь леса подавлял глубокой древностью, как будто над головами людей висела не двухсотметровая толща пород, а почти ощутимая глубина сотен миллионов лет, пронесшихся над этими стволами и пнями.
В конце камеры груда обвалившихся сланцев обозначала место произведенного взрыва. Над ними блестела косая черно-бурая плита – затвердевший натек битума [115]115
Битум– смолообразное вещество, обычно отход от сухой перегонки угля или нефти.
[Закрыть]. Это и был намеченный к испытанию прослой, отлагавшийся в крутом склоне небольшого холма в каменноугольном лесу.
Скоро магниевая лампа уперлась ярким белым лучом в плиту, и Никитин установил фокус отражательной камеры. Ученый, волнуясь, кашлянул и хрипло сказал:
– Будем пробовать…
Что скажет сейчас эта так тщательно выбранная поверхность слоя? Палеонтолог включил фотоэлементы и усилил ток. Повернув винт призмы, Никитин снова посмотрел в аппарат: порода уже не была черной – на прозрачном сером фоне проступали неясные вертикальные штрихи.
Терпеливо и осторожно ученый регулировал прибор, пока с невиданной ясностью не проявилась четвертая тень минувшего, открытая им, – тень, которую теперь увидят тысячи людей!
Никитин смотрел на прогалину в чаще затопленного леса. Бледно-серые стволы деревьев с насеченной ромбиками корой обступили маслянистую черную воду. Вверху каждое дерево разделялось на две расходившиеся под углом толстые ветки, исчезавшие в густой тени плотно стеснившихся крон. Толстый чешуйчатый ствол лежал поперек воды, упав на небольшой бугорок, выступавший налево. Бугорок зарос странными растениями, похожими на грибы, высокие и узкие фиолетовые бокалы которых усеивали мокрую красную почву. Мясистые отвороты чашечки каждого гриба показывали маслянистую желтую внутренность. За бугорком, над резко изогнутыми стеблями без листьев, виднелся просвет, заполненный вдали мутным, слабо розовеющим туманом. Впереди из тумана, торчал какой-то искривленный голый сук, а на нем съежилось, втянув голову, непонятное живое существо. Всматриваясь в изображение, Никитин вздрогнул – из-под фиолетовых грибов, скрывая тело в их гуще, выступала широкая параболическая голова, покрытая слизистой лиловато-бурой кожей. Огромные выпуклые глаза смотрели прямо на Никитина, бессмысленно, непреклонно и злобно. Крупные зубы выступали из нижней челюсти, обнажаясь во впадинах края морды. Справа лился, освещая всю картину, какой-то тусклый жемчужный свет. Освещенный воздух казался черноватым, словно через закопченное, но прозрачное стекло…
Долго смотрел Никитин в это волшебное окно в прошлое, в жизнь мира каменноугольной эпохи. Триста пятьдесят миллионов лет легли уже между настоящим и тем временем, когда в редкой игре случая световые волны запечатлели свой снимок. Невероятно отчетливо виднелись злобные глаза невиданной твари, фиолетовые грибы, неподвижная вода и странный серый воздух. А в шахте слабо шипел прожектор и слышалось прерывистое дыхание людей…
Никитину показалось, что он сходит с ума. Он отшатнулся от аппарата. Реальные, грубо изломанные угольные стены, древние пни – может быть, остатки тех самых деревьев, которые сейчас, живые и стройные, видны в его аппарат… Сосредоточенные лица окружающих людей… Овладев собой, ученый поспешно приготовил камеру и сделал несколько цветных снимков.
На столе высилась стопка оттисков статьи Никитина, и к каждому была приложена цветная репродукция пойманной тени прошлого. Надписав последний из назначенных к рассылке оттисков, палеонтолог вздохнул.
Давно уже не было ему так легко и радостно.
Теперь по его дороге пойдут многие, более молодые, может быть, более талантливые. Раскрыта первая страница тайной книги природы. Кончилось одиночество на долгом и трудном пути! Но одиночество – оно было только в познании… В работе ему помогали многие десятки людей, не говоря уж о его сотрудниках, совсем чужие, казалось бы, люди, далекие от науки…
Вереница знакомых лиц прошла перед мысленным взором ученого. Вот они, горняки, рабочие каменоломен, колхозники, охотники. Все они доверчиво и бескорыстно, не спрашивая о конечной цели, уважая в нем известного ученого, помогли ему найти и схватить тень минувшего.
Значит, он работал и пользовался их помощью в долг… Да, и теперь этот долг уплачен – вот откуда громадное облегчение!
Никитин вспомнил, как в этом же кабинете он не раз тосковал и сомневался в правильности своего жизненного пути.
Ученый улыбнулся, быстро набросал текст телеграммы Мириам, извещавшей ее о завтрашнем выезде. Уверенность в дальнейшем пути переполняла его радостью. Нет, он не сделал ошибки, не зря потратил годы на трудную борьбу с загадкой природы!


ЗВЕЗДНЫЕ КОРАБЛИ
Повесть


Глава первая
У ПОРОГА ОТКРЫТИЯ
– Когда вы приехали, Алексей Петрович? Тут много людей вас спрашивали.
– Сегодня. Но для всех меня еще нет. И закройте, пожалуйста, окно в первой комнате.
Вошедший снял старый военный плащ, вытер платком лицо, пригладил свои легкие светлые волосы, сильно поредевшие на темени, сел в кресло, закурил, опять встал и начал ходить по комнате, загроможденной шкафами и столами.
– Неужели возможно? – подумал он вслух.
Подошел к одному из шкафов, с усилием распахнул высокую дубовую дверцу. Белые поперечины лотков выглянули из темной глубины шкафа. На одном лотке стояла кубическая коробка из желтого блестящего, твердого, как кость, картона. Поперек грани куба, обращенной к дверце, проходила наклейка серой бумаги, покрытая черными китайскими иероглифами. Кружки почтовых штемпелей были разбросаны по поверхности коробки.
Длинные бледные пальцы человека коснулись картона.
– Тао Ли, неизвестный друг! Пришло время действовать!
Тихо закрыв дверцы шкафа, профессор Шатров взял потертый портфель, извлек из него поврежденную сыростью тетрадь в сером гранитолевом переплете. Осторожно разделяя слипшиеся листы, профессор просматривал через увеличительное стекло ряды цифр и время от времени делал какие-то вычисления в большом блокноте.
Груда окурков и горелых спичек росла в пепельнице; воздух в кабинете посинел от табачного дыма.
Необычайно ясные глаза Шатрова блестели под густыми бровями. Высокий лоб мыслителя, квадратные челюсти и резко очерченные ноздри усиливали общее впечатление незаурядной умственной силы, придавая профессору черты фанатика. Наконец ученый отодвинул тетрадь.
– Да, семьдесят миллионов лет! Семьдесят миллионов! Ок! – Шатров сделал рукой резкий жест, как бы протыкая что-то перед собой, оглянулся, хитро прищурился и снова громко сказал: – Семьдесят миллионов!.. Только не бояться!
Профессор неторопливо и методически убрал свой письменный стол, оделся и пошел домой.
Шатров окинул взглядом размещенные во всех углах комнаты “бронзюшки”, как он называл коллекцию художественной бронзы, уселся за покрытый черной клеенкой стол, на котором бронзовый краб нес на спине огромную чернильницу, и раскрыл альбом.
– Устал я, должно быть… И старею… Голова седеет, лысеет и… дурнеет, – пробормотал Шатров.
Он давно уже чувствовал вялость. Паутина однообразных ежедневных занятий плелась годами, цепко опутывая мозг. Мысль не взлетала более, далеко простирая свои могучие крылья. Подобно лошади под тяжким грузом, она переступала уверенно, медленно и понуро. Шатров понимал, что его состояние вызвано накопившейся усталостью. Друзья и коллеги давно уже советовали ему развлечься. Но профессор не умел ни отдыхать, ни интересоваться чем-то посторонним.
“Оставьте! В театре не был двадцать лет, на даче отродясь не жил”, – угрюмо твердил он своим друзьям.
И в то же время ученый понимал, что расплачивается за свое длительное самоограничение, за нарочитое сужение круга интересов, расплачивается отсутствием силы и смелости мысли. Самоограничение, давая возможность большей концентрации мысли, в то же время как бы запирало его наглухо в темную комнату, отделяя от многообразного и широкого мира.
Прекрасный художник-самоучка, он всегда находил успокоение в рисовании. Но сейчас даже хитро задуманная композиция не помогла ему справиться с нервным возбуждением. Шатров захлопнул альбом, вышел из-за стола и достал пачку истрепанных нот. Вскоре старенькая фисгармония заполнила комнату певучими звуками брамсовского интермеццо. Играл Шатров плохо и редко, но всегда смело брался за трудные для исполнения вещи, так как играл только наедине с самим собой. Близоруко щурясь на нотные строчки, профессор вспомнил все подробности своей необычайной для него, кабинетного схимника, недавней поездки.
Бывший ученик Шатрова, перешедший на астрономическое отделение, разрабатывал оригинальную теорию движения солнечной системы в пространстве. Между профессором и Виктором (так звали бывшего ученика) установились прочные дружеские отношения. В самом начале войны Виктор ушел добровольцем на фронт, был отправлен в танковое училище, где проходил длительную подготовку. В это время он занимался и своей теорией. В начале 1943 года Шатров получил от Виктора письмо. Ученик сообщал, что ему удалось закончить свою работу. Тетрадь с подробным изложением теории Виктор обещал выслать Шатрову немедленно, как только перепишет все начисто. Это было последнее письмо, полученное Шатровым. Вскоре его ученик погиб в грандиозной танковой битве.
Шатров так и не получил обещанной тетради. Он предпринял энергичные розыски, не давшие результатов, и наконец решил, что танковую часть Виктора ввели в бой так стремительно, что ученик его попросту не успел послать ему свои вычисления. Уже после окончания войны Шатрову удалось встретиться с майором, начальником покойного Виктора. Майор участвовал в том самом бою, где был убит Виктор, и теперь лечился в Ленинграде, где работал и сам Шатров. Новый знакомый уверил профессора, что танк Виктора, сильно разбитый прямым попаданием, не горел и поэтому есть надежда разыскать бумаги покойного, если только они находились в танке. Танк, как думал майор, должен был и теперь стоять на месте сражения, так как оно было сильно заминировано.
Профессор и майор совершили совместную поездку на место гибели Виктора.
И сейчас перед Шатровым из-за строчек потрепанных нот вставали картины только что пережитого.
– Стойте, профессор! Дальше ни шагу! – закричал отставший майор.
Шатров послушно остановился.
Впереди, на залитом солнцем поле, неподвижно стояла высокая сочная трава. Капли росы искрились на листьях, на пушистых шапочках сладко пахнущих белых цветов, на конических лиловых соцветиях иван-чая. Насекомые, согревшиеся под утренним солнцем, деловито жужжали над высокой травой. Дальше лес, иссеченный снарядами три года назад, раскидывал тень своей зелени, прорванной неровными и частыми просветами, напоминавшими о медленно закрывающихся ранах войны. Поле было полно буйной растительной жизни. Но там, в гуще некошеной травы, скрывалась смерть, еще не уничтоженная, не побежденная временем и природой.
Быстро растущая трава скрыла израненную землю, взрытую снарядами, минами и бомбами, вспаханную гусеницами танков, усеянную осколками и политую кровью…
Шатров увидел разбитые танки. Полускрытые бурьяном, они мрачно горбились среди цветущего поля, с потоками красной ржавчины на развороченной броне, с приподнятыми или опущенными пушками. Направо, в маленькой впадине, чернели три машины, обгоревшие и неподвижные. Немецкие пушки смотрели прямо на Шатрова, будто мертвая злоба и теперь еще заставляла их яростно устремляться к белым и свежим березкам опушки.
Дальше, на небольшом холме, один танк вздыбился, надвинувшись на опрокинутую набок машину. За зарослями иван-чая была видна лишь часть ее башни с грязно-белым крестом. Налево широкая пятнистая серо-рыжая масса “фердинанда” склоняла вниз длинный ствол орудия, утопавший концом в гуще травы.
Цветущее поле не пересекалось ни одной тропинкой, ни одного следа человека или зверя не было видно в плотной заросли бурьяна, ни звука не доносилось оттуда. Только встревоженная сойка резко трещала где-то вверху да издали доносился шум трактора.
Майор взобрался на поваленный ствол дерева и долго стоял неподвижно. Молчал и шофер майора.
Шатрову невольно вспомнилась полная торжественной печали латинская надпись, обычно помещавшаяся в старину над входом в анатомический театр: “Hie Locus est, ubi mors gaudet sucurrere vitam”, в переводе означавшая: “Это место, где смерть ликует, помогая жизни”.
К майору подошел маленького роста сержант, начальник группы саперов. Веселость его показалась Шатрову неуместной.
– Можно начинать, товарищ гвардии майор? – звонко спросил сержант. – Откуда поведем?
– Отсюда. – Майор ткнул палкой в куст боярышника. – Направление – точно на ту березку…
Сержант и приехавшие с ним четыре бойца приступили к разминированию.
– Где же тот танк… Виктора? – тихо спросил Шатров. – Я вижу только немецкие.
– Сюда посмотрите, – повел рукой майор налево, – вот вдоль этой группы осин. Видите – там маленькая березка на холме? Да? А правее ее – танк.
Шатров старательно присмотрелся. Небольшая береза, чудом уцелевшая на поле сражения, едва трепетала своими свежими нежными листочками. И среди бурьяна в двух метрах от нее выступала груда исковерканного металла, издалека казавшаяся лишь красным пятном с черными провалами.
– Видите? – спросил майор и на утвердительный жест профессора добавил: – А еще левее, туда, вперед, – там мой танк. Вот тот, горелый. В тот день я…
К ним подошел кончивший работу сержант:
– Готово! Тропочку проложили.
Профессор и майор направились к желанной цели. Танк показался Шатрову похожим на огромный исковерканный череп, зияющий черными дырами больших проломов. Броня, погнутая, закругленная и оплавленная, багровела кровоподтеками ржавчины.
Майор с помощью своего шофера взобрался на разбитую машину, долго рассматривал что-то внутри, засунув голову в открытый люк. Шатров вскарабкался следом и встал на расколотой лобовой броне против майора.
Тот высвободил голову, сощурился на свету и угрюмо сказал:
– Самому вам лезть незачем. Подождите, мы с сержантом все осмотрим. Если уж не найдем, тогда, чтобы убедиться, пожалуйте.
Ловкий сержант быстро нырнул в машину и помог влезть майору. Шатров озабоченно склонился над люком. Внутри танка воздух душный, пропитанный прелью и слабо отдавал запахом машинного масла. Майор для верности зажег фонарик, хотя внутрь машины проникал свет через пробоины. Он стоял согнувшись, стараясь в хаосе исковерканного металла определить, что было полностью уничтожено. Майор попробовал поставить себя на место командира танка, вынужденного спрятать в нем ценную для себя вещь, и принялся последовательно осматривать все карманы, гнезда и закоулки. Сержант проник в моторное отделение, долго ворочался и кряхтел там.
Вдруг майор заметил на уцелевшем сиденье планшетку, засунутую позади подушки, у перекладины спинки. Он быстро вытащил ее. Кожа, побелевшая и вздувшаяся, оказалась неповрежденной; сквозь мутную сетку целлулоида проглядывала испорченная плесенью карта. Майор нахмурился, предчувствуя разочарование, с усилием отстегнул заржавевшие кнопки. Шатров с нетерпением переминался с ноги на ногу. Под картой, сложенной в несколько раз, была серая тетрадь в твердом гранитолевом переплете.
– Нашел! – И майор подал в люк планшетку.
Шатров поспешно вытащил тетрадь, осторожно раскрыл слипшиеся листы, увидел ряды цифр, написанные почерком Виктора, и вскрикнул от радости.
Майор вылез наружу.
Поднявшийся легкий ветер принес медовый запах цветов. Тонкая береза шелестела и склонялась над танком, будто в неутешной печали. В вышине медленно плыли белые плотные облака, и вдали, сонный и мерный, слышался крик кукушки…
…Шатров не заметил, как тихо раскрылась дверь и вошла жена. Она с тревогой взглянула добрыми голубыми глазами на мужа, застывшего в раздумье над клавишами.
– Будем обедать, Алеша?
Шатров закрыл фисгармонию.
– Ты что-то задумал опять, не так ли? – тихо спросила жена, доставая тарелки из буфета.
– Я еду послезавтра в обсерваторию, к Вельскому, на два – три дня.
– Не узнаю тебя, Алеша. Ты такой домосед, я месяцами вижу только твою спину, согнутую над столом, и вдруг… Что с тобой случилось? Я в этом вижу влияние…
– Конечно, Давыдова? – рассмеялся Шатров. – Ей-ей, нет. Олюшка, он ничего не знает. Ведь мы с ним не виделись с сорок первого года.
– Но переписываетесь-то вы каждую неделю!
– Преувеличение, Олюшка. Давыдов сейчас в Америке, на конгрессе геологов… Да, кстати напомнила, – он на днях возвращается. Сегодня же напишу ему.
Обсерватория, куда приехал Шатров, была только что отстроена после варварского разрушения ее гитлеровцами.
Прием, оказанный Шатрову, был сердечным и любезным. Профессора приютил сам директор, академик Вельский, в одной из комнат своего небольшого дома. Два дня Шатров присматривался к обсерватории, знакомился с приборами, звездными каталогами и картами. На третий день один из наиболее мощных телескопов был свободен, к тому же и ночь благоприятствовала наблюдениям.
Вельский вызвался быть проводником Шатрова по тем областям неба, которые упоминались в рукописи Виктора.
Помещение большого телескопа скорее походило на цех крупного завода, чем на научную лабораторию. Сложные металлические конструкции были непонятны далекому от техники Шатрову, и он подумал, что его друг, профессор Давыдов, любитель всяких машин, гораздо лучше оценил бы виденное. В этой круглой башне было несколько пультов с электрическими приборами. Помощник Вельского уверенно и ловко управлял различными рубильниками и кнопками. Глухо заревели большие электромоторы, башня повернулась, массивный телескоп, подобный орудию с ажурными стенками, наклонился ниже к горизонту. Гул моторов смолк и сменился тонким завыванием. Движение телескопа сделалось почти незаметным. Вельский пригласил Шатрова подняться по легкой лесенке из дюраля. На площадке находилось удобное кресло, привинченное к настилу и достаточно широкое, чтобы вместить обоих ученых. Рядом – столик с какими-то приборами. Вельский выдвинул назад, в себе, металлическую штангу, снабженную на концах двумя бинокулярами, похожими на те, которыми постоянно пользовался в своей лаборатории Шатров.
– Прибор для одновременного двойного наблюдения, – пояснил Вельский. – Мы будем смотреть оба на одно и то же изображение, получающееся в телескопе.
– Я знаю. Такие же приборы применяются и у нас, биологов, – отвечал Шатров.
– Мы теперь мало пользуемся визуальными наблюдениями, – продолжал Вельский, – глаз скоро утомляется и не сохраняет виденного. Современная астрономическая работа вся идет на фотоснимках, особенно звездная астрономия, которой вы интересуетесь… Ну, вы хотели посмотреть для начала на какую-нибудь звезду. Вот вам красивая двойная звезда – голубая и желтая – в созвездии Лебедя. Регулируйте по своим глазам так же, как и обычно… Впрочем, подождите. Я лучше совсем выключу свет – пусть ваши глаза привыкнут…