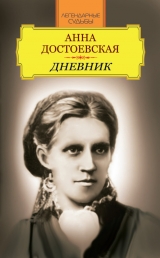
Текст книги "Анна Достоевская. Дневник"
Автор книги: Иван Андреев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– Как я рад, Аня, что ты благодушно приняла отмену заграничной поездки, о которой мы оба так мечтали!
– Но она может состояться, если ты согласишься на план, который я тебе предложу, – отвечала я и немедленно принялась его излагать.
Как и следовало ожидать, муж тотчас отверг мой план, не желая, чтобы я жертвовала своими вещами. Мы заспорили и, не замечая дороги, зашли (все по набережной Мойки) в совсем необитаемую и не виданную мною часть города. Во второй раз в течение нашей брачной жизни я призналась мужу, что мне тяжело живется, и умоляла Федора Михайловича дать мне хоть два-три месяца спокойной и счастливой жизни. Я уверяла, что при теперешних обстоятельствах мы не только не станем друзьями, как прежде мечтали, но, может быть, разойдемся навеки. Я умоляла мужа спасти нашу любовь, наше счастье и, не выдержав, так разрыдалась, что бедный Федор Михайлович совсем потерялся и не знал, что со мной делать. Он поспешил на все согласиться. Я так обрадовалась, что, невзирая на прохожих (в той местности немногочисленных), расцеловала мужа.
Тут же, не теряя времени, я предложила Федору Михайловичу отправиться в канцелярию генерал-губернатора узнать, когда можно получить заграничный паспорт. С этим паспортом у мужа всегда были осложнения. Как бывший политический преступник, Федор Михайлович состоял под надзором полиции, и ему, кроме обычных формальностей, необходимо было предварительное разрешение военного генерал-губернатора. В канцелярии знакомый мужу чиновник, большой почитатель его таланта, предложил Федору Михайловичу написать тут же просьбу и обещал доложить ее завтра же начальству. Паспорт он обещал приготовить к пятнице.
Помню, как бесконечно счастлива была я в этот день! Даже нелепые приставания Павла Александровича не сердили меня: я знала, что им скоро придет конец. Про наш отъезд мы в этот день никому не говорили, кроме мамы, которая приехала вечером и увезла с собою золотые вещи, серебро и выигрышные билеты, чтобы завтра же их заложить.
На другой день, в среду, к нам приехал оценщик компании и определил сумму, которую мы могли получить за мебель. В тот же день, вечером, когда к обеду собрались у нас почти все родные, Федор Михайлович объявил, что мы послезавтра уезжаем за границу.
– Позвольте, папа, сделать вам замечание, – тотчас заговорил опешенный известием Павел Александрович.
– Никаких замечаний! – вспылил Федор Михайлович. – Все получат столько, сколько себе назначили, и ни копейки больше.
– Но это невозможно! Я забыл вам сказать, что мое летнее пальто совсем вышло из моды и мне необходимо новое, и другие есть расходы… – начал Павел Александрович.
– Кроме назначенного, ничего не получишь. Мы едем за границу на деньги Анны Григорьевны, и располагать ими я не вправе.
Павел Александрович пробовал раза два-три предъявлять какие-то требования, но Федор Михайлович не стал его и слушать.
<… >
Мы уезжали за границу на три месяца, а вернулись в Россию через четыре с лишком года. За это время произошло много радостных событий в нашей жизни, и я вечно буду благодарить Бога, что он укрепил меня в моем решении уехать за границу. Там началась для нас с Федором Михайловичем новая, счастливая жизнь и окрепли наша взаимная дружба и любовь, которые продолжались до самой кончины моего мужа.
Глава четвертая
Пребывание за границей
I
Первая супружеская ссора
(Выписано из стенографической тетради)
Сегодня (18 апреля) небольшой дождь, но, кажется, будет идти целый день. У берлинцев окна отворены; под окном нашей комнаты распустилась липа. Дождь продолжается, но мы решили выйти, чтобы посмотреть город. Вышли на Unter den Linden, видели Дворец, Академию архитектуры, Арсенал, Оперный театр, Университет и церковь Людовика.
Дорогой Федя заметил мне, что я по-зимнему одета (белая пуховая шляпа) и что у меня дурные перчатки. Я очень обиделась и ответила, что если он думает, что я дурно одета, то нам лучше не ходить вместе. Сказав это, я повернулась и быстро пошла в противоположную сторону. Федя несколько раз окликнул меня, хотел за мною бежать, но одумался и пошел прежнею дорогою. Я была чрезвычайно обижена, мне показалось замечание Федора Михайловича ужасно неделикатным. Я почти бегом прошла несколько улиц и очутилась у Brandenburger Thor. Дождь все еще шел; немцы с удивлением смотрели на меня, девушку, которая, не обращая ни малейшего внимания, без зонтика, шла по дождю. Но мало-помалу я успокоилась и поняла, что Федя своим замечанием вовсе не хотел меня обидеть и что я напрасно погорячилась.
Меня сильно обеспокоила моя ссора с Федей, и я бог знает что стала воображать. Я решила идти поскорее домой, думая, что Федя вернулся и я могу помириться с ним. Но каково было мое огорчение, когда, придя в гостиницу, я узнала, что Федя заходил уже домой, пробыл несколько минут в комнате и опять ушел. Боже мой, что я только перечувствовала! Мне представилось, что он меня разлюбил, и, уверившись, что я такая дурная и капризная, нашел, что он слишком несчастлив, и бросился в Шпрее. Затем мне представилось, что он пошел в наше посольство, чтоб развестись со мной, выдать мне отдельный вид и отправить меня обратно в Россию. Эта мысль тем более укрепилась во мне, что я заметила, что Федя отпирал чемодан (он оказался не на том месте, как давеча, и ремни были развязаны). Очевидно, Федя доставал наши бумаги, чтобы идти в посольство. Все эти несчастные мысли до того меня измучили, что я начала горько плакать, упрекать себя в капризах и дурном сердце. Я дала себе слово, если Федор Михайлович меня бросит, ни за что не вернуться в Россию, а спрятаться где-нибудь в деревушке за границей, чтоб вечно оплакивать мою потерю. Так прошло два часа. Я поминутно вскакивала с места и подходила к окну посмотреть, не идет ли Федя. И вот, когда мое отчаяние дошло до последнего предела, я, выглянув из окна, увидела Федю, который с самым независимым видом, положив обе руки в карманы пальто, шел по улице. Я страшно обрадовалась, и когда он вошел в комнату, я с плачем и рыданиями бросилась к нему на шею. Он очень испугался, увидав мои заплаканные глаза, и спросил, что со мною случилось. Когда я рассказала ему мои страхи, он очень смеялся и сказал, что «надо иметь очень мало самолюбия, чтобы броситься и утонуть в Шпрее, в этой маленькой, ничтожной речонке». Очень смеялся и над моей мыслью о разводе и говорил, что «я еще не знаю, как он любит свою милую женочку». Заходил же он и отворял чемодан, чтоб вынуть деньги для заказа пальто. Таким образом все объяснилось, мы помирились, и я была страшно счастлива.
II
Пробыв два дня в Берлине, мы переехали в Дрезден. Так как мужу предстояла трудная литературная работа, то мы решили прожить здесь не менее месяца. Федор Михайлович очень любил Дрезден, главным образом за его знаменитую картинную галерею и прекрасные сады его окрестностей, и во время своих путешествий непременно заезжал туда. Так как в городе имеется много музеев и сокровищниц, то, зная мою любознательность, Федор Михайлович полагал, что они заинтересуют меня и я не буду скучать по России, чего на первых порах он очень опасался.
Остановились мы на Neumarkt, в одной из лучших тогда гостиниц «Stadt Berlin», и, переодевшись, тотчас направились в картинную галерею, с которою муж хотел ознакомить меня прежде всех сокровищ города. Федор Михайлович уверял, что отлично помнит кратчайший путь к Цвингеру, но мы немедленно заблудились в узких улицах, и тут произошел тот анекдот, который муж приводит в одном из своих писем ко мне, в пример основательности и некоторой тяжеловесности немецкого ума. Федор Михайлович обратился к господину, по-видимому, интеллигентному, с вопросом:
– Пожалуйста, милостивый государь, где находится картинная галерея?
– Картинная галерея?
– Да, картинная галерея.
– Королевская картинная галерея?
– Да, королевская картинная галерея.
– Я не знаю.
Мы подивились, почему он так нас допрашивал, если не знал, где галерея находится.
Впрочем, мы скоро до галереи дошли, и хотя оставалось до закрытия не более часа, но мы решили войти. Муж мой, минуя все залы, повел меня к Сикстинской Мадонне – картине, которую он признавал за высочайшее проявление человеческого гения. Впоследствии я видела, что муж мой мог стоять пред этою поразительной красоты картиной часами, умиленный и растроганный. Скажу, что первое впечатление на меня Сикстинской Мадонны было ошеломляющее: мне представилось, что Богоматерь с Младенцем на руках как бы несется в воздухе навстречу идущим. Такое впечатление я испытала впоследствии, когда во время всенощной на 1 октября я вошла в ярко освещенный храм св. Владимира в Киеве и увидела гениальное произведение художника Васнецова. То же впечатление Богоматери, с кроткою улыбкой благоволения на божественном лике, идущей мне навстречу, потрясло и умилило мою душу.
В тот же день мы наняли себе квартиру на Johannisstrape. Квартира состояла из трех комнат: гостиной, кабинета и спальни, и сдавалась одной недавно овдовевшей француженкой. Назавтра мы пошли покупать мне шляпу, чтобы заменить мою петербургскую, и муж заставил меня примерить шляп десять и остановился на той, которая, по его словам, «удивительно ко мне шла». Как сейчас помню ее: из белой итальянской соломы, с розами и длинными черными бархатными лентами, спускавшимися по плечам и называвшимися, согласно моде, suivez-moi.
Затем дня два-три мы ходили с мужем покупать для меня верхние вещи для лета, и я дивилась на Федора Михайловича, как ему не наскучило выбирать, рассматривать материи со стороны их добротности, рисунка и фасона покупаемой вещи. Все, что он выбирал для меня, было доброкачественно, просто и изящно, и я впоследствии вполне доверялась его вкусу.
Когда мы устроились, наступила для меня полоса безмятежного счастья: не было денежных забот (они предвиделись лишь с осени), не было лиц, стоявших между мною и мужем, была полная возможность наслаждаться его обществом. Воспоминания о том чудном времени, несмотря на протекшие десятки лет, остаются живыми в моей душе.
Федор Михайлович любил порядок во всем, в том числе и в распределении своего времени, поэтому у нас вскоре установился строй жизни, который не мешал никому из нас пользоваться временем, как мы хотели. Так как муж работал ночью, то вставал не раньше одиннадцати. Я с ним завтракала и тотчас отправлялась осматривать какую-нибудь коллекцию, и в этом случае моя молодая любознательность была вполне удовлетворена. Мне помнится, что я не пропустила ни одной из бесчисленных коллекций – минералогических, геологических, ботанических и пр., они были осмотрены мною с полной добросовестностью. Но к двум часам я непременно была в картинной галерее (помещающейся в том же Цвингере, как и все научные коллекции). Я знала, что к этому времени в галерею придет мой муж и мы пойдем любоваться любимыми им картинами, которые, конечно, немедленно сделались и моими любимыми.
Федор Михайлович выше всего в живописи ставил произведения Рафаэля и высшим его произведением признавал Сикстинскую Мадонну. Чрезвычайно высоко ценил талант Тициана, в особенности его знаменитую картину – Der Zinsgroschen, «Христос с монетой», – и подолгу стоял, не отводя глаз от этого гениального изображения Спасителя. Из других художественных произведений, смотря на которые Федор Михайлович испытывал высокое наслаждение и к которым непременно шел в каждое свое посещение, минуя другие сокровища, были «Мария с Младенцем» Мурильо, «Святая ночь» Корреджо, «Христос» Аннибале Карраччи, «Кающаяся Магдалина» Баттони, «Охота» Рюисдаля, «Пейзаж (Утро и Вечер)» Клода Лоррена (эти ландшафты мой муж называл «золотым веком» и говорит о них в «Дневнике писателя»), «Рембрандт и его жена» Рембрандта ван Рейна, «Король Карл I Английский» Антона Ван Дейка; из акварельных или пастельных работ очень ценил «Шоколадницу» Жана Лиотара.
В три часа картинная галерея закрывалась, и мы шли обедать в ближайший ресторан. Это была так называемая «Итальянская деревушка», крытая галерея которой висела над самой рекой. Громадные окна ресторана открывали вид в обе стороны Эльбы, и в хорошую погоду здесь было чрезвычайно приятно обедать и наблюдать за всем, что на реке происходило. Кормили здесь сравнительно дешево, но очень хорошо, и Федор Михайлович каждый день требовал себе порцию «голубого угря», которого он очень любил и знал, что здесь его можно получить только что пойманного. Любил он пить белый рейнвейн, который тогда стоил десять грошей полбутылки. В ресторане получалось много иностранных газет, и муж мой читал французские.
Отдохнув дома, мы в шесть часов шли на прогулку в Grossen Garten. Федор Михайлович очень любил этот громадный парк главным образом за его прелестные луга в английском стиле и за его роскошную растительность. От нашего дома до парка и обратно составляло не менее шести-семи верст, и мой муж, любивший ходить пешком, очень ценил эту прогулку и даже в дождливую погоду от нее не отказывался, говоря, что она на нас благотворно действует.
В те времена в парке существовал ресторан Zum grossen Wirtschaft, где по вечерам играла то полковая, медная, то инструментальная музыка. Иногда программа концертов была серьезная. Не будучи знатоком музыки, муж мой очень любил музыкальные произведения Моцарта, Бетховена – «Фиделио», Мендельсона-Бартольди – «Свадебный марш», Россини – Air du Stabat Mater и испытывал искреннее наслаждение, слушая любимые вещи. Произведений Рихарда Вагнера Федор Михайлович совсем не любил.
Обычно на таких прогулках мой муж отдыхал от всех литературных и других дум и находился всегда в самом добродушном настроении, шутил, смеялся. Помню, что в программе концертов стояли вариации и попурри из оперы «Поэт и крестьянин» Ф. фон Зуппе. Федор Михайлович полюбил эти вариации благодаря одному случаю: как-то на прогулке в Grossen Garten мы повздорили из-за убеждений, и я высказала свое мнение в резких выражениях. Федор Михайлович оборвал разговор, и мы молча дошли до ресторана. Мне было досадно, зачем я испортила доброе настроение мужа, и, чтоб его вернуть, я, когда заиграли попурри из оперы фон Зуппе, объявила, что это «про нас написано», что он – поэт, а я крестьянин, и потихоньку стала подпевать за крестьянина. Федору Михайловичу понравилась моя затея, и он начал подпевать арию поэта. Таким образом, фон Зуппе нас примирил. С тех пор у нас вошло в обыкновение в дуэте героев потихоньку вторить музыке: мой муж подпевал партию поэта, а я подпевала за крестьянина. Это было незаметно, так как мы всегда садились в отдалении, под «нашим дубом».
Смеху, веселья было много, и муж уверял, что он со мною помолодел на всю разницу наших лет. Случались и анекдоты: так однажды с «нашего дуба» в большую кружку с пивом Федора Михайловича свалилась веточка, а с нею громадный черный жук. Муж мой был брезглив и из кружки с жуком пить не захотел, а отдал ее кельнеру, приказав принести другую. Когда тот ушел, муж пожалел, зачем не пришла мысль потребовать сначала новую кружку, а теперь, пожалуй, кельнер только вынет жука и ветку и принесет ту же кружку обратно. Когда кельнер пришел, Федор Михайлович спросил его: «Что ж, вы ту кружку вылили?» – «Как вылил, я ее выпил!» – ответил тот, и по его довольному виду можно было быть уверенным, что он не упустил случая лишний раз выпить пива.
Эти ежедневные прогулки напомнили и заменили нам чудесные вечера нашего жениховства, так много было в них веселья, откровенности и простодушия.
В половине десятого мы возвращались, пили чай и затем садились: Федор Михайлович – за чтение купленных им произведений Герцена, я же принималась за свой дневник. Писала я его стенографически первые полтора-два года нашей брачной жизни, с небольшими перерывами за время моей болезни.
Задумала я писать дневник по многим причинам: при множестве новых впечатлений я боялась забыть подробности; к тому же ежедневная практика была надежным средством, чтобы не забыть стенографии, а, напротив, в ней усовершенствоваться. Главная же причина была иная: мой муж представлял для меня столь интересного, столь загадочного человека, и мне казалось, что мне легче будет его узнать и разгадать, если я буду записывать его мысли и замечания. К тому же за границей я была вполне одинока; мне не с кем было разделить моих наблюдений, а иногда возникавших во мне сомнений, и дневник был другом, которому я поверяла все мои мысли, надежды и опасения.
Мой дневник очень интересовал моего мужа, и он много раз говорил мне:
– Дорого бы я дал, чтобы узнать, Анечка, что ты такое пишешь своими крючками: уж, наверно, ты меня бранишь?
– Это как случится: и хвалю, и браню, – отвечала я. – Получаешь, что заслужил. Впрочем, как же мне тебя не бранить?
У кого достанет духу тебя не бранить? – заканчивала я теми же шутливыми вопросами, с которыми он иногда обращался ко мне, желая меня пожурить.
Одним из поводов наших идейных разногласий был так называемый «женский вопрос». Будучи по возрасту современницей шестидесятых годов, я твердо стояла за права и независимость женщин и негодовала на мужа за его, по моему мнению, несправедливое отношение к ним. Я даже готова была подобное отношение считать за личную обиду и иногда высказывала это мужу. Помню, как раз, видя меня огорченной, муж спросил меня:
– Анечка, что ты такая? Не обидел ли я тебя чем?
– Да, обидел: мы давеча говорили о нигилистках, и ты их так жестоко бранил.
– Да ведь ты не нигилистка, что же ты обижаешься?
– Не нигилистка, это правда, но я женщина, и мне тяжело слышать, когда бранят женщину.
– Ну какая ты женщина? – говорил мой муж.
– Как какая женщина? – обижалась я.
– Ты моя прелестная, чудная Анечка, и другой такой на свете нет, вот ты кто, а не женщина!
По молодости лет я готова была отвергать его чрезмерные похвалы и сердиться, что он не признает меня за женщину, какою я себя считала.
Скажу к слову, что Федор Михайлович действительно не любил тогдашних нигилисток. Их отрицание всякой женственности, неряшливость, грубый напускной тон возбуждали в нем отвращение, и он именно ценил во мне противоположные качества. Совсем другое отношение к женщинам возникло в Федоре Михайловиче впоследствии, в семидесятых годах, когда действительно из них выработались умные, образованные и серьезно смотрящие на жизнь женщины. Тогда мой муж высказал в «Дневнике писателя», что многого ждет от русской женщины.
III
1867 год. К нашим спорам
Очень меня возмущало в моем муже то, что он в своих спорах со мной отвергал в женщинах моего поколения какую-либо выдержку характера, какое-нибудь упорное и продолжительное стремление к достижению намеченной цели. Например, он один раз говорил мне:
– Возьми такую простую вещь – ну, что бы такое назвать? да хоть собирание почтовых марок (мы как раз проходили мимо магазина, в витрине которого красовалась целая коллекция). Если этим займется мужчина систематически, он будет собирать, хранить, и если не отдаст этому занятию слишком большого времени и если и охладеет к собиранию, то все-таки не бросит его, а сохранит на долгое время, а может быть, и до конца своей жизни, как воспоминание об увлечениях молодости. А женщина? Она загорится желанием собирать марки, купит роскошный альбом, надоест всем родным и знакомым, выпрашивая марки, затратит на покупку их массу денег, а затем желание в ней уляжется, роскошный альбом будет валяться на всех этажерках и в заключение будет выброшен, как надоевшая, никуда не годная вещь. Так и во всем, в пустом и серьезном – везде малая выдержка: сначала пламенное стремление и никогда – долгое и упорное напряжение сил для того, чтобы достигнуть прочных результатов намеченной цели.
Этот спор меня почему-то раззадорил, и я объявила мужу, что на своем личном примере докажу ему, что женщина годами может преследовать привлекшую ее внимание идею. «А так как в настоящую минуту, – говорила я, – никакой большой задачи я пред собою не вижу, то начну хоть с пустого занятия, только что тобою указанного, и с сегодняшнего дня стану собирать марки».
Сказано – сделано. Я затащила Федора Михайловича в первый попавшийся магазин письменных принадлежностей и купила («на свои деньги») дешевенький альбом для наклеивания марок. Дома я тотчас слепила марки с полученных трех-четырех писем из России и тем положила начало коллекции. Наша хозяйка, узнав о моем намерении, порылась между письмами и дала мне несколько старинных Турн-Таксис (Turn-Taxis) из Саксонского королевства. Так началось мое собирание почтовых марок, и оно продолжается уже сорок девять лет. Конечно, я никогда не делала никаких усилий для их коллекционирования, я только копила их, и в настоящее время у меня…[7] штук, из которых некоторые представляют редкости.
Могу дать слово, что ни одна из марок не куплена на деньги, а или получена мною на письме, или мне подарена. Эту слабость близкие мои знают, и дочь моя, например, присылает мне письма с марками разной ценности. От времени до времени я хвалилась пред мужем количеством прибавлявшихся марок, и он иногда подсмеивался над этою моею слабостью.
В Дрездене за эти недели произошел случай, напомнивший неприятную для меня черту в характере Федора Михайловича, именно его ни на чем не основанную ревность. Дело в том, что профессор стенографии, П. М. Ольхин, узнав, что мы предполагаем пожить некоторое время в Дрездене, дал мне письмо к профессору Цейбигу, вице-председателю кружка последователей Габельсбергера, той системы стенографии, по которой я училась. Ольхин уверял, что Цейбиг отличный человек и что он может быть нам полезен при осмотре галерей и пр. Я по приезде долго не шла к Цейбигу, но так как неудобно было не отдать письма, то решилась, наконец, к нему поехать. Цейбига я дома не застала и оставила письмо; профессор на другой же день отдал визит, застал нас обоих дома и предложил нам посетить предстоящее заседание их кружка.
Мы согласились, но потом муж решил, что я пойду одна, с Цейбигом. Муж уверил меня, что ему скучно будет сидеть в таком специальном собрании.
Так и сделали. Кружок стенографов имел свои заседания на Wildruferstrape. Заседание уже началось, и какой-то старец читал реферат. Хоть Цейбиг и приглашал меня занять место рядом с ним, но я уселась в сторонке и жестоко проскучала полчаса. Когда настал перерыв, профессор подвел меня к председателю и объявил всем присутствующим, что я приехала из России с письмом от лица их специальности. Председатель высказал мне приветствие, а я так сконфузилась, что ничего ему не ответила, а только поклонилась. Рефератов больше не было, а все члены кружка сидели за длинным столом, пили пиво и разговаривали. Ко мне стали подходить и представляться один за другим члены кружка, а я так расхрабрилась, что принялась болтать, как у себя дома. Говорила я по-немецки с ошибками, но очень бойко и скоро «завербовала в свои поклонники» (как упрекнул меня потом муж) всех молодых и старых членов кружка. Все провозглашали мое здоровье, угощали ягодами и пирожками. Когда в девять часов Цейбиг предложил меня проводить домой, мне даже удалось сказать по-немецки маленький спич, в котором я благодарила за радушный прием и звала желающих приехать в Петербург, уверяя, что последователи системы Габельсбергера будут приняты русскими столь же дружелюбно. Словом, я была в восторге от моего триумфа.
Но Федор Михайлович отнесся к моему «триумфу» иначе. Когда я рассказала все подробности приема, я заметила в лице моего мужа неприязненное выражение, и весь остальной вечер он был очень грустен; когда же два-три дня спустя нам на прогулке встретился один из членов кружка, молодой человек, розовый и толстый, как поросенок, и со мною раскланялся, то Федор Михайлович сделал мне «сцену», после которой мне уже не хотелось бывать на тех общественных прогулках по окрестностям, куда меня с мужем приглашал Цейбиг. Эта проявившаяся вновь тяжелая и обидная для меня черта характера моего мужа заставила меня быть осторожнее, чтобы избежать подобных осложнений.
Во время пребывания нашего в Дрездене случилось событие, чрезвычайно взволновавшее нас обоих. Федор Михайлович от кого-то узнал, что по городу ходят слухи, будто в нашего императора, посетившего всемирную выставку в Париже, стреляли (покушение Березовского) и что будто бы злодейство достигло цели. Можно представить, как был взволнован мой муж! Он был горячим поклонником императора Александра II за освобождение крестьян и за дальнейшие его реформы. Кроме того, Федор Михайлович считал императора своим благодетелем: ведь по случаю коронования моему мужу было возвращено потомственное дворянство, которым он так дорожил. Государь же разрешил моему мужу возвратиться из Сибири в Петербург и тем дал возможность вновь заниматься столь близким его сердцу литературным трудом.
Мы тотчас решили отправиться в наше консульство. На Федоре Михайловиче, что называется, «лица не было»: он был крайне взволнован и почти бежал дорогой, и я боялась, что с ним немедленно произойдет припадок (так и случилось в ту же самую ночь). К великому нашему счастью, беспокойство оказалось преувеличенным: в консульстве нас успокоили известием, что злодейство не удалось. Мы тотчас же просили разрешения записать свои имена в числе лиц, побывавших в консульстве, чтобы выразить наше негодование по поводу этого гнусного покушения. Весь этот день мой муж был очень расстроен и грустен: новое покушение, последовавшее так скоро за покушением Каракозова, ясно показало мужу, что сети политического заговора проникли глубоко и что жизни столь почитаемого им императора угрожает опасность.
Прошло недели три нашей дрезденской жизни, как однажды муж заговорил о рулетке (мы часто с ним вспоминали, как вместе писали роман «Игрок») и высказал мысль, что если бы в Дрездене он был теперь один, то непременно бы съездил поиграть на рулетке. К этой мысли муж возвращался еще раза два, и тогда я, не желая в чем-либо быть помехой мужу, спросила, почему же он теперь не может ехать? Федор Михайлович сослался на невозможность оставить меня одну, ехать же вдвоем было дорого. Я стала уговаривать мужа поехать в Гомбург на несколько дней, уверяя, что за его отсутствие со мной ничего не случится. Федор Михайлович пробовал отговариваться, но так как ему самому очень хотелось «попытать счастья», то он согласился и уехал в Гомбург, оставив меня на попечение нашей хозяйки.
Хотя я и очень бодрилась, но, когда поезд отошел и я почувствовала себя одинокой, я не могла сдержать своего горя и расплакалась. Прошло два-три дня, и я стала получать из Гомбурга письма, в которых муж сообщал мне о своих проигрышах и просил выслать ему деньги; я его просьбу исполнила, но оказалось, что и присланные он проиграл и просил вновь прислать, и я, конечно, послала. Но так как для меня эти «игорные» волнения были совершенно неизвестны, то я преувеличила их влияние на здоровье моего мужа. Мне представилось, судя по его письмам, что он, оставшись в Гомбурге, страшно волнуется и беспокоится. Я опасалась нового припадка и приходила в отчаяние от мысли, зачем я его одного отпустила и зачем меня нет с ним, чтобы его утешить и успокоить. Я казалась себе страшной эгоисткой, чуть не преступницей за то, что в такие тяжелые для него минуты я ничем не могу ему помочь.
Через восемь дней Федор Михайлович вернулся в Дрезден и был страшно счастлив и рад, что я не только не стала его упрекать и жалеть проигранные деньги, а сама его утешала и уговаривала не приходить в отчаяние.
Неудачная поездка в Гомбург повлияла на настроение Федора Михайловича. Он стал часто возвращаться к разговорам о рулетке, жалел об истраченных деньгах и в проигрыше винил исключительно самого себя. Он уверял, что очень часто шансы были в его руках, но он не умел их держать, торопился, менял ставки, пробовал разные методы игры – и в результате проигрывал. Происходило же это оттого, что он спешил, что в Гомбург приехал один и все время обо мне беспокоился. Да и в прежние приезды на рулетку ему приходилось заезжать всего на два, на три дня и всегда с небольшими деньгами, при которых трудно было выдержать неблагоприятный поворот игры. Вот если бы удалось поехать в рулеточный город и пожить там недели две-три, имея некоторую сумму в запасе, то он наверно бы имел удачу: не имея надобности спешить, он применил бы тот спокойный метод игры, при котором нет возможности не выиграть если и не громадную сумму, то все-таки достаточную для покрытия проигрыша. Федор Михайлович говорил так убедительно, приводил столько примеров в доказательство своего мнения, что и меня убедил, и когда возник вопрос, не заехать ли нам по дороге в Швейцарию (куда мы направлялись) недели на две в Баден-Баден, то я охотно дала свое согласие, рассчитывая на то, что мое присутствие будет при игре некоторым сдерживающим началом. Мне же было все равно, где бы ни жить, только бы не расставаться с мужем.
Когда мы наконец решили, что по получении денег поедем на две недели в Баден-Баден, Федор Михайлович успокоился и принялся переделывать и заканчивать работу, которая ему так не давалась. Это была статья о Белинском, в которой мой муж хотел высказать о знаменитом критике все, что лежало у него на душе. Белинский был дорогой для Федора Михайловича человек. Он высоко ставил его талант, еще не зная его лично, и говорит об этом в номере «Дневника писателя» за 1877 год.
Но, высоко ставя критический дар Белинского и искренно питая благодарные чувства за поощрение его литературного дарования, Федор Михайлович не мог простить ему то насмешливое и почти кощунственное отношение этого критика к его религиозным воззрениям и верованиям.
Возможно, что многие тяжелые впечатления, вынесенные Федором Михайловичем от сношения с Белинским, были следствием сплетен и нашептываний тех «друзей», которые сначала признали талант Достоевского и его пропагандировали, а затем, по каким-то малопонятным для меня причинам, начали преследовать застенчивого автора «Бедных людей», сочинять на него небылицы, писать на него эпиграммы и всячески выводить из себя.
Когда Федору Михайловичу предложили написать «О Белинском», он с удовольствием взялся за эту интересную тему, рассчитывая не мимоходом, а в серьезной, посвященной Белинскому статье высказать самое существенное и искреннее свое мнение об этом дорогом вначале и в заключение столь враждебно относившемся к нему писателе.
Очевидно, многое еще не созрело в уме Федора Михайловича, многое приходилось обдумывать, решать и сомневаться, так что статью о Белинском мужу пришлось переделывать раз пять, и в результате он остался ею недоволен. В письме к А. Н. Майкову от 15 сентября 1867 года Федор Михайлович писал: «Дело в том, что кончил вот эту проклятую статью: „Знакомство мое с Белинским“. Возможности не было отлагать и мешкать. А между тем я ведь и летом ее писал, но до того она меня измучила и до того трудно ее было писать, что я дотянул до сего времени и наконец-то, со скрежетом зубовным, кончил. Штука была в том, что я сдуру взялся за такую статью. Только что притронулся писать, и сейчас увидал, что возможности нет написать цензурно (потому что я хотел писать все). Десять листов романа было бы легче написать, чем эти два листа! Из всего этого вышло, что эту растреклятую статью я написал, если все считать в сложности, раз пять и потом все перекрещивал и из написанного опять переделывал. Наконец кое-как вывел статью, – но до того дрянная, что из души воротит. Сколько драгоценнейших фактов я принужден был выкинуть! Как и следовало ожидать, осталось все самое дрянное и золотосрединное. Мерзость!»








