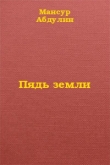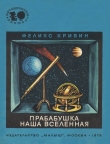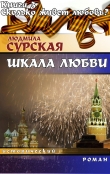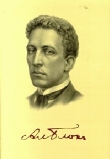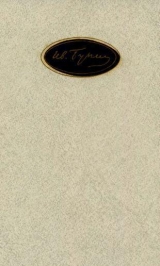
Текст книги "Том 1. Стихотворения"
Автор книги: Иван Бунин
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Из всех ценностей того уходящего мира оставалась прелесть природы, менее заметно, чем общественная жизнь, изменяющейся во времени и повторяемостью своих явлений создающей иллюзию «вечности» и непреходящести, по крайней мере, хоть этой радости жизни. Отсюда – особо обостренное чувство природы и величайшее мастерство изображения ее в поэзии Бунина.
Своих читателей, независимо от того, где они родились и выросли, Бунин делает как бы своими земляками, уроженцами его родных мест с их хлебными полями, синей черноземной грязью весенне-осенних и белой, тучной пылью летних степных дорог, с овражками, заросшими дубняком, со степными, покалеченными ветром лозинами (ракитами) вдоль гребель и деревенских улиц, с березовыми и липовыми аллеями усадеб, с травянистыми рощицами в полях и тихими луговыми речками. Особыми чарами обладают его описания времен года со всеми неуловимыми оттенками света на стыках дня и ночи, на утренних и вечерних зорях, в саду, на деревенской улице и в поле.
Когда он выводит нас в раннее весеннее легкоморозное утро на подворье захолустной степной усадьбы, где хрустит ледок, натянутый над вчерашними лужицами, или в открытое поле, где из края в край ходит молодая рожь в серебряно-матовых отливах, или в грустный, поредевший и почерневший осенний сад, полный запахов мокрой листвы и лежалых яблок, или в дымную, крутящуюся ночную вьюгу по дороге, утыканной растрепанными соломенными вешками, – все это приобретает для нас натуральность и остроту лично пережитых мгновений, щемящей сладости личного воспоминания.
Подобно музыке, ни одно из самых восхитительных и волнующих явлений природы не усваивается нами, не входит нам в душу с первого раза, покамест не открывается нам повторно, не становится воспоминанием. Если нас трогает нежная игольчатая зелень весенней травки, или впервые в этом году услышанные кукушка и соловей, или тоненькое и печальное кукареку молодых петушков ранней осени; если мы блаженно и растерянно улыбаемся, вдыхая запах черемухи, распустившейся при майском холоде; если отголосок далекой песни в вечернем летнем поле прерывает строй наших привычных забот и размышлений, – значит, все это доходит до нас не впервые и вызывает в нашей душе воспоминания, имеющие для нас бесконечную ценность и сладость как бы краткого возвращения в нашу молодость, в годы детства. Собственно, с этой способности к таким мгновенным, но памятным переживаниям начинается человек с его способностью любви к жизни и к людям, к родной земле и самоотверженной готовностью сделать для них что-то нужное и хорошее.
Бунин – не просто мастер необычайно точных и тонких запечатлений природы. Он великий знаток «механизма» человеческой памяти, в любую пору года и в любом нашем возрасте властно вызывающий в нашей душе канувшие в небытие часы и мгновения, сообщающий им новое и новое повторное бытие и тем самым позволяющий нам охватить нашу жизнь на земле в ее полноте и цельности, а не ощущать ее только быстрой, бесследной и безвозвратной пробежкой по годам и десятилетиям…
По части красок, звуков и запахов, «всего того, – выражаясь словами Бунина, – чувственного, вещественного, из чего создан мир», предшествующая и современная ему литература не касалась таких, как у него, тончайших и разительнейших подробностей, деталей, оттенков.
В старости Бунин вспоминал в своей насквозь автобиографической «Жизни Арсеньева»: «…зрение у меня было такое, что я видел все семь звезд в Плеядах, слухом за версту слышал свист сурка в вечернем поле, пьянел, обоняя запах ландыша или старой книги…» Поистине «внешние чувства» как средства проникновенного постижения чувственного мира у него были феноменальны от рождения, но еще и необычайно развиты с юных лет постоянным упражнением уже в чисто художнических целях.
Звяканье гайки, ослабшей на конце оси дрожек, – какая это случайная, необязательная мелочь, но из-за этого звука мы запоминаем столь значительный приезд мещанина – арендатора барских садов в разоряющуюся усадьбу, даже забыв его имя-Шум кустов под ветром, «как будто бегущих куда-то», – именно бегущих куда-то, это и нам так всегда казалось, а Бунин только напомнил, – шум, поразительный по выражению глубокой печали какого-то пастушеского полевого одиночества и сиротства. Отличить «запах росистого лопуха от запаха сырой травы» – это дано далеко не каждому, кто и родился, и вырос, и жизнь прожил у этих лопухов и этой травы, но, услышав о таком различении, тотчас согласится, что оно точно и ему самому памятно.
О запахах в стихах и прозе Бунина стоило бы написать отдельно и подробно – они играют исключительную роль среди других его средств распознавания и живописания мира сущего, места и времени, социальной принадлежности и характера изображаемых людей. Исключительно «душистый», элегически-раздумчивый рассказ «Антоновские яблоки» как бы непосредственно навеян автору запахом этих плодов осеннего сада, лежащих в ящике письменного стола в кабинете с окнами на шумную городскую улицу. Он полон этих яблочных запахов «меда и осенней свежести» и поэзии прощания с прошлым, откуда лишь доносится старинная песня подгулявших «на последние деньги» обитателей степных захолустных усадеб.
Помимо густо наполняющих все его сочинения запахов, присущих временам года, деревенскому циклу полевых и иных работ, запахов, знакомых нам и по описаниям других, – талого снега, весенней воды, цветов, травы, листвы, пашни, сена, хлебов, огородов и тому подобного, – Бунин слышит и запоминает еще множество запахов, свойственных, так сказать, историческому времени, эпохе. Это запахи веничков из перекати-поле, которыми в старину чистили платье; плесени и сырости нетопленого барского дома; курной избы; серных спичек и махорки; вонючей воды из водовозки; москательных товаров, ванили и рогожи в лавках торгового села; воска и дешевого ладана; каменноугольного дыма в хлебных степных просторах, пересеченных железной дорогой… А за выходом из этого деревенского и усадебного мира в города, столицы, заграницы и далекие экзотические моря и земли – еще множество других разительных и памятных запахов.
Эта сторона бунинской выразительности, сообщающая всему, о чем рассказывает писатель, особую натуральность и приметность – во всех планах, от тонко лирического до едко-саркастического, – прочно прижилась и развивается в нашей современной литературе – у самых разных по природе и таланту писателей.
Правда, можно было бы возразить, что Бунин не является тут первооткрывателем. Уже в 80-х годах прошлого столетия Эдмон Гонкур сетует в «Дневнике» на то, что вслед за «глазом» и «ухом» в литературе появляется «нос» как средство постижения действительности. Он имеет в виду в первую очередь Золя с его «носом охотничьей собаки», принесшего в литературу «антиэстетические» запахи городского рынка и т. п. Однако бунинские «обонятельные» приемы выражения вполне независимы от французского натурализма и никогда не запечатлевают крайностей «неблагоухания».
К слову сказать, современная западная литература, помимо прочих внешних чувств, широко пользуется физиологическим «вкусом» (кажется, это пошло от М. Пруста). Хемингуэй, Ремарк, Генрих Бёль с утонченной детализацией фиксируют ощущения своих героев при разжевывании пищи, питье, курении. Но здесь уж можно говорить о некоторой замене чувств ощущениями. Бунину это чуждо.
Бунин, как, может быть, никто из русских писателей, исключая, конечно, Л. Толстого, знает природу своего Подстепья, видит, и слышит, и обоняет во всех неуловимых переходах и изменениях времен года и сад, и поле, и пруд, и реку, и лес, и овражек, заросший кустами дубняка и орешника, и проселочную дорогу, и старинный тракт, обезлюдевший с прокладкой «чугунки». Бунин предельно конкретен и точен в деталях и подробностях описаний. Он никогда не скажет, например, подобно некоторым современным писателям, что кто-то присел или прилег отдохнуть под деревом, – он непременно назовет это дерево, как и птицу, чей голос или шум полета послышатся в рассказе. Он знает все травы, цветы, полевые и садовые, он большой, между прочим, знаток лошадей и их статям, красоте, норову часто уделяет короткие, запоминающиеся характеристики. Все это придает его прозе, да и стихам, особо подкупающий характер невыдуманности, подлинности, неувядаемой ценности художнического свидетельства о земле, по которой он ходил.
Но, понятно, если бы его изобразительные возможности ограничивались только этими, пусть самыми точными и артистичными картинами и штрихами, значение его было бы далеко от того, какое он приобрел в русской литературе. Человека с его радостями и страданиями как объект изображения ничто не может заменить в искусстве – никакая прелесть одного только предметно-чувственного мира, никакие «красоты природы» сами по себе.
Когда сам Бунин в большом стихотворении «Листопад», именуемом обычно поэмой, в мастерски развернутой сложной метафоре, – лес – терем вдовы Осени перед зимой, – с яркой и даже щеголеватой живописностью дает все краски осеннего леса («лиловый, золотой, багряный»), но ограничивается безотносительным к человеческим делам и думам этой поры настроением красивого увядания и угасания природы, то, как ни хвали эту живопись, она оставляет впечатление какой-то мертвенности, попросту – не берет за живое…
Непреходящая художественная ценность «Записок охотника» в том, что автор в них менее всего рассказывает о собственно охотничьих делах и не ограничивается описаниями природы. Чаще всего только по возвращении с охоты – на ночлеге – или по пути на охоту происходят те встречи «охотника» и волнующие истории из народной жизни, которые стали таким незаменимым художественным документом целой эпохи. Из охотничьих же рассказов и очерков иного нашего писателя мы ничего или почти ничего не узнаем о жизни и труде деревень или поселков, в окрестностях которых он охотится и ведет свои тончайшие фенологические наблюдения над дневной и ночной жизнью леса и его обитателей, над повадками своих собак и т. п.
Бунин отлично, с детских лет, по крови, так сказать, знал всякую охоту, но не был таким уж завзятым охотником. Он редко остается один в лесу или в поле, разве что скачет куда-нибудь верхом или бродит пешком – с ружьем или без ружья – в дни одолевающих его раздумий и смятений. Его тянет и в заброшенную усадьбу, и на деревенскую улицу, и в любую избу, и в сельскую лавку, и в кузницу, и на мельницу, и на ярмарку, и на покос к мужикам, и на гумно, где работает молотилка, и на постоялый двор – словом, туда, где люди, где копошится, поет и плачет, бранится и спорит, пьет и ест, справляет свадьбы и поминки пестрая, взбаламученная жизнь поздней пореформенной поры.
О глубоком, пристальном, не из третьих рук полученном знании этой жизни Буниным можно сказать примерно то же, что о его знании на слух, на нюх и на глаз всякого растения и цветения, заморозков и метелей, весенних распутиц и летних жаров. Таких подробностей, таких частностей народной жизни литература не касалась, полагая, может быть, их уже лежащими за пределами искусства. Бунин, как мало кто до него в нашей литературе, знает житье-бытье, нужды, житейские расчеты и мечтания и мелкопоместного барина, часто стоящего уже на грани самой настоящей бедности, и «оголодавшего» мужика, и тучнеющего, набирающего силу сельского торгаша, и попа с причтом, и мещанина, скупщика или арендатора, шныряющего по деревням в чаянии «оборота», и бедняка учителя, и сельских властей, и барышников, и пришлых с севера, из еще более оголодавших губерний бродячих портных, шорников, косцов, пильщиков. Он показывает быт, жилье, еду и одежду, ухватки и повадки всего этого разношерстного люда в наглядности, порой близкой к натурализму, но как истинный художник всегда знает край, меру – у него нет подробностей ради подробностей, они всегда служат основой музыке, настроению и мысли рассказа.
Первый признак настоящей доброй прозы – это когда хочется ее прочесть вслух, как стихи, в кругу друзей или близких. знатоков или, наоборот, людей малоискушенных – реакция таких слушателей иногда особенно показательна. Мы можем только пожалеть, что так редко прочитываем вслух рассказ или хотя бы страничку-другую из рассказа, повести, романа наших современников – в кабинете ли редакции, в кругу ли семьи или на дружеской вечеринке. Это у нас как-то даже не принято, и сами прозаики, увы, не настаивают на этом. А ведь в былые времена прозу вслух читал, например, Толстой – «Питомку» В. Слепцова, «Душечку» Чехова, и не по одному разу! Можно вспомнить еще, что рукопись «Бедных людей» Достоевского Григорович с Некрасовым прочли в один присест, чтобы в ту же ночь разбудить молодого автора и поздравить с удачей.
Мы же, не успев прочесть в журнале или книге новую вещь видного прозаика, часто вполне удовлетворены бываем пересказом кого-нибудь из читавших ее и сами пересказываем прочитанное, не испытывая потребности прочесть вслух отрывок. Конечно, этого нельзя объяснить только наличием радио, телевизора и кадров профессиональных чтецов. То, что проза наша лишена такой активной, незаменимой формы распространения, как непрофессиональное чтение вслух, объясняется заметным упадком ее культуры. Мы долго придавали мастерству письма лишь второстепенное значение и с готовностью прощали несовершенство формы, если содержание составляло ценность человеческого документа или новизны жизненного материала. Но подтверждается старая истина, что невнимание писателя к форме способно обернуться невниманием читателя к содержанию.
Использование диалогов для изложения обстоятельств действия и характеристик персонажей, неразличимость авторской речи с речью героев, к стилю которой автор подстраивается, наконец растянутость, развертывание повести или романа на материале, способном поместиться в небольшом рассказе и т. д. – где уж тут читать вслух сходные у разных авторов по письму и языку повествования, музыкальную, будто с кочки на кочку перескакивающую речь.
Нельзя не остановиться на той отчетливо выраженной у Бунина индивидуальности письма, по какой вообще в русской прозе различаются ее великие мастера – на особой музыкальной организации, если можно так выразиться, этого письма. Мы знаем эту опознавательную в отношении великих наших мастеров особенность: Гоголя, Тургенева, Толстого, Чехова развитой читатель узнает и отличит на слух с полустраницы, прежде того, как уловит детали содержания. Это та музыка, связующая отдельные слова в предложении, предложения в периоде, периоды в главе, главы в дальнейшем укрупненном членении повествования, которую читатель сознательно или бессознательно принимает и невольно следует ей. Сколько раз случается видеть, как человек, читающий книгу про себя, чуть заметно шевелит губами и чуть заметно покачивает головой, подчиняясь беззвучному ритму, заключенному в раскрытой перед ним странице. Это почти то же, что музыкант, читающий про себя нотную запись какого-либо сочинения, с которым он знакомится впервые или возобновляет его в памяти.
Эта музыкальная оснастка большой русской прозы ничего общего не имеет с так называемой ритмизованной прозой, невыносимой для сколько-нибудь взыскательного слуха безотносительно к содержанию – будь то Златовратский или Андрей Белый.
Природа высокой музыкальной организации прозы – в ритмической основе живой человеческой речи со всеми интонациями, соответствующими предмету ее и степени эмоционального наполнения.
В одной из самых ранних вещей Бунина, о которой я уже упоминал в другой связи, в рассказе «На край света», с большим успехом прочитанном автором в Петербурге на литературном вечере в пользу переселенцев, уже с определенностью звучит музыка бунинской прозы.
И главное в этом рассказе, содержащем в себе лишь один-два намека на индивидуальные судьбы, – это вовсе и не рассказ с точки зрения даже свободных понятий жанра, – главное в нем – эта негромкая, сдержанная, но густая, глубокая музыка народной трагедии. Его невозможно цитировать, этот скорбный и торжественно-строгий рассказ, потому что, выбирая из него отдельные строки, прерываешь удивительно целостную его тональность, и сами эти строки, выпадая из нее, утрачивают в своем звучании, деревенеют.
Но это маленький, в три-четыре странички рассказ молодого, в сущности, как мы говорим, начинающего писателя. А вот крупнейшее произведение зрелого таланта – «Деревня». Она уже основной своей музыкой выделяется из всей прозы Бунина. В противоположность различным вариациям лирико-раздумчивой, замедленной и как бы однозвучной интонации других вещей, здесь с первой строки пролога, – краткой мужицкой родословной взят строгий и жесткий ритм: «Прадеда Красовых, прозванного на дворне Цыганом, затравил борзыми барин Дурново…» И вся повесть идет в энергическом, нервном, необычном для прежнего Бунина темпе.
Бунин вошел в русскую литературу со своей музыкой прозаического письма, которую не спутаешь ни с чьей иной. Говорят, что так четко определиться ритмически в прозе помогло ему то, что он еще и поэт-стихотворец, всю жизнь писавший наравне с прозой стихи, переводивший западную поэзию. Но это необязательное условие. У Бунина, превосходного поэта, стихи все же занимают подчиненное положение. Толстой же и Чехов никогда не писали стихов, но кто может отрицать магическую – свою особую у того и другого – музыку их прозаической речи?
Бунин всегда осознавал и в своих суждениях подчеркивал эту музыкальную сторону прозаического письма. В интервью «Московской газете» в 1912 году он говорит, что вообще не принимает «деления художественной литературы на стихи и прозу». Поэтическое единство прозаической и стихотворной речи он видит в сближении их основных особенностей и взаимном обогащении: «…Поэтический язык (в смысле стихотворный. – А. Т.)должен приближаться к простоте и естественности разговорной речи, а прозаическому слогу должна быть усвоена музыкальность и гибкость стиха».
Он и чисто внешним образом подчеркивал принципиальное единство этих двух родов литературы: во многих своих сборниках и даже в «нивском» собрании сочинений он перемежал повести и рассказы стихами. Это могло выглядеть как лишь выражение независимости от тогдашних общепринятых установлений и традиций. Но для самого Бунина это было и своеобразной декларацией верности пушкинскому и лермонтовскому примеру, являвшим гениальное совершенство в обоих основных родах литературного творчества. И по существу бунинская стихотворная поэзия, по крайней мере непосредственно примыкающая к прозе тематически, близка ей и общим настроением, и сходными средствами образного выражения, и всей словесной фактурой.
Стихи Бунина, при их строгой традиционной форме, густо оснащены элементами, характерными для его прозы: живыми интонациями народной речи, необычными для стихов того времени реалистическими деталями описаний природы, быта деревни и мелкопоместной усадьбы. В них можно встретить такие немыслимые по канонам «высокой поэзии», прозаические подробности, как та' эы,подставляемые под капелью с потолка в запущенном барском доме с дырявой крышей («Дворецкий»), или «клочья шерсти и помет» на месте волчьих свадеб в зимней степи («Сапсан»).
Однако если вообще проза и стихи являются из двух основных источников всякого настоящего художества – из впечатлений живой жизни и опыта самого искусства, то о стихах Бунина можно сказать, что они более наглядно, чем его проза, несут на себе отпечаток традиционной классической формы. Не забудем, что Пушкин, Лермонтов и другие русские поэты пришли к Бунину не через посредство школы и даже не через посредство книги самой по себе, а восприняты и впитаны в раннем ребячестве, может быть, еще до овладения грамотой, из поэтической атмосферы родного дома. Они его застали в детской, были семейными святынями, на их портреты он «смотрел как на фамильные». Поэзия была частью живой действительности детства, влиявшей на душу ребенка, определявшей его склонности и дорогие на всю жизнь эстетические пристрастия. Образы поэзии имели для него такую же личную, интимную ценность впечатлений детства, как и окружающая его природа и все «открытия мира», сделанные в этом возрасте.
Только самого раннего Бунина коснулись влияния современной ему поэзии. В дальнейшем он наглухо отгораживается от всяческих модных поветрий в поэзии, держась образцов Пушкина и Лермонтова, Баратынского и Тютчева, а также Фета и отчасти Полонского, но оставаясь всегда самобытным.
Конечно, неверно было бы думать, что он так-таки ничего и не воспринял в своем стихе от виднейших поэтов его времени, которых он всю жизнь ругательски ругал, оценивая всех вкупе и как бы не видя разницы между Бальмонтом и Северяниным, Брюсовым и Гиппиус, Блоком и Городецким.
В развитии русского стиха после застойно-эпигонской поры «конца века» заслуги символистов бесспорны. Они расширили ритмические возможности стиха, много сделали по части его музыкального оснащения, обновления рифмы и т. п. Бунин не смог бы стать тем, чем он стал в поэзии, если бы только буквально следовал классическим образцам. И неверно, когда говорят, что стихи его будто бы ритмически однообразны, однотонны. Он пользуется по преимуществу основными классическими двусложными, реже трехсложными размерами, но он наполняет их таким интонационным и словарным богатством живой «прозаической» речи, что эти «ходовые» размеры становятся его, бунинскими размерами. Он вовсе не чужд и таким ритмическим поискам, которые выходят далеко за пределы привычных звучаний, например:
Как все спокойно и как все открыто…
Это ближе всего к уникальному в русской поэзии ритму тютчевского «Как хорошо ты, о море ночное…»
Или белые стихи, ритмическим строем своим как бы предсказывающие, как это ни парадоксально, Пастернака:
Набегает впотьмах
И узорною пеною светится,
И лазурным сиянием реет у скал на песке…
А какая изумительная энергия, краткость и «отрубающая» односложность выражения в балладе «Мушкет»:
Встал, жену убил,
Сонных зарубил своих малюток,
И пошел в туретчину, и был
В Царе граде через сорок суток…
Можно было бы еще указать на такие неожиданные у Бунина ритмические образцы, как своеобразный трехсложный размер «Одиночества» («И ветер, и дождик, и мгла…»), как «Старик у хаты веял, подкидывал лопату…» или «Мужичок» («Ельничком, березничком…»), «Аленушка в лесу жила…» и многие другие. Но главное, конечно, не в них, а в том, что поэзия Бунина, долго представлявшаяся его литературным современникам лишь традиционной и даже «консервативной» по форме, живет и звучит, пережив великое множество стихов, выглядевших когда-то по сравнению с его строгой, скромной и исполненной внутренне го достоинства музой сенсационными «открытиями» и заявлявшими о себе шумно до непристойности.
Наиболее жизнестойкая часть стихотворной поэзии Бунина, как и в его прозе, – это лирика родных мест, мотивы деревенской и усадебной жизни, гонкая живопись природы.
Уже менее трогают стихи, посвященные темам экзотического Востока, античности, библейским мотивам или сюжетам древних мифологии, былинно-сказочной русской старине, хотя и здесь остается в силе редкостной выразительности бунинский язык.
Без похвал этому языку, как, впрочем, и описаниям природы, не обходится ни одно высказывание о Бунине. И хотя обе эти материи в отдельном их изложении способны вызвать убыль читательского внимания, но без них действительно не обойтись, говоря об этом мастере. Рассказывают, что, слыша похвалы своему языку, Бунин обычно отшучивался: «Какой такой особый язык у меня; пишу русским языком, язык, конечно замечательный, но я-то тут при чем?» И хотя за этой шуткой чувствуется горечь художника, которому всегда обидно, так сказать, выборочное признание его достоинств, но по cyir?:тву это очень верно, что у писателя не может быть иного языка, чем его родной язык, язык его народа. Однако у писателя не только может, но и должен быть язык иной, чем у других писателей. И сам Бунин умел строго различать и предпочитать язык одних языку других мастеров слова.
«Хороший колоритный язык народа средней полосы России, – говорил он в 1911 году, – я нахожу только у Гл. Успенского и Л. Толстого. Что касается ухищрений и стилизации под народную речь модернистов, то это я считаю отвратительным варварством».
Нужно отдать должное его объективности, в данном случае в оценке языка. Он приравнивает чуждого ему по идейной направленности Г. Успенского к одному из своих трех «богов» – Л. Толстому.
Язык Бунина – это язык, сложившийся на основе орловско-курского говора, разработанный и освященный в русской литературе целым созвездием писателей – уроженцев этих мест. Язык этот не поражает нас необычностью звучания – даже местные слова и целые выражения выступают в нем уже узаконенными, как бы искони присущими русской литературной речи. И мы, читатели, уроженцы иных областей, обычно с трудом расстающиеся с привычными с детства словечками и речениями родных мест и с неприязнью относящиеся к замене их иными, порожденными в другой языковой стихии, легко принимаем особенности речи Бунина, густо, как и у Тургенева и у Толстого, пересыпанной областническими словами. Нужно сказать, что после справедливой и своевременной критики М. Горьким языковых неряшеств и крайних увлечений областническим словарем в нашей литературе мы так долго и тщательно ограждали ее от «местных речений», просто сводя дело к нивелированию слога в соответствии с омертвелыми понятиями «правильного языка», что добились той нередко удручающей безъязыкости прозы, когда она воспринимается как перевод с иностранного.
Местные слова, употребляемые с тонким уменьем и безошибочным тактом, сообщают стихам и прозе Бунина исключительную земную прелесть и как бы ограждают их от «литературы» – всякого рифмованного и нерифмованного сочинительства, лишенного теплой крови живого народного языка.
«Обломныйливень» – непривычному слуху странен этот эпитет, но сколько в нем выразительной силы, дающей почти физическое впечатление внезапного летнего ливня, что вдруг хлынет потоками на землю точно с обломившегося под ним неба.
«Листва муругая»для большинства читателей как будто бы требует пояснительной сноски – какой это цвет, муругий? Но из целостной картины, нарисованной в небольшом и прекрасном стихотворении «Зазимок», и без пояснений очевидно, что речь идет о поздней, жесткой, хваченной морозами коричневатой листве степных дубняков, гонимой свирепым ветром зазимка.
Точно так же редкое, почти неизвестное в литературном обиходе слово «глудки»совершенно не нуждается в пояснении, когда мы его встречаем на своем месте: «Смерзшиеся глудки со стуком летели из-под кованых копыт в передок саней». Но слово-то какое звучное, весомое и образное – без него куда беднее было бы описание зимней дороги.
Занятно, что в цейлонском рассказе «Братья» Бунин называет туземную пирогу уж слишком по-русски – дубок,и, однако, это не портит колорита тропического островного побережья: что пирога, что дубок – это долбленная из цельного ствола лодка, и словечко это только как бы напоминает, что этот рассказ, такой далекий по содержанию от орловско-курской земли, пишет русский писатель.
В «Господине из Сан-Франциско» этот певец русских степных просторов, несравненный мастер живописания родной природы, свободно и уверенно ведет за собой читателя по комфортабельным салонам, танцзалам и барам океанского парохода – по тем временам являвшего собой чудо техники. Он спускается с ним к «мрачным и знойным недрам преисподней… подводной утробе парохода… где глухо гоготалиисполинские топки, пожиравшие своими раскаленными зевами груды каменного угля, с грохотом ввергаемого в них облитыми едким, грязным потом и по пояс голыми людьми, багровыми от пламени».
Попробуйте заменить это простонародное, почти вульгарное слово «гоготали» правильным «хохотали» – и сразу ослабевает адское напряжение этих котлов, устрашающая мощь пламени, от которой содрогается подводная часть корпуса парохода-гиганта, сразу утрачивается сила остальных слов о полуголых людях, загружающих топки углем… А слово то взято опять же из запасов детской и юношеской памяти, из того мира, откуда вышел художник в свои далекие плавания. Эта память в отношении родной речи, картин природы и сельского быта и бездны всяческих подробностей былой жизни у Бунина удивительным образом сохранялась и в течение целых десятилетий, проведенных им вне родины.
Бунина нельзя не любить и не ценить за его строгое мастерство, за дисциплину строки – ни одной полой или провисающей – каждая как струна, – за труд, не оставляющий следов труда на его страницах.
В смысле школы, в смысле культуры письма в стихах и прозе молодому русскому, и не только русскому, писателю невозможно миновать Бунина в ряду мастеров, чей опыт попросту обязателен для каждого пишущего. Как бы ни был этот молодой писатель далек от Бунина по своим задаткам и перспективам развития своего дара, в начальной своей поре он должен пройтиБунина. Это научит его постоянному чувству великой ценности родной речи, уменью отбирать нужные и незаменимые слова, привычке обходиться малым их числом для достижения наибольшей выразительности – короче, уважению к делу, за которое взялся, к делу, требующему неизменной сосредоточенности, и уважению к тем, ради которых делаешь это дело, – к читателям.
Серьезнейшую тревогу внушает беззаботность относительно формы у наших молодых писателей, отчасти поощряемая критикой, отчасти – примером старших товарищей по роду литературы. С ходу пишутся толстенные романы, потому что нет времени написать, довести многократным возвращением к начатому до совершенной отделки, в меру дарования автора, небольшой рассказ. Пишутся огромные поэмы, и чтобы добраться до полноценной строфы или строки, там нужно «перелопачивать» вороха слов, строк и строф необязательных, случайных, подвернувшихся как бы при опыте импровизации, зарифмованных с такой приблизительностью и неряшливостью, что созвучия, как полуоборванные пуговицы, держатся на одной ниточке…
Бунин – по времени последний из классиков русской литературы, чей опыт мы не имеем права забывать, если не хотим сознательно идти на снижение требовательности к мастерству, на культивирование серости, безъязыкости и безличности нашей прозы и поэзии. Перо Бунина – ближайший к нам по времени пример подвижнической взыскательности художника, благородной сжатости русского литературного письма, ясности и высокой простоты, чуждой мелкотравчатым ухищрениям формы ради самой формы. Если уж говорить все до конца, так придется сказать и о том, что Бунин иногда бывает чрезмерно густ, как «неразведенный бульон», по замечанию Чехова о ранних его рассказах. Однако опасность излишней сгущенности прозы и стихов нам меньше всего сейчас угрожает, как раз нехватка сгущенности, сжатости, подобранности, экономичности письма – главная наша беда сегодня.