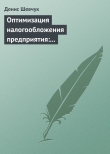Текст книги "Понятия права и силы (опыт методологического анализа)"
Автор книги: Иван Ильин
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 30 страниц)
Глава четвертая
ПРИЗНАНИЕ ПРАВА
Духовное назначение права состоит в том, чтобы жить в душах людей, «наполняя» своим содержанием их переживания и слагая, таким образом, в их сознании внутренние побуждения, воздействуя на их жизнь и на их внешний образ действий. Задача права в том, чтобы создавать в душе человека мотивы для лучшего поведения.
Для разрешения этого духовного задания совсем не безразлично, что это за новые мотивы, какова их природа и какого они качества. Правда, в юриспруденции существует воззрение, что мотивы поведения важны в моральной сфере и не важны в правовой жизни: все, что нужно праву, это внешний легальный образ действия, из каких бы побуждений он ни проистекал; «праву» безразлично настроение человека, если только он фактически блюдет пределы своего правового «статуса». Но если принять это формальное и близорукое воззрение и последовательно провести его в жизнь, то неминуемо создастся глубокое вырождение права и правосознания. Мотивы легального поведения могут быть безразличны только для такого сознания, которое отрывает право от его основной высшей цели и ограничивает его сущность поверхностной видимостью «благополучного» порядка. Оторванное от своей конечной задачи и от корней истинного правосознания, право, естественно, превращается в беспринципное, самодовлеющее средство; оно ограничивает тогда свое духовное назначение, отвлекаясь от проблемы содержания и качества правовой жизни, и вырождается в пустую формальную видимость; ему уже достаточно, если люди повинуются ему по лени, блюдут его из корысти, не нарушают его из страха; ему уже достаточно, если «по внешности» все «благополучно», хотя бы за этой внешностью скрывалось глубокое внутреннее разложение, а за этим благополучием – неизбежность грядущих бед и падений. Такое воззрение ошибочно принимает формальный признак правонарушения и предел, от которого допустимо уголовное преследование, – за самую сущность права; оно представляет собою скрытый пример «отрицательного определения».
В противоположность этому необходимо признать, что право может осуществлять свое духовное назначение только тогда, когда правосознание стоит на высоте, а высота его измеряется не только знанием права, но и признанием его, и притом признанием не «за страх», а «за совесть», и не по слепой привычке, а по зрячему, разумному убеждению. Только свободное признание права не унизительно для человека, только оно может достойно разрешить задачи правотворчества, только оно найдет для себя истинную основу в человеческом духе, только оно сумеет достигнуть последней цели – усовершенствования положительного права.
Признание положительного права состоит в том, что человек, усмотрев с очевидностью его объективное содержание и его объективное значение, добровольно вменяет себе в обязанность соблюдение его правил и воспитывает в этом направлении не только свои сознательные решения, но и свои непосредственные, инстинктивные хотения и порывы. Он совершает этим своеобразное духовное приятие положительного права, и это приятие требует особой зрелости ума и воли, особого равновесия души потому, что оно должно совершиться с отчетливым сознанием всегда возможных глубоких несовершенств положительного права: это приятие должно быть зрячим, свободным от идеализации и потому непременно творческим, преобразующим приятием, но именно поэтому оно требует большой стойкости, выдержки и волевой дисциплины.
Признанию положительного права мешает то обстоятельство, что люди не усматривают его духовной ценности и жизненной необходимости.
Если оставить в стороне людей умственно ленивых и индифферентных, которые вообще ничего не усматривают и не утруждают себя «воззрениями», то отрицатели права составят две большие группы: одни не признают права лишь отчасти, из наивно-корыстных побуждений, другие отрицают право принципиально, по сознательному или инстинктивному идеализму, избегающему жизненных «компромиссов».
Первая разновидность людей составляет огромное множество. Собственно говоря, такой человек не отрицает права, но признает его лишь односторонне, лишь постольку, поскольку оно соответствует его интересу. Так, он настаивает на своих полномочиях, но в то же время всегда готов преувеличить их посредством кривотолка; он не любит выяснять свои обязанности и всегда готов ускользнуть от их исполнения; и если страх не заставит его удержаться в пределах запретного, то беспечность или корыстность легко сделают его правонарушителем или даже преступником. Такой человек твердо знает, чтò другие ему «должны» и чего они не «смеют», но он постоянно готов забыть, чтò он «должен» другим, и чего он «не смеет». Отстаивая свой интерес, он возмущается и протестует, взывает к «принципам», к «праву» и «справедливости» и быстро превращается в хищника, как только право не успеет прикрыть чужой интерес, или в лжеца, как только оно успеет это сделать. Настаивая на том, что «се – мое», он всегда готов присовокупить о чужом: «а то – мое же». Право «свято» для него лишь до тех пор, пока ему по пути с законом; иными словами, оно для него совсем не «свято». Весь вопрос «о праве» есть для него вопрос о том, как составить себе более выгодную и обеспеченную жизненную «конъюнктуру», а принцип взаимности (мутуализм) ничего не говорит его близорукой душе: он не способен понять, что его полномочия живут и питаются чужими обязанностями лишь благодаря тому, что чужие полномочия живут и питаются его обязанностями; он не понимает, что правопорядок есть как бы сеть субъективных правовых ячеек, отовсюду соприкасающихся и поддерживающих друг друга, что каждая ячейка цела и жива лишь до тех пор, пока целы и живы соседние, что поддержание общего и единого правопорядка есть единое общее дело и что дело это требует, чтобы каждый прежде всего не попирал пределов своего правового статуса. Мудрое речение о том, что «свобода каждого кончается у пределов чужой свободы», ничего не говорит этому человеку.
Такое отношение к праву представляет один из тех недугов правосознания, от которого редкий человек вполне свободен. Стóит только спросить себя, кто из нас не испытывает некоторого отрицательного, неприятного аффекта при мысли «моя обязанность», «моя повинность» (если только обязанность не прикрывает собою «выгодного» полномочия)? И можно ли поручиться за то, что этот отрицательный аффект не имеет никакого влияния, хотя бы незаметного и бессознательного, при выборе линии поведения? Конечно, степень этого влияния зависит от уровня правосознания и волевой дисциплины; однако недуг может укрываться и в оттенках.
И вот, тем, кто отрицает право бескорыстно и принципиально, следует прежде всего обратить внимание на тех, кто не признает право из наивной и близорукой корысти. Усмотреть их образ действия, понять его сущность и универсальную инстинктивную склонность к нему, убедиться, что исторический рост положительного правосознания есть одно из самых действительных и могучих средств для борьбы с ним, – значит получить отрезвляющий урок и поучительный аргумент, направленный против сверхправового «идеализма». Как ни горько и ни сурово звучит это, но право и правопорядок необходимы как своего рода «намордник» для своекорыстной злой воли и для хищного инстинкта. И этот своекорыстный инстинкт каждый должен усмотреть в себе самом и сказать о самом себе: «да, и для меня необходимо положительное право». Общественному животному необходимо представление о строгом пределе допустимого и недопустимого, дабы не впасть в борьбу всех со всеми, и мысль эта стара и неизбежна как мир.
Современное воззрение на право, утверждая эту необходимость и отстаивая положительное право, впадает, однако, в глубокую ошибку, сводя все правосознание к устойчивой привычке, считаться с предписаниями внешнего уполномоченного авторитета и соблюдать их. Это воззрение ошибочно потому, что повиновение внешнему авторитету как мотив, определяющий деятельность человека, – не соответствует его духовному достоинству, и притом во всех областях духовной жизни – в знании и в нравственности, в искусстве, в религии и в праве. Самая основная и глубокая сущность того, за что человечество всегда боролось под именем свободы, состоит в возможности самодеятельного и добровольного самоопределения в духовной жизни. Утрата этой внутренней нестесненности и добровольности неизбежно ведет к искажению духовной жизни, и если человек переживает право только как проявление чужой воли, стремящейся его связать и ограничить, то он утрачивает свою духовную свободу, а вместе с ней и подлинное уважение к себе.
В самом деле, правосознание, испытывающее право как чужеродное, идущее извне давление, как понуждение и, может быть, даже принуждение, как своего рода вечные кандалы, наложенные властною рукою на личную жизнь, – остается несвободным и униженным своею несвободою. Конечно, авторитетное давление права может привести к тому, что своекорыстное хотение окажется пресеченным в осуществлении, предстоящие неприятности и угрозы отпугнут его, так что постепенно оно будет ограничено и подавлено. В результате этого – наивно-своекорыстное попирание права сведется постепенно к минимуму и уступит свое место своеобразному «признаванию» его и вынужденному блюдению, но этому несвободному, мелочно-опасливому и полуинтеллигентному «признаванию» будет далеко до истинного, свободного и духовно-осмысленного признания права. Недуг наивного своекорыстия уступит свое место недугу искушенного, опытного и придавленного своекорыстия, и только. Правосознание, доросшее лишь до внешней легальности, остается незрелым правосознанием.
В самом деле, долгая и постоянная дрессура, идущая из поколения в поколение, может приучить душу к сознательному соблюдению законной формы и законного предела в поступках. Явная и тайная кража станет исключением, и цветок плодового дерева, растущего у большой дороги, будет спокойно превращаться в зрелый плод, задевающий прохожего; не станет самоуправства, сознательное нарушение прав будет редкостью; граждане будут еженедельно советоваться обо всем с собственным годовым адвокатом и постоянно, с особым удовлетворением от законности своего поведения, тягаться друг с другом в интеллигентном, равном и справедливом суде; забудется эпоха мелких взяток и крупных хищений, и люди перестанут видеть особое удальство в безнаказанном правонарушении; наконец, обязанность, частная и публичная, станет обычною формою жизни… И за всем этим, внешне блестящим, правопорядком может укрыться правосознание озлобленного раба.
Своекорыстное хотение не исчезает и не искореняется от того, что встречает внешний запрет, угрозу, противодействие и даже наказание. Правда, оно приучается «не сметь» и прячется от поверхностного взгляда, но именно поэтому оно скапливается постепенно, неизжитое, неутоленное, неопределенное – побежденное, но не убежденное – и сосредоточивается в душе, окрашивая всю жизнь в оттенок сдержанного, таящегося озлобления. Оно принимает и соблюдает в отношениях законную форму, но молчаливо тяготится ею, испытывая ее как кандальную цепь. Притаившись, оно по-прежнему продолжает искать лиц и положений, незащищенных или недостаточно защищенных правом, и заполняет эти пробелы деятельностью, которая хотя и не расходится с буквой «действующего» закона, но всецело противоречит духу и цели права; хищная и властолюбивая душа по-прежнему ищет себе гелота и находит его в лице неорганизованного пролетария, колониального инородца или беззащитного иностранца. Такое правосознание постоянно ненавистничает и ждет только, чтобы внешний правовой авторитет снял с него хотя бы на время стесняющие запреты, и призыв к войне, например, означает для него, что в лице «врагов» явилась группа абсолютно неправоспособных людей, про которых «закон не писан»: по отношению к ним все позволено и всякое насилие считается по праву разрешенным. Так, выдрессированный раб, приученный дома к элементарной честности, не считает зазорным украсть у соседа, и уподобляясь ему, современное правосознание охотно делит людей на «наших» и «чужих», пробивая глубокие бреши в «справедливом» толковании и «равном» применении права.
Такое правосознание было вынуждено считаться с правом и покорилось, но не признало того, чему покорилось. Оно испытало правовую реакцию как противодействие, как активный отпор, угрожающий сопротивлением до конца, т. е. как силу, и оно признало силу права, но не достоинство его. Оно научилось тому, что право нужно знать, и может быть, даже тому, что оно имеет объективное значение, но не научилось зрячему, разумному убеждению в духовной ценности права. Оно не претворялось в волю к праву, основанную на воле к его цели. Мало того: оно утаило в себе волю к бесправию и уверенность в том, что силе все позволено. Оно приучило себя лицемерно исповедовать, что сила там, где право, и сохранило непоколебимую уверенность, что право там, где сила. Могло ли быть иначе, когда оно покорилось праву только потому, что почувствовало силу его организованного давления? Такое правосознание, строго говоря, совсем чуждо идее права, хотя, может быть, и переживает понятие права адекватно его смыслу: корыстный инстинкт человека творил свою силу до тех пор, пока не испытал противодействие чужой организованной силы, он уступил ей и научился тому, что эта сила есть право и что надо ей покоряться, и в душе современного цивилизованного человека, покорившегося внешнему авторитету, осталось полусознательное убеждение в том, что право есть не что иное, как организованная сила. Можно ли удивляться, что, например, современная немецкая наука проникнута этим воззрением не менее, чем правосознание покорившегося обывателя?
Но правосознание раба характеризуется именно тем, что он покоряется, не признавая и не уважая. Власть, связующая его, есть внешняя власть, исходящая от другого, чуждая ему; она требует от него покорности, а не признания, подчинения, а не уважения. Не все ли равно, какие мотивы заставляют раба работать с напряжением всех сил? И если мотивы безразличны, то почему же бичу не свистеть над его головой? Аристотель сказал, что рабу свойственно понимать чужие мысли, но не иметь своих, ибо раб получает от других указания, что ему делать и как себя вести. Он повинуется со скрежетом, уступая насилию и не рассуждая. Он еще не знает о своем неотъемлемом духовном праве: признать и не признать чужое веление; страх и привычка ведут его в ярмо, и может быть, лишь смутно брезжит в его душе сознание того, что его покорность унизительна и для него, и для его господина. Это-то сознание и есть начало правосознания.
Очередная задача современного правосознания состоит в том, чтобы освободить себя от этих черт, характеризующих душу раба. И прежде всего необходимо понять, что это освобождение не может прийти ниоткуда извне: раб, ставший вольноотпущенником, унесет на свободу весь уклад своей прошлой жизни и наполнит свободную форму желаниями, правами и деяниями, достойными раба. Никакая правовая и политическая реформа не может сама по себе переделать психику человека, привыкшего пассивно покоряться и скрежетать и не знающего, что истинное самоуправление вырастает только из глубины свободной и уважающей себя воли. Мотивы, по которым человек соблюдает право, не только не безразличны, но заключают в себе самый корень правосознания, и если эти мотивы таковы, что попирают и унижают свободу духа и лишают человека уважения к себе, то правосознание оказывается разлагающимся в самой глубине своей. Слепая покорность велению из страха и корысти ставит человека на уровень животного, неспособного к праву и лишенного правосознания.
Человеку подобает избрать один путь из двух: или отвергнуть право принципиально, исключить себя из правовой жизни и противопоставить хищнику и насильнику идею бесправного существования, или же признать право принципиально и сделать из этого признания последовательные выводы.
Однако для того, чтобы такое признание могло состояться, должны быть налицо предметные и убедительные духовные основания.
Глава пятая
ОБОСНОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРАВА
Для того, чтобы сознание человека могло признать право и совершить его духовное приятие – право должно быть обосновано. Обосновать право значит показать, что оно практически необходимо на пути человека к осуществлению верховного блага. Это значит показать, что основные законы бытия человеческого духа таковы и сущность верховного блага такова, что право как объективно обязательное правило внешнего поведения является необходимою формою их встречи. Иными словами, право необходимо потому, что без него дух человека будет лишен возможности осуществить в своей жизни верховное благо. И если право не может быть признано до тех пор, пока оно в достаточной степени не обосновано, то опознание в его лице необходимой формы духовного бытия должно сделать обязательным его творческое приятие.
С самого начала может показаться, что такое обоснование права невозможно. Всякий, кто знаком с содержанием положительного права и со способами его осуществления, наверное, не раз испытал глубокое разочарование, преисполнялся чувством протеста и негодования. Можно даже уверенно предположить, что на этом негодовании воспитывается принципиальное отрицание права и государства. Тот, кто жил под бременем тоталитарного режима и террора, кто продумал сущность имущественного неравенства и понял закономерную связь между размерами урожая в стране и количеством преступлений против собственности, кто знаком с сущностью прежнего русского бракоразводного процесса, кто был в каторжной тюрьме и слышал, как на людях бряцают цепи, кто знает, что такое телесное наказание, и имел общение с человеком, приговоренным к смертной казни, кто видел все это и понял, что это совершается тоже по праву, – тот имеет достаточно душевных побуждений для того, чтобы отнестись с недоверием уже к одной постановке вопроса о его духовном обосновании. Глубокие дефекты и пороки положительного права – как в самом порядке его установления, так и в его содержании и применении – составляют всегда наибольшее препятствие на пути к его духовному приятию.
Это препятствие было бы, конечно, непреодолимо и неустранимо, если бы положительное право по самому существу своему было связано с дурным содержанием и неприемлемою формою установления или если бы самая сущность права состояла в том, что одни люди навязывают другим свою волю, да еще посредством «принуждения» и «насилия». Но такое понимание было бы неверно: оно смешивало бы исторически данное содержание права и некоторые несовершенные, хотя бы и распространенные, способы его установления с самою основною природою права. А между тем история показывает, что право может иметь содержание более неудовлетворительное и менее неудовлетворительное, менее свободное и справедливое и более свободное и справедливое; мало того, оно может приобретать содержание, вполне соответствующее достоинству человеческого духа (напр., все нормы и установления, гарантирующие «личную неприкосновенность» и свободу духовной жизни). Далее, история права свидетельствует о том, что меняются и формы его установления, и притом в сторону увеличения самодеятельности народов, самоопределения групп и самоуправления индивидуумов. Наконец, естественно, что по мере того, как элемент внешнеавторитетного повеления уступает в нем свое место элементу самообязывания в самом широком смысле этого слова, – по мере этого растет признание права и крепнет правосознание, а угроза неприятными последствиями теряет свой реальный характер и постепенно перестает быть фактором жизни.
Необходимо провести строгое разграничение между основною сущностью права и его историческими осуществлениями. Основная сущность права выражается в терминах: объективно значащее правило внешнего социального поведения. Историческое же осуществление этой возможности может быть различно, оно может влить различное содержание в это правило, оно может выдвинуть различные способы установления права, оно может сделать правоустановителем одного, немногих, многих или всех, оно может воззвать к различным мотивам душевной жизни.
Так, право по существу своему имеет объективное значение; оно устанавливается и погашается не по способу «индивидуального произвола», а по способу «конституционного полномочия». Однако этим совсем еще не сказано, что в основании этого значения может лежать только воля других людей. Напротив, только личное приятие и признание права сообщает правовой жизни ее истинное достоинство и полноту. Конечно, бывает и так, что положительное право устанавливается по усмотрению и решению немногих уполномоченных людей, которые окажутся «другими» по отношению ко всем остальным; но если эти остальные участвуют в правовой жизни только через сознание норм и повиновение им, но не через признание их, то в их душах слагается подавленное, изуродованное правовое сознание, а самое право, не теряя своего объективного значения, утрачивает свою духовную верность, и может быть, даже свое духовное достоинство. Человеку достойно признавать правило, которому он повинуется, и только такое сознательное признание может обеспечить праву жизненное соблюдение. Политическая философия давно усмотрела это и не раз обращалась к идее «общественного договора», пытаясь построить обоснование права на этой – то исторической, то систематической «презумпции». Но проблема этим не разрешается: право должно быть признано каждым в сознательном духовном решении, а не в бессознательной, молчаливой пассивности, самостоятельно, а не в лице своих легендарных предков.
Далее, право по существу своему регулирует внешнее поведение людей, создавая в их душах особые мотивы: оно всегда обращается к разумеющему и водящему сознанию как руководство внешними поступками человека. Однако этим совсем еще не сказано, что право всегда и неизбежно апеллирует в душах людей к мотивам страха, расчета, выгоды, честолюбия и т. д. и что санкция его состоит в угрозах и принуждении. Уже в положительном праве немало норм, лишенных такой санкции, и можно с уверенностью сказать, что положительный правопорядок, почерпающий свою жизненную силу только в ней, идет быстрыми шагами к своему разложению. Страх унижает человека и раз поколебленный легко превращается в озлобленную дерзость; принуждение воспитывает в душах веру в насилие и надежду на силу; личной корысти и классовому интересу далеко не всегда по пути с правом, а честолюбие есть мотив, как бы созданный именно для того, чтобы превысить право и попрать его. Человек должен уважать то правило, которому он повинуется, и повиноваться ему именно из уважения. Моральная философия давно уже признала это в своей сфере и не раз обращалась к идее «автономной воли» как единственному основанию морального поведения. Но идея автономии совсем не имеет специфически морального характера; она глубже, чем сфера этики, ибо лежит в основании всей жизни человеческого духа.
Все это можно выразить так, что историческое осуществление права не исчерпывает собою всех возможных форм его, не определяет его нормального строения и не устанавливает само по себе его достойного, идеального облика. Подобно тому как на всех других путях творящего и совершенствующего человека понятие предмета определяется не только через описание осуществленных уже вещей и состояний, но и через изучение идеального как руководящей цели и возможного (т. е. осуществимого), так и в праве. Философия права, формулируя его сущность и обретая его обоснование, имеет в виду не только понятие права, закрепленное в содержании исторически осуществленных норм, но и идею права, данную в опыте систематически очищенного правосознания, предметно-созерцающего верховную цель права и духа. Сущность права не исчерпывается содержанием положительного права; право творится целеполагающим человеком, и тот, кто стремится познать эту основную природу права, должен созерцать не только плохо сложенные в прошлом «ступени», но и верховную цель всего восхождения. Обосновывая право, философия должна отправляться от нормального правосознания, т. е. от такого предметного опыта, который шире и глубже, чем простое знание положительного права. Этот предметный опыт должен иметь в виду основную функцию всякого права как такового и показать, что эта функция необходима в жизни человеческого духа. Обосновать право не значит оправдать все исторически осуществленное, но показать, что право в его родовой сущности и в его положительном виде заслуживает духовного признания и приятия со стороны каждого человека.
В чем же основание для этого приятия?
Человечеству, живущему на земле, присущ такой способ существования, который делает право необходимою формою его бытия. Этот способ существования определяется особым соотношением множества и единства, одинаковости, различия и общности.
Именно, человечество живет на земле так, что человек человеку остается всегда психо-физическим инобытием, а все люди вместе представляют из себя множество одинаково одиноких, но своеобразных духовно-творческих монад, связанных общею основою существования. Такой строй бытия, данный от природы, делает духовную жизнь возможною лишь при том условии, если человечество сумеет организовать свою внешнюю жизнь на основании объективно значащих правил, утверждающих свободный и справедливый порядок в существовании этого множества.
В самом деле, человечество представляет из себя множество душевных центров, из которых каждый укрывается таинственным образом за одною, для него центральною и специфически ему служащею вещью, именуемою его телом. Каждый душевный центр, нуждаясь в своем теле для того, чтобы вообще жить и проявляться, испытывая его потребности как свои и потому отдавая их удовлетворению бóльшую или меньшую часть своих сил, оказывается в то же время отгороженным от других душевных центров именного этою, для него центральною вещью. Каждая душа испытывает с силою непосредственности и исключительной подлинности только свои собственные состояния и инстинктивно сосредоточивается на них вниманием, аффектом и деланием; о других же центрах и событиях в них – каждая узнает только опосредствованно, через телесное восприятие телесно же выраженных состояний; все это, относящееся к другим, испытывается как чужое, несравненно менее достоверное и подлинное. Не только психически, но и физически – каждый каждому остается инобытием: непосредственный процесс жизни, ее начало и конец, душевные и телесные состояния, способности и поступки, словом, вся судьба каждого – отдельна и особенна; каждое из «неделимых» духовных существ индивидуально и самобытно; здесь невозможны повторения, ибо каждый миг жизни безвозвратен, неповторим и уже пережит каждым по-своему. Поэтому все люди своеобразны и единственны в своем роде, несмотря на обилие отдельных, отвлеченно взятых, сходных черт. И невзирая на постоянное, повседневное, сознательное и бессознательное общение, каждый человек совершает свой путь и осуществляет свою судьбу в глубоком и неизбывном одиночестве.
Это одиночество, одинаково присущее всем и каждому, выражается психически в том, что индивидуальная душевная жизнь протекает в замкнутой изолированности и недоступности для чужой души, в своеобразных «потемках» для другого. Никто не испытывает «моих» состояний, как «свои собственные» и непосредственно ему доступные, никто – кроме меня самого; никто не может «впустить» в свою душу; никто ни с кем не может иметь «общих» переживаний, но лишь «похожие»; никто не может сделать за другого волевых или умственных усилий или «одолжить» другому свой опыт и свое настроение. Каждый знает о чужой душе лишь постольку, поскольку она «означилась» или «выразилась» чужим телом.
Далее, это одиночество выражается духовно в том, что верховное благо может осуществляться человечеством только в виде множества параллельных, одиноких восходящих процессов. Это осуществление верховного блага – познание истины, создание прекрасных образов, расцвет подлинной доброты, достижение предметного религиозного верования, и наконец, целостное одухотворение души и тела – требует прежде всего самостоятельного, подлинного и предметно-адекватного испытания того, что идет к осуществлению. Здесь необходим зрелый, лично пережитый и систематически очищенный внутренний и внешне-внутренний опыт, который может быть выстрадан и выкован только каждым самостоятельно. Никто не может снять с чужой души бремя его самостоятельного вынашивания, бремя одинокого искания и творчества. Самодеятельность в искании и самостоятельность в обретении есть основной закон духовной жизни: с этой самостоятельности начинается научное знание, ставящее личную душу лицом к лицу с самим предметом; с нее начинается подлинное религиозное верование, устраняющее посредников между личною душою и Божеством; с нее начинается нравственное делание, приемлющее на себя решение, ответственность и вину; словом, вся духовная жизнь и личная зрелость определяется тем моментом, когда человек ставит свой личный – испытующий и творящий – душевный центр в непосредственное отношение к миру и жизни. Свобода искания и обретения необходима для духовной жизни, как воздух для тела. Согласно этому закону, духовная жизнь только тогда имеет свое подлинное значение и свою истинную ценность, когда движущие ее мотивы питаются собственными, лично-индивидуальными влечениями и интересами, так что давление чужой воли, хотя бы благородной и правой, не имеет в этом творчестве решающего значения. Здесь необходима свобода воли – не в смысле индетерминизма, но в смысле отсутствия внешних, чуждых велений и запретов. Это есть свобода добровольно и самостоятельно узнать и признать истину в истине, увидеть красоту в красоте, убедиться и утвердиться в объективных свойствах добра, уверовать в полученное откровение. Основное достоинство человека состоит в том, чтобы жить духовною жизнью независимо от всякого инородного посягательства и давления и в то же время – предметно творчески. Свободное самоопределение в духе есть глубочайший закон этой жизни и в то же время единственный путь к подлинному осуществлению верховного блага; в нем лежит высший смысл всех реформаций, всякого освобождения и раскрепощения, всякого индивидуализма и политического самоуправления.
Таким образом, единый процесс духовной жизни человечества внутренно распадается на множество изолированных, самостоятельных и своеобразных процессов индивидуального характера. Все эти одинокие, индивидуальные процессы стоят в сосуществовании и более или менее несовершенном взаимодействии. Это значит, что они, одинаково одинокие и одинаково обусловленные связью с личным телом, с вещественною средою и друг с другом, имеют общую основу существования. Эта основа есть общая для них в точном и строгом смысле слова: каждый человек имеет основание сказать о пространстве, в котором живет и движется его тело, о воздухе, которым он дышит, о солнце, которое его греет, о материальных вещах, которые нужны ему для разных телесных и душевных потребностей, – «это необходимо для моего бытия» и, далее, «это мое и для меня»; и все вместе, признав это сразу и одновременно о всем вместе, – укажут верно на общую основу существования и выскажут неопределенное безграничное притязание на эту основу. И вот эта единая и общая всем, внешне-материальная основа существования приводит неизбежно к встрече множества притязаний.