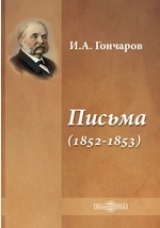
Текст книги "Письма (1852-1853)"
Автор книги: Иван Гончаров
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
Евг. П. и Н. А. МАЙКОВЫМ 20 ноября (2 декабря) 1852. Портсмут
Портсмут, 20 ноября/2 декабря 1852.
Я не писал еще к вам, друзья мои, как следует. Постараюсь теперь. Не знаю, получили ли вы мое маленькое письмо из Дании, которое я писал во время стоянки на якоре в Зунде, а если правду говорить, так на мели. Тогда я был болен и всячески расстроен; всё это должно было отразиться и в письме. Не знаю, смогу ли и теперь сосредоточить в один фокус всё, что со мной и около меня делается, так чтоб это хотя слабо отразилось и в вашем воображении. Я еще сам не определил смысла многих явлений новой своей жизни. Голых фактов я сообщать не люблю, я стараюсь прибирать ключ к ним, а если не нахожу, то освещаю их светом своего воображения, может быть, фальшивым, и иду путем догадок там, где темно. Теперь еще пока у меня нет ни ключа, ни догадок, ни даже воображения. Всё это еще подавлено рядом опытов, более или менее тяжелых, немножко новых и совсем не занимательных для меня, потому для меня, что жизнь начинает отказывать мне во многих приманках на том основании, на каком скупая старая мать отказывает в деньгах промотавшемуся сыну. Так, например, я не постиг поэзию моря и моряков и не понимаю, где тут находили ее. Управление парусным судном мне кажется жалким доказательством слабости ума человечества. Я только вижу, каким путем истязаний достигло человечество до слабого результата проехать по морю при попутном ветре; в поднятии или спуске паруса, в повороте корабля и всяком немного сложном маневре видно такое напряжение сил, что в одном моменте прочтешь всю историю усилий, которые довели до уменья плавать по морям. До паров еще, пожалуй, можно было не то что гордиться, а забавляться сознанием, что вот-де дошли же до того, что плаваем себе да и только, но после пароходов на парусное судно совестно смотреть. Оно – точно старая кокетка, которая нарумянится, набелится, подденет десять юбок, затянется в корсет, чтоб подействовать на любовника, и на миг иногда успеет, но только явится молодость и свежесть, и все ее хлопоты пойдут к черту. Так и парусный корабль, завесившись парусами, надувшись, обмотавшись веревками, роет туда же, кряхтя, скрыпя и охая, волны, а чуть противный ветер, и крылья повисли; рядом же мчится, несмотря ни на что, пароход, и человек сидит, скрестя руки, а машина работает. Так и надо. Напрасно капитан водил меня показывать, как красиво вздуваются паруса с подветренной стороны или как фрегат ляжет боком на воду и скользит по волнам по 12 узлов (узел 1¾ верст) в час. «Эдак и пароход не пойдет», говорит он мне. «Да зато пароход всегда идет, а мы идем двое суток по 12 узлов, а потом десять суток носимся взад и вперед в Немецком море и не можем, за противным ветром, попасть в Канал». – «Черт бы драл эти пароходы!» – говорит капитан, у которого весь ум, вся наука, всё искусство, а за ними самолюбие, честолюбие и все прочие страсти расселись по снастям. А между тем все фрегаты и корабли велено строить с паровыми машинами: можете вообразить его положение и прочих подобных ему господ, которые пожертвовали лет 20, чтоб заучить названия тысячи веревок. – Само море тоже мало действует на меня, может быть оттого, что я еще не видал ни безмолвного, ни лазурного моря. Я, кроме холода, качки, ветра да соленых брызг, ничего не знаю. Приходили, правда, в Немецком море звать меня смотреть фосфорический свет, да лень было скинуть халат, я не пошел. Может быть, во всем этом и не море виновато, а старость, холод и проза жизни. Если вы спросите меня, зачем же я поехал, то будете совершенно правы. Мне, сначала, как школьнику, придется сказать – не знаю, а потом, подумавши, скажу: а зачем бы я остался? Да позвольте еще: полно – уехал ли я? откуда же? только из Петербурга? Эдак, пожалуй, можно спросить, зачем я вчера уехал из Лондона, а в 1834 году из Москвы, зачем через две недели уеду из Портсмута и т. д. Разве я не вечный путешественник, как и всякий, у кого нет своего угла, семьи, дома? Уехать может тот, у кого есть или то или другое. А прочие живут на станциях, как и я в Петербурге и в Москве. Вы помните, я никогда не заботился о своей квартире, как убрать ее заботливо для постоянного житья-бытья; она всегда была противна мне, как номер трактира, я бежал греться у чужой печки и самовара (высоким словом – у чужого очага), преимущественно у вашего. Поэтому я – только выехал, а не уехал. Теперь следуют опасности, страхи, заботы и волнения, которые помешали бы мне ехать. Как будто этого ничего нет на берегу? Я вам назову только два обстоятельства, известные почти всем вам по опыту, которые мешают свободно дышать: одно – недостаток разумной деятельности и сознание бесполезно гниющих сил и способностей; другое – вечное стремление удовлетворить множество тонких потребностей, вечный недостаток средств и оттого вечные вздохи. А миллионы других, хотя мелких, но острых игл, о которых не стану говорить; пробегите историю последних ваших двух или трех недель – и найдете то же самое; жизнь не щадит никого. Здесь не испытываешь сильных нравственных потрясений, глубоких страстей, живых и разнообразных симпатий и ненавистей; эти пружины тут не в ходу, они ржавеют. Но зато тут другие двигатели, которые тоже не дают дремать организму: это физические бури, лишения, опасности, иногда ужас и даже отчаяние. Следует смерть: да где ж она не следует? Здесь только быстрее и, стало быть, легче, нежели где-нибудь. Так видите ли, что я имел причины уехать или не имел причин оставаться – это всё равно. Тут бы только кстати было спросить, к чему же этот ряд новых опытов посылается человеку усталому, увядшему, пережившему, как очень хорошо говорит Льховский, самого себя, который вполне не может воспользоваться ими, ни оценить, ни просто даже вынести их. А вот тут-то я и не приберу ключа, не знаю, что будет дальше; после, вероятно, найдется.
По силе всего вышесказанного, я из всех моих товарищей путешествия один, кажется, уехал покойно, с ровно бьющимся сердцем и совершенно сухими глазами. Не называйте меня неблагодарным, что я, говоря о петербургской станции, умолчал о дружбе, которую там нашел и которой одной было бы довольно, чтоб удержать меня навсегда. Вы, Евгения Петровна, конечно, к слову дружба поспешите присовокупить и любовь! На это отвечайте теперь же Вы, Юнинька, за меня: что я получил от Вас в награду за свою 19-летнюю страсть? Три единственные поцелуя на пароходной пристани при прощанье мало: не из чего было оставаться в отечестве, сколько раз изменили и теперь изменяете опять, знаю, Вашему постоянному рыцарю. А другая-то, лукаво скажете Вы, которая плакала? А заметили ли Вы, какие у ней злые глаза? Эта змея, которая плакала крокодиловыми слезами, как говорит Карл Моор, и плакала, моля чуть не о моей погибели. Это очень смешная любовь, как, впрочем, и все мои любви. Если из любви не выходило никакой проказы, не было юмора и смеха, так я всегда и прочь; так просто одной любви самой по себе мне было мало, я скучал, оттого и не женат. Ну, о любви довольно: припомните, как я всегда о ней говорил, так скажу и теперь: нового ничего не будет. О дружбе я обязан сказать яснее, особенно перед Вами: Вы можете требовать от меня ясного и подробного отчета за целые 17 лет, как оценил я капитал, отпущенный мне Вами, не закопал ли навсегда в землю, где он пропадает глухо, или пустил его в рост? употребляю ли его и как?
Дружба, как бы сильна ни была, не могла бы удержать меня, да истинная, чистая дружба никого не удержит и не должна удерживать от путешествий. Влюбленным только позволительно рваться и плакать, потому что там кровь и нервы – главное, как Вы там себе, Евгения Петровна, ни говорите противное, а известно, что, когда происходит разладица в музыке нерв да нарушается кровообращение, тогда телу или больно, или приятно, смотря по причине волнения. Дружба же чувство покойное: оно вьет гнездо не в нервах, не в крови, а в голове, в сознании и, царствуя там, оттуда уже разливает приятное успокоительное чувство на организм. Вы можете страстно влюбиться в мерзавца, а я в мерзавку, мучиться, страдать этим, а все-таки любить; но вы отнимете непременно дружбу у человека, как скоро он окажется негодяем, и не будете даже жалеть. – Дружбу называют обыкновенно чувством бескорыстным, но настоящее понятие о дружбе до того затерялось в людском обществе, что это сделалось общим местом, пошлой фразой, и в самом-то деле бескорыстную чистую дружбу еще реже можно встретить, нежели бескорыстную, или истинную что ли, любовь, в которой одна сторона всегда живет на счет другой. Так и в дружбе у нас постоянно ведут какой-то арифметический расчет, вроде памятной или приходно-расходной книжки, и своим заслугам, и заслугам друга, справляются беспрестанно с кодексом дружбы, который устарел гораздо больше Птоломеевой астрономии и географии или Квинтилиановой риторики, всё еще ищут, нет ли чего вроде Пиладова подвига, и когда захотят похвалить друга или похвалиться им (эдакой дружбой хвастаются, как китайским сервизом или собольей шубой), то говорят – это испытанный друг, даже иногда вставят цифру XV–XX, даже ХХХ-летний друг, и таким образом дают другу знак отличия и составляют ему очень аккуратный формуляр. Остается только положить жалованье – и затем прибить вывеску: здесь нанимаются друзья. Напротив, про неиспытанного друга часто говорят – этот только приходит есть да пить, а чуть что, так и того… и даже ведь не знаешь его, каков он на деле. Им нужны дела в дружбе – и они между тем называют дружбу бескорыстной, – что это? проклятие и дружбе, такое же непонимание и непризнавание прав и обязанностей ее, как и в любви? Нет, я только хочу сказать, что, по-моему, истинная, бескорыстная и испытанная дружба та, когда порядочные люди, не одолжив друг друга ни разу, разве как-нибудь ненарочно, и не ожидая ничего один от другого, живут целые годы, хоть полстолетия вместе, не неся тягости уз, которые несет одолженный перед одолжившим, и наслаждаясь дружбою, как прекрасным небом, чудесным климатом без всякой за это кому-нибудь платы. В такой дружбе отраднее всего уверенность, что ничто не возмутит и не отнимет этого блага, потому что основание ее – порядочность обеих сторон. Вот Вам моя теория дружбы, да полно, теория ли только?.. Проследите мысленно все 17 лет (а Вы, Юнинька, 19) нашего знакомства, и Вы скажете, что я всегда был одинаков, пройдет еще 17 лет, и будет то же самое. Я никогда и ни у кого не просил ни рыданий, ни восторгов, а только прошу – не изменитесь. Я очень счастлив уверенностию, что Вы вспомните обо мне всегда хорошо. Отправляясь с этой уверенностью и надеждой воротиться, мог ли я плакать, жалеть о чем-нибудь? Тем более не мог, что, уезжая от друзей, я вместе с тем покидал и кучу надоевших до крайности занятий и лиц, и наскучившие одни и те же стены, и ехал в новые, чудесные, фантастические миры, в существование которых и теперь еще плохо верю, хотя штурман по пальцам рассчитывает, когда надо пристать в Китай, когда в Новую Голландию, и уверяет, что был уже там три раза. – Так, пожалуйста, не жалейте обо мне и запретите жалеть Языкову, которого самого и семью отчасти сливаю в уме (видите, в уме, ведь не ошибся, не сказал: в сердце) с Вашей, хотя знаю, что он любит меня не так, как Вы, а иначе, и любит потому, что не может почти никого не любить, стало быть, по слабости характера; он даже изменит мне по-женски, посадит кого-нибудь другого на мое место. Но это ничего: я только приеду и опять найду тотчас свое место и в сердце у них, и за круглым столом.
Прочтя всё это, Вы, Евгения Петровна, скажете: «Так вот наконец ваша profession de foi: а! высказались! ну, я очень рада». Как не так! ведь говорю, что не поймете меня никогда! Что же эта вся тирада о дружбе? Не понимаете? А просто пародия на Карамзина и Булгарина. Вижу только, что вышло длинно: ну, нечего делать, переделывать не стану, читайте как есть. Я обещал Вам писать всё что ни напишется, а Вы обещали читать – читайте.
«Так вот зачем он уехал, – подумаете Вы, – он заживо умирал дома от праздности, скуки, тяжести и запустения в голове и сердце; ничем не освежалось воображение и т. п.» Всё это правда, так, я совершенно погибал медленно и скучно: надо было изменить на что-нибудь, худшее или лучшее, это всё равно, лишь бы изменить. Но при всем том, я бы не поехал ни за какие сокровища мира… Вы уж тут даже, я думаю, рассердитесь: что ж это за бестолочь, скажете, – не поехал бы, а сам уехал! да! сознайтесь, что не понимаете, так сейчас скажу, отчего я уехал. Я просто – пошутил. Ехать в самом деле: да ни за какие бы миллионы; у меня этого и в голове никогда не было. Вы, объявляя мне об этом месте (секретаря), прибавили со смехом: «Вот вам бы предложить!» Мне захотелось показать Вам, что я бы принял это предложение. А скажи Вы: «С какой бы радостью вы поехали!» – я бы тут же стал смеяться над предположением, что я поеду, и, разумеется, ни за что бы не поехал. Я пошутил, говорю Вам, вон спросите Льховского: я ему тогда же сказал, а между тем судьба ухватила меня в когти, и вот я – жертва своей шутки. Вы знаете, как всё случилось. Когда я просил Вас написать к Аполлону, я думал, что Вы не напишете, что письмо нескоро дойдет, что Аполлон поленится приехать и опоздает, что у адмирала кто-нибудь уже найден или что, увидевшись с ним, скажу, что не хочу. Но адмирал, прежде моего «не хочу», уже доложил письмо, я – к графу, а тот давно подписал бумагу, я хотел спорить в департаменте, а тут друзья (ох, эти мне друзья, друзья) выхлопотали мне и командировку, и деньги, так что, когда надо было отказаться, возможность пропала. Уезжая, я кое-кому шепнул, что вернусь из Англии, и начал так вести дело на корабле, чтобы улизнуть. Я сильно надеялся на качку: скажу, мол, что не переношу моря, буду бесполезен, и только. На другой же день по выходе – буря! Просыпаюсь – меня бьет о стену то головой, то ногами, то другой более мягкой частью; книги мои все на полу, шинель, пальто качаются; в окне то небо появится, то море. Не тошнит ли, думаю: нет, хочется чаю, хочется курить – всё ничего. Пошел вверх суматоха, беготня, а море вдруг очутится над головой, а потом исчезнет. Стою, смотрю, только крепко держусь за веревку, ничего, любопытно – и только. «Э, да вы молодец, – говорят мне со всех сторон, – поздравляем, в первый раз в море и ничего! Каков!» А кругом кого тошнит, кто валяется. Так на качку вся надежда пропала. Думал было я притвориться, сказать, что меня, мол, тошнило, и даже лечь в койку, это мне нипочем. Но морская болезнь лишает аппетита, а я жду не дождусь первого часа, у капитана повар отличный, ем ужасно, потому что морской воздух дает аппетит. Другая хитрость: я стал жаловаться на вечный шум, на беготню и суматоху, что вот-де я ни уснуть, ни заняться не могу. Этому помогала моя хандра, о которой не знали на фрегате. Я говорил, что меня тревожит и топот людей, и стук упавшего каната, и барабан, и пушка. Обо мне стали жалеть серьезно, поговаривали, что лучше, конечно, воротиться, чем так мучиться. Но и это вскоре рушилось. Я сошел как-то во время чая вечером в кают-компанию: кто-то спросил, зачем часов в 5 палили из пушки? «Да разве палили?» сорвалось у меня с языка, я опомнился, но поздно. Все расхохотались, и уж и я с ними, а пушка-то стоит почти рядом с моей каютой, да ведь какая: в 4 аршина. Сказать разве, что, мол, – боюсь опасностей. Но этого даже и своей маменьке нельзя сказать. Наконец я сознался капитану, что мне просто ужасно не хочется, что Китай и Бразилия и занимают-то меня, как я теперь вижу, не слишком много, что я уж и не молод, а здесь беспокойно, на вытяжке, и нравы, и привычки, обычаи не по мне. «Ну, хотите я вам устрою возвращение?» – сказал он. – «О благодетель!» И в самом деле устроил, наговорил адмиралу, что я ужасно страдаю, скучаю и мало сплю (не ем он не говорил, язык не поворотился, я ведь у него ел, так он видел, а спать, когда ж я много спал?)
Адмирал выслушал с участием, призвал меня (это было в Лондоне), сказал, что он очень жалеет, что удерживать меня не станет, что лучше конечно воротиться теперь, чем заехать подальше и мучиться. Только жаль, прибавил он, что вы не предвидели этого в Петербурге: теперь некого взять на ваше место. Он выхлопотал мне даже у посланника поручение в Берлин и Варшаву, чтоб я мог воротиться на казенный счет. И я несколько дней прожил в Лондоне надеждою увидеться скоро с вами опять. Посланник сказал, чтоб я съездил скорей в Портсмут за своими вещами и явился опять к нему за бумагами. Я приехал третьего дня в Портсмут и – не поехал более в Лондон, а еду дальше вокруг света. Опять задача – вот поймите-ка меня, не поймете. Уж так и быть, скажу: когда я увидел свои чемоданы, вещи, белье, представил, как я с этим грузом один-одинехонек буду странствовать по Германии, кряхтя и охая отпирать и запирать чемоданы, доставать белье, сам одеваться да в каждом городе перетаскиваться, сторожить, когда приходит и уходит машина и т. п., – на меня напала ужасная лень. Нет уж, дай лучше поеду по следам Васко де Гамы, Ванкуверов, Крузенштернов и др., чем по следам французских и немецких цирюльников, портных и сапожников. Взял да и поехал. Опять тот же капитан устроил дальнейшее мое путешествие, сказал адмиралу, что я не прочь и дальше ехать, что я надеюсь привыкнуть. Адмирал был здесь и опять призвал меня, сказал, что, конечно, мне лучше ехать, что ревматизм в щеке пройдет под тропиками, где о зубной боли не слыхивали, что к шуму и беготне я так привыкну, что перестану и замечать, что если для меня, как для незнакомого человека с морем, страшны опасности, лишения, так в обществе 500 человек их легче сносить, что, наконец, я буду после каяться, что отказался от такой необыкновенной экспедиции. Я остановил его словами: я еду. И вот еду, прощайте. Всё, что только есть дурного в морском путешествии, мы испытали и испытываем. Выехали мы в мороз, который заменился резкими ветрами; у Дании стало потеплее, как у нас бывает в сенях осенью; а я перед открытым окном раздевался, потому что когда окно закрыто да выпалят, так окно вдребезги; уж у меня два раза вставляли стекла. В качку иногда целый день не удается умыться, некогда, а в Немецком море, когда мы десять дней лавировали взад и вперед, нисколько не подвигаясь дальше, стали беречь пресную воду, потому что плавание могло продолжиться еще месяц, и выдавали для умыванья морскую, которая ест глаза и не распускает мыла. Мой Фаддеев воровал мне по два стакана пресной воды, будто для питья. И на капитанском столе стала тогда чаще являться солонина, так что состаревшиеся более от качки и морских беспокойств, нежели от времени, и ослепшие от порохового дыма куры и утки да выросшие до степени свиньи поросята поступили в число тонких блюд. И теперь, сидя за этим письмом, закутанный в тулуп и одеяло, я весь дрожу от холода, в каюте сыро, отвсюду дует, дохнешь и пустишь точно струю дыма из трубки, а всё дальше хочется, дальше. Мало того, меня переводят из адмиральской каюты в самый низ, с офицерами, где каюты темные, душные и маленькие, как чуланчики, рядом в общей комнате вечный крик и шум, других кают нет, фрегат битком набит – и я еду, еду, с величайшей покорностью судьбе и обстоятельствам, даже с странною охотою – испытать эти неудобства, вкусить крупных и серьезных превратностей судьбы. Говорят, что мы вкусили будто бы самое неприятное, – не верится. Впереди – если не будет холода, так будут нестерпимые жары, если не будет беспокойной качки Немецкого моря, так будут океанские штормы, и т[ому] п[одобные] удовольствия. Правда, как только мы выступили, у нас сорвался сверху и упал человек в море: спасти его было нельзя, он плыл за фрегатом и время от времени вскрикивал, потом исчез. Таково было наше обручение с морем. Потом появилась холера: мы по-морскому похоронили троих матросов, потом в Зунде сели на мель. Были туманы, крепкие ветры, а плавание до Англии считается самым опасным. Я вам не писал ничего об этом, чтоб не было преувеличенных толков, потом хотелось мне написать вам побольше, вдруг, да всё или развлекался, или зубы болели. – Когда офицеры узнали, что я хочу воротиться, они – странно – опечалились, стали упрашивать, чтоб я остался. Я сказал, что предоставил капитану переделать дело, как он хочет: если переделает опять, я останусь и буду молчать, если нет, тоже молча уеду. Некоторые побежали к капитану и просили опять поговорить адмиралу. И что я им сделал, что им во мне? Дуюсь, хандрю, молчу – а они! чудаки! Адмирал сказал мне, что главная моя обязанность будет – записывать всё, что мы увидим, услышим, встретим. Уж не хотят ли они сделать меня Гомером своего похода? Ох, ошибутся: ничего не выйдет, ни из меня Гомера, ни из них – аргивян. Но что бы ни вышло, а им надо управлять судном, а мне писать, что выйдет из этого – Бог ведает.
Я воображал, Николай Аполлонович, милейший, неиспытанный, но прочнейший друг мой, Вас на своем месте, и часто; как бы Вы довольным были всякою дрянью: и в койке-то Вам бы казалось спать лучше всякой постели, и про солонину сказали бы, что лучше на берегу не едали. Как бы Вы сами себе доставали белье, скидали и надевали сапоги, а как бы уладили всё в своей каюте! А работы много – надо уставить всё так, чтоб от качки не падало: и комод пригвоздить к стене (а у меня только привязан, Вы бы пригвоздили и себе и мне), и книги, и подсвечники, графины укрепить, и подпилить почти все ножки у мебели. На Немецком море особенно я вспомнил о Вас: около фрегата появились касатки, млекопитающие животные, толстые, черные, и беспрестанно перекидывались поверх волн.
Фрегат наш теперь в доке; кое-что исправляют, прибавляют еще пушек, приделывают аппарат для выделывания пресной воды, и мы пробудем здесь, пожалуй, недели три. Хотел было в Париж ехать, да меня сбило с толку предполагавшееся возвращение в Россию. Дня через два думаю ехать опять в Лондон (3½ часа езды по железной дороге) и, если будет возможность, – во Францию, хоть на неделю. – Мы пока помещены в гавани, на старом английском корабле, всё в беспорядке.
Вот письмо к концу, скажете вы, а ничего о Лондоне, о том, что вы видели, заметили. Ничего и не будет теперь. Да разве это письмо? опять не поняли? Это вступление (даже не предисловие, то еще впереди) к Путешествию вокруг света, в 12 томах, с планами, чертежами, картой японских берегов, с изображением порта Джаксона, костюмов и портретов жителей Океании. И. Обломова.
Ну, обнимаю вас, друзья мои, и смущаюсь только тем, что увижу вас не ранее трех лет. Ах, если б годика через полтора! Я бы даже готов был воротиться через Сибирь на этом условии. А мы еще не знаем, как пойдем. Говорят, не через Бразилию, а прямо в Новую Голландию: дней 80 пробудем в море, не видя берега. Вы, Николай Ап[оллонович] и Евг[ения] Петровна, не прочтете моего маранья, но вы, Аполлон, Старик (целую Вашу Старушку), и Вы, Льховский, конечно, поможете разобрать, если только станет охоты. Капитан, я думаю, посмотрит да и скажет: за какое это наказание читать? Бурька, а ты что? Чай всё по игрушечным лавкам?
Теперь следует, как у мужиков водится, начать: а кланяйтесь Александру Павловичу, да Владимиру Григорьевичу, да Василью Петровичу и Любови Ивановне с Анной Вас[ильевной], да Юлии Петровне с детьми, да Дудышкину, да Азаревичевым, [2]2
В автографе ошибочно: Лазаревичевым.
[Закрыть] да Филиппову, да Марье Федоровне, да Мих[аилу] Парф[еновичу], да Степану Дмитриевичу, – но пусть извинят меня те, кого не упомяну, я не забыл и не забуду никого, а просто лень.
Что касается до этого и следующих писем, то Вы, Николай Апол[лонович], обещали не давать их никому, а прятать до меня, потому что после я сам многое забуду, а это напомнит мне: быть может, понадобится. Притом я пишу без претензий для вас и других самых коротких друзей, оттого и желал бы, чтобы прочли только они; вы их всех знаете. Если будут спрашивать, скажите, что кто-нибудь взял, да не принес.
Языковым напишу. Катерине Федоровне привет.
Прочитавши всё, что написал, совещусь, посылать ли, но и писать опять лень, так не давайте же читать никому, тем более что это письмо относится до одних только вас, да Юнии Дм[итриевны], да Льховского – да только: для своих.
Элькану кланяйтесь, скажите, что предсказания его фальшивы: я не спился, да и надежды нет: моряки пьют по рюмке водки за обедом да по рюмке вина, а за ужином опять по рюмке водки, а вина нет, и только. А некоторые и совсем не пьют, чуть ли я не главный пьяница. Англичанки – чудо, но о женщинах после когда-нибудь.
Я уже в д[епартамен]т писал к Кореневу, что еду назад: Вы, Старик, скажите ему, что это опять изменилось, меня даже испугала мысль воротиться. Перед отъездом я опять напишу ему и тогда скажу, как можно ко мне писать и куда. Адмирал писал в Петербург, чтобы нашим родным и знакомым дозволили посылать письма через Англию с казенными депешами из Министерства иностранных дел (Заблоцкий знает) туда, где будем: надо только наблюдать сроки, но я напишу еще об этом.








