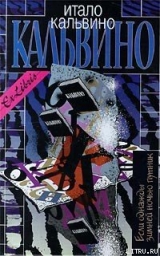
Текст книги "Паломар"
Автор книги: Итало Кальвино
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
ПАЛОМАР В САДУ
Любовные игры черепахВо дворике две черепахи, самка и самец. Бац! Бац! – стучат их панцири. Паломар украдкой наблюдает.
Самец со всех сторон подталкивает самку к краю тротуара. Та будто бы противится его наскокам, по крайней мере сохраняет неподвижность. Он меньше и активнее, наверное моложе. Много раз он подступается к ней сзади, но панцирь там крутой, и он соскальзывает вниз.
Вот наконец ему, должно быть, удалось устроиться как следует: он делает ритмичные толчки, сопровождаемые шумным выдохом, почти что криком. Самкины передние конечности распластаны, и зад от этого приподнят. Самец трясет над нею лапами, вытягивает шею, тянется вперед раскрытым ртом. За панцирь, как ни бейся, не ухватишься; впрочем, такие лапы не способны уцепиться ни за что.
Но вот она пустилась прочь, самец за ней. Нельзя сказать, чтобы она была проворней или же полна решимости удрать. Он, дабы удержать ее, покусывает иногда одну из ее лап; она не протестует. Стоит ей остановиться, он пытается ее покрыть, однако она делает шажок, и он, свалившись, ударяется о землю члеником – довольно длинным, крючковидным; кажется, таким он сможет до нее добраться даже несмотря на толщину их панцирей и неудачную позицию. Поэтому неясно, сколько из подобных натисков закончится успехом, сколько – неудачей, сколько просто-напросто игра, спектакль.
Лето, дворик гол, только в углу зеленеет куст жасмина. Ухаживание состоит в неоднократном огибании лужайки с преследованием, бегствами и стычками – не лапами, а панцирями, глуховато ударяющимися друг о друга. Самка силится протиснуться между ветвей жасмина. Она уверена, – а может, хочет убедить, – что прячется; на самом деле нет вернее способа быть пойманной самцом и не иметь надежды на побег. Теперь он мог бы должным образом ввести свой член, но оба замерли и звуков никаких не издают.
Что ощущают, спариваясь, черепахи, синьору Паломару невдомек. Он следит за ними с бесстрастным интересом, будто за двумя машинами, двумя запрограммированными на случку электронными животными. Что может представлять собою эрос, если вместо кожи – покров из костяных пластин и роговых чешуек? Но ведь то, что мы обозначаем этим словом, тоже есть программа наших тел, – программа большей сложности, поскольку наша память собирает все сигналы, приходящие от каждой клетки кожи, каждой из молекул наших тканей, и умножает их, соединяя с импульсами, посылаемыми зрением и порожденными воображением. Различно лишь число каналов: от человеческих рецепторов отходят миллиарды нитей, связанных с компьютером, который управляет чувствами, взаимоотношениями, узами между людьми... Эрос есть не что иное, как программа, выполняемая хитроумной электроникой ума, но ум – это еще и кожа, к которой прикасаешься, разглядываешь, вспоминаешь. А как же черепахи в их бесчувственных футлярах? Может, недостаток стимулов их органов чувств вынуждает напряженно и сосредоточенно работать умы, что позволяет им до тонкостей познать себя... Может быть, их эросом управляют абсолютные духовные законы, между тем как мы все – пленники загадочного механизма, способного внезапно засориться, отказать, переключиться в бесконтрольный автоматический режим...
Может, сами черепахи понимают себя лучше? Минут примерно через десять панцири их разделяются. Самка, а за ней самец опять пускаются вокруг газона. Он держится теперь чуть дальше, временами шлепает ее по панцирю, налегает на нее слегка, не слишком-то уверенно. Они опять оказываются под жасмином. Он покусывает ее лапу – в том же самом месте.
Посвист дроздаСиньору Паломару повезло: в краю, где он проводит лето, много птиц. Пока, устроившись в шезлонге, он «работает» (на самом деле повезло ему и в том, что он «работает» в таких местах и позах, которые скорее вызывают мысль о полном расслаблении; вернее, ему выпало несчастье чувствовать себя не вправе не работать даже августовским утром, растянувшись под деревьями в шезлонге), скрытые листвою птицы демонстрируют свой разнообразный репертуар, так что Паломар находится в прерывистом, сумбурном, колком акустическом пространстве, где звуки, между тем, пребывают в равновесии, не выделяются ни громкостью, ни частотой, их сплетение образует однородную материю, целостность которой обуславливает не гармония, а легкость и прозрачность, пока в разгар жары в воздухе единовластно не воцаряются цикады, методично наполняющие время и пространство непрестанным грохотом.
Пение разных птиц он слушает с неодинаковым вниманием: то почти его не замечая и расценивая как один из элементов тишины, а то сосредоточенно пытаясь различить отдельные манеры, группируя их по степени сложности: одиночное чириканье, трели из двух нот – коротенькой и длинной, энергичное посвистывание дрозда, щелканье, каскады плавно нисходящих звуков, завитушки модуляций и, наконец, рулады.
Паломар способен только на такую общую классификацию: он не из тех, кто различает птиц по голосам, и чувствует себя слегка виноватым. Добываемые человеком новые познания не возмещают тех, что передаются из уст в уста и, раз утраченные, никогда уже не будут восстановлены и переданы дальше: никакая книга не способна научить тому, что ты запомнишь с детства, если будешь вслушиваться в пение птиц, приглядываться к их полету, а с тобою рядом будет человек, который точно знает их имена. Паломар же культу точных классификаций и номенклатур когда-то предпочел бесконечную погоню за сомнительной точностью определений переменчивого, переливчатого, многосложного – короче, неопределимого. Сейчас бы он сделал противоположный выбор, и раздумья, вызванные птичьим пением, приводят Паломара к заключению, что жизнь его есть череда упущенных возможностей.
Среди голосов пернатых выделяется посвист дрозда – его не спутаешь ни с чьим. Появляются дрозды под вечер – двое, без сомнения, чета, быть может, та же, что и год назад, и прежде в эту пору. Каждый день, заслышав две призывных ноты, – так обычно сообщают о своем приходе люди, – Паломар оглядывается, ища того, кто подал звук, и вспоминает: это час дроздов. И впрямь, вышагивают по поляне, будто истинное их призвание – быть наземными двуногими, и они забавы ради подчеркивают свое сходство с человеком.
Посвист дроздов своеобразен: кажется, свистит какой-то человек, который в этом деле не мастак, но у которого нашелся славный повод посвистеть, в дальнейшем этого он делать не намерен, а сейчас свистит решительно, но скромно и приветливо – так, чтоб наверняка снискать расположение тех, кто этот свист услышит.
Вскоре посвист раздается снова, голос подает тот самый дрозд или его супруга, но так, будто бы свистит впервые; если это диалог, то каждой реплике предшествуют довольно долгие раздумья. Только диалог ли это, или, может, каждый из дроздов свистит не для другого, а просто для себя? Так или иначе, это вопросы и ответы (обращенные к другому или к самому себе), или свистящий подтверждает нечто неизменное (к примеру, свое присутствие на данной территории, видовую и половую принадлежность)? Или ценность этого единственного слова – в том, что оно же раздается из второго клюва, что не забывается за время паузы?
А может, суть их разговора в том, чтобы друг другу сообщать: «Я здесь!», а продолжительность молчания добавляет к этой фразе смысл «еще»: «Я здесь еще, это еще раз я». А если смысл сообщения вообще не в свисте, а в молчании? Быть может, разговор их состоит из пауз? (Свист тогда – лишь пунктуационный знак, сигнал, оповещающий о переходе на прием.) Паузы, как будто одинаковые, могут выражать на самом деле массу смыслов – впрочем, как и посвист; можно разговаривать и молча, и посвистывая, главное – друг друга понимать. А может быть, никто из них другого и не понимает: каждый думает, что свистом выразил он нечто важное, но это важно лишь ему, и то, что слышит он в ответ, к его высказыванию отношения не имеет; это диалог глухих, беседа без начала и конца.
А человеческие разговоры что, иные? В этом же саду неподалеку занята поливкой вероник синьора Паломар. «Вон они!» – слова излишние, если супруг уже глядит на птиц, а если он еще их не заметил, непонятные, но так или иначе призванные утвердить приоритет супруги в наблюдении за пернатыми (поскольку первой их увидела и рассказала мужу о привычках птиц она) и подчеркнуть неотвратимость появления дроздов, свидетельницей коего она уже бывала столько раз.
– Тс-с! – произносит Паломар, как будто опасаясь, что жена спугнет дроздов (призыв напрасный – чета уже привыкла и к присутствию, и к голосам супругов Паломар), а на самом деле для того, чтобы оспорить якобы особые права жены, демонстрируя гораздо большую заботу о дроздах.
Тогда синьора Паломар бросает: «Высохла еще вчера» – про землю на газоне; бесполезное, по сути, сообщение на другую тему, сделанное в продолжение разговора, призвано свидетельствовать о гораздо большей близости, о более непринужденных, чем у мужа, отношениях с дроздами. Так или иначе, реплики жены приводят Паломара к выводу, что в целом все спокойно, и за это он ей благодарен: раз супруга подтверждает, что на сей момент нет более серьезных поводов для беспокойства, то, значит, он и дальше может отдаваться целиком своей работе (псевдо– или гипер-). Спустя минуту он также пробует послать супруге ободряющую весть – сообщить ей, что его работа (инфра– или ультра-) двигается как обычно; с этой целью он, пыхтя, бормочет: «Прямо как назло... и после стольких... все сначала... да уж черта с два...» – что в совокупности должно к тому же выразить: «Я очень занят» – на тот случай, если вдруг последние слова жены содержат завуалированный упрек – что-то вроде: «Мог бы тоже хоть немного поучаствовать в поливке сада».
Такой обмен словами подразумевает, что царящее между супругами согласие позволяет понимать друг друга и без уточнения всех подробностей; однако принцип этот применяется ими по-разному: синьора изъясняется законченными фразами, нередко содержащими намек или загадку – дабы испытать супруга на сообразительность и выяснить, насколько мысли их созвучны (что бывает не всегда); в свою очередь, Паломар из тумана внутреннего монолога выпускает лишь отдельные отчетливые звуки, надеясь ими если и не выразить весь смысл, то во всяком случае хотя бы передать нюансы состояния своей души.
Но синьора Паломар не хочет воспринимать его бурчание как речь и, показывая, что не слушает, тихонько произносит: «Тс-с!.. Спугнешь их...» – адресуя мужу тот призыв, с которым он намеревался обратиться к ней, и вновь подтверждая, что внимательней к дроздам она.
Зачтя очко себе в актив, синьора Паломар уходит. Дрозды поклевывают что-то на лугу, наверняка считая разговоры Паломаров равнозначными их собственному свисту. «Будто мы и впрямь свистим, и все». Тут размышления синьора Паломара, для которого разрыв между поведением людей и окружающим миром был всегда источником тревоги, обретают многообещающую перспективу. В тождественности свиста человека и дрозда он видит мостик через пропасть. Если б человек высвистывал все то, что ныне доверяет он словам, а дрозд посредством модуляций свиста выразил все, до сих пор невысказанное о себе как представителе живой природы, то тем самым был бы сделан первый шаг на пути преодоления разрыва между... между чем и чем? Природой и цивилизацией? Молчанием и словом? Паломар всегда надеялся: молчание содержит нечто большее, чем может выразить язык. А вдруг язык на самом деле – результат, к которому стремится все живое? Или все живое испокон веков – язык? Синьору Паломару опять становится тревожно.
Внимательно выслушав посвист дрозда, он делает попытку повторить его. За этим следует недоуменное молчание, как будто сообщение Паломара требует внимательного изучения; потом опять звучит такой же свист, и Паломар не разберет, ответ ли это ему или знак того, что он свистел совсем иначе и дрозды, не обратив внимания, просто продолжают разговор.
Так и пересвистываются дрозды и Паломар, недоуменно отвечая на вопрос вопросом.
Бесконечный лугДом синьора Паломара окружает луг. Для луга это место неестественное, значит, он – явление искусственное, хоть составлен из естественных травинок. Назначение его – изображать природу, что и происходит в результате замещения подлинной природы этих мест такой, которая вообще естественна, но здесь является искусственной. Обходится она недешево: травы надо сеять, поливать, подкармливать, уничтожать насекомых, косить, и требует все это нескончаемых расходов и трудов.
На лугу растут дикондра, мятлик, клевер. Их семенами, смешанными в одинаковых долях, и был засеян весь участок. Низенькая стелющаяся дикондра вскоре одержала верх: ковер из круглых мягких листиков ее, приятный и для взгляда, и для ног, становится все шире. Однако пышность придают лужайке остренькие пики мятлика – там, где они не слишком редки, и к тому же если вовремя их подстригать. Всходы клевера располагаются неравномерно: тут два пучка, там ни одного, а дальше – море; растет он буйно – до тех пор, пока не начинает поникать под тяжестью винтообразных листьев, которые сгибают нежный стебелек в дугу. Трясется и грохочет, приступая к пострижению, косилка; в воздухе разносится пьянящий запах свежего сена; выровненная трава как будто возвращается в свой колкий нежный возраст, но укусы лезвий выявляют прожелть, плешины, редину.
Приличный луг обязан представлять собою изумрудного оттенка гладь; такого неестественного результата добиваются вполне естественно природные луга. А здесь при тщательном осмотре выясняется, куда вертящаяся струйка дождевальной установки не доходит, где она, напротив, хлещет так, что загнивают корешки, а где нормальная поливка идет на пользу сорнякам.
Паломар, присев на корточки, выпалывает сорняки. У основания одуванчика – розетка из плотно друг на друга налегающих зубчатых листьев; если потянуть за стебель, он оказывается в руке, а корни остаются в грунте. Нужно захватить рукою все растение и полегоньку расшатывать его, высвобождая корешки с налипшими комочками земли и неказистыми травинками, полузадушенными беззастенчивым соседом, а потом забросить чужака туда, где он не сможет ни укорениться, ни рассеять семена. Взявшись выкорчевывать один сорняк, сейчас же замечаешь, что невдалеке возник другой, а там еще один, еще... Короче говоря, полоска травянистого ковра, как будто требовавшая лишь небольшой подчистки, на самом деле – форменные джунгли, где царит полнейший произвол.
Стало быть, сплошные сорняки? Нет, хуже: сорная трава так тесно перемешана с хорошей, что просто запустить в них руки и тянуть нельзя. Кажется, культурные растения вступили в сговор с дикорастущими, сломав сословные барьеры, смирились со своим упадком. Некоторые из диких сами по себе отнюдь не производят впечатления ни зловредных, ни коварных. Отчего же не причислить их к полноправным обитателям лужайки, не ввести в сообщество культурных трав? Вот так вот и приводят в запустение английские газоны, понемногу превращая их в бесхозные лужки! «Когда-нибудь, наверное, и я решусь на это», – думает он, чувствуя, однако, что задета будет его честь. В глаза бросаются цикорий, огуречная трава. Он выдергивает их с корнем.
Конечно, дергая по штучке тут и там, проблему не решить. Пожалуй, надо сделать вот что, рассуждает Паломар: выделить один квадратный метр и не оставить на нем ни малейшего следа каких-либо растений, кроме мятлика, дикондры или клевера. Потом приняться за другой квадратный метр. А может быть, еще позаниматься первым, образцовым? Установить количество травинок, виды трав, их густоту, распределение. На основании подсчетов можно будет сделать статистическое описание лужайки, а затем...
Впрочем, считать травинки мало толку – точно все равно не подсчитать. Четкой границы у лужайки нет, есть край, где травяной ковер кончается, но все равно и дальше пробиваются отдельные былинки; затем идет клочок, поросший густо, снова полоса пореже – продолжение луга? С другого края вклинился подлесок – где лужайка, где уже кустарник? Но и там, где ничего другого не растет, поди пойми, когда остановиться в счете: между всякими двумя травинками отыщется едва проклюнувшийся листик с корнем, представляющим собой почти невидимый белесый волосок; минуту-две назад им можно было пренебречь, но вскоре надо будет и его принять в расчет. Тем временем другие две травинки, только лишь чуть тронутые желтизной, теперь уже совсем увяли и в счет не идут. К тому же есть неполные, обрезанные посредине или у земли, разорванные вдоль прожилок листики-калеки... Целых эти дроби в сумме не дают, а так и остаются жертвами увечий – где еще живые, где уже кашица, гумус, пища для других растений...
Луг – это множество различных трав, – вот так, пожалуй, надо подходить к проблеме, – содержащее подмножества культурных и дикорастущих – сорняков; пересечение этих подмножеств составляют травы, что хоть и взошли стихийно, но относятся к культурным и от них неотличимы. В свою очередь подмножества содержат виды, каждый из которых сам подмножество, точнее, множество, включающее два подмножества: растущих на лугу синьора Паломара трав и не растущих там. Ветер, дунув, поднимает в воздух семена, пыльцу, и отношения между множествами путаются...
Мысли Паломара устремляются уже в иное русло: что мы видим: луг или травинку плюс травинку плюс травинку?.. Когда мы говорим, что «видим луг», то речь идет о восприятии наших несовершенных, грубоватых чувств, ведь на самом деле все множества суть совокупности отдельных элементов. Не стоит их считать, не важно их число, а важно, бросив взгляд, суметь увидеть каждое растеньице, его особенности и отличия. Уметь его не только видеть, но и мысленно представить. Мысленно нарисовать не «луг», а черешок с двумя листками клевера, слегка поникший лист-копье, изящную метелочку...
Паломар отвлекся, не полет больше сорняков, мысли его занимает теперь не луг – вселенная. Он примеряет к ней все то, что думал про лужайку. Вселенная как регулярный, упорядоченный космос или хаотичная пролиферация...[1]1
Пролиферация – стремительный рост и размножение растительных и животных клеток.
[Закрыть] Как, может быть, конечный, но неисчислимый мир с подвижными границами, в котором открываются другие миры... Вселенная – множество небесных тел, туманностей, мельчайшей пыли, силовых полей и их пересечений, множество разнообразных множеств...
ПАЛОМАР ГЛЯДИТ НА НЕБО
Дневная лунаНикто не смотрит на луну средь бела дня, когда наш интерес ей нужен больше, так как ее бытие пока еще проблематично. Выглядит она белесой тенью на залитом солнцем ярко-синем небе; где гарантия, что и на этот раз удастся ей предстать в своей обычной форме, засветиться? Луна хрупка, бледна, тонка; с одной лишь стороны стал понемногу обрисовываться четкий серповидный контур, остальное все еще пронизано лазурью. Она похожа на прозрачную просфору или полурастворенную таблетку, но кружок ее не тает, белизна его, наоборот, становится насыщенней за счет сгущающихся серо-голубых теней и пятен, о которых трудно заключить, черты ли это географии луны, или, быть может, заусенцы небосвода, проступающие через этот пористый, как губка, спутник.
Небо в эту пору еще очень плотное, компактное, и не вполне понятно, то ли белесый этот круг, на вид чуть тверже облака, отъединяется от его сплошной тугой поверхности, то ли, напротив, происходит разрушение основы, разъедание небосвода, и сквозь брешь проглядывает находящееся позади ничто. Сомнения усугубляет и неправильность фигуры: та сторона ее, которая сильней освещена клонящимся к закату солнцем, делается все объемнее; другая медлит, оставаясь в полутьме. Граница между зонами нечеткая, и кажется, что видим мы не тело в перспективе, а скорее календарную картинку – белый силуэт на фоне темного кружка. И был бы это месяц в первой четверти, а то ведь полная, или почти, луна, что делается все ясней по мере усиления контраста между небом и луною и все более четкой обрисовки ее окружности с едва заметными щербинками с восточной стороны.
Тем временем лазурный цвет небес сменился сперва барвинковым, затем лиловым (когда солнце покраснело), после – пепельным и темно-серым, белизна луны же проступала все решительнее, а светящаяся часть ее росла, покуда не заполнила весь диск. Как будто бы все фазы, от серпа до диска, проходимые луной за месяц, сменились за часы, прошедшие между ее восходом и заходом, с той лишь разницей, что крут весь так или иначе оставался постоянно на виду. На нем по-прежнему есть пятна, более того, их тени все сильнее контрастируют с лучистым фоном, но теперь уж нет сомнения, что это пятна на луне, подобие кровоподтеков или синяков, которые не примешь за сквозящий задник небосвода или дыры в мантии бесплотной, призрачной луны.
Так и непонятно, отчего она становится все более заметной и (признаем это!) яркой: или небо постепенно отделяется и погружается во тьму, или, быть может, приближается она сама, вбирая свет, разлитый в небе, в круглое отверстие своей воронки.
Но главное, все эти перемены не должны заставить нас забыть: луна тем временем перемещается по небосводу к западу и вверх. Самое изменчивое тело видимой Вселенной отличается необычайной верностью своим затейливым обычаям: она всегда приходит на свиданье, ее можно подстеречь, но, расставаясь с ней в каком-то месте, обнаруживаешь ты луну всегда в другом, и видишь, что она к тому же изменила позу – чуточку или совсем. Однако даже если неотступно следовать за ней, то все равно не замечаешь, что она неуловимо ускользает. Только облака рождают впечатление ее бега и мгновенных превращений, как бы выявляя то, чего бы не приметил взгляд.
Вот пробегает облако, из серого оно становится молочным, светится на почерневшем небе, воцарилась ночь, сверкают звезды, и луна – большое ослепительное зеркало. Ну, можно ли узнать в ней ту, какой она была лишь несколько часов назад? Озеро свечения, она разбрызгивает во все стороны свои лучи, выплескивается во тьму холодным серебристым ореолом, заливает белым светом улицы, которыми бредут лунатики.
Теперь сомнений нет: это начало ясной зимней ночи полнолуния. Уверившись, что больше он луне не нужен, Паломар идет домой.








