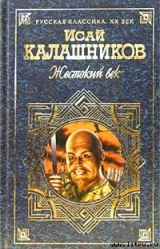
Текст книги "Гонимые"
Автор книги: Исай Калашников
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 30 страниц)
– С чем мы возвратимся к хану Тэмуджину?
– Передайте Алтану, Сача-беки, Хучару: мое уважение к их дальновидности и мудрости беспредельно. Они избрали путь, сама мысль о котором не пришла бы и в голову простому нойону вроде меня. Пусть же будут верными слугами моего анды, рабами у его порога!
Джамуха замолчал. Хорчи подождал-подождал, спросил:
– А что передать хану Тэмуджину?
– Я сказал все. Идите… великие послы.
Хорчи, сын собаки, у дверей обернулся, оскалил зубы. «Ну, погоди же, доберусь когда-нибудь до тебя!» – мысленно пригрозил ему Джамуха.
Глава 4
В вечернее небо, наполненное звоном комаров, поднимались белесые кусты дыма. Красноватые отблески закатного солнца ложились на кривое лезвие речки Сангур. Стадо коров прошло мимо юрт, пронося запах пота, шерсти, молока. Животные, сыто отдуваясь, спустились к воде, долго пили.
Когда поднимали головы, с мокрых губ падали розоватые капли. Дойщики с кожаными ведрами потянулись к стаду, негромко переговариваясь. Оэлун сидела на плоском камне, хранящем дневное тепло. Большеголовый Джучи, нетвердо держась на толстых ногах, словно бы нитками перехваченных в щиколотках, деловито искал что-то в траве. Хоахчин стояла над ним, отгоняя ковыльной метелкой комаров.
– Цзяо шэммо минцзя?[44]44
Как твое имя? (кит.).
[Закрыть] – Хоахчин наклонилась над мальчиком.
Он, занятый поисками, раздвигал траву, подымал и бросал камешки.
Хоахчин легонько шлепнула его метелкой по спине.
– Цзяо шэммо минцзя?
– Воды минцзя Джучи[45]45
Меня зовут Джучи (кит.).
[Закрыть], – торопливо сказал мальчик.
– Хоахчин, не забивай голову ребенку своими цза-минцза! Все равно ничего не поймет.
– Он понимает… – тихо сказала Хоахчин, отошла в сторону, села на траву, спиной к Оэлун и Джучи.
Поредевшие ее волосы были связаны на затылке в узел. Узкая спина сгорбилась. Стареет бедная Хоахчин. Сколько всего вынесли с ней вдвоем!
Работящая, бодрая, она всегда была для Оэлун и сестрой, и подругой.
Нянчила детей, копала коренья, из старья-рванья умела выкроить одежонку.
– Хоахчин…
Она повернула голову. В острых углах глаз блестели слезы.
– Ты обиделась? Ну что ты, Хоахчин, как можно! Говори с Джучи на каком хочешь языке…
– Спасибо, фуджин. Я не обижаюсь. Многие слова моего языка забыла. И Хо вспомнила. Пропал где-то мой брат, совсем пропал. Ой-е, к чему моя такая жизнь?
– Ну, Хоахчин, зачем говоришь такое? Жив, наверное, Хо. Очень уж далеко земля твоих предков…
– Ой-е, далеко… Весной птицы летят с той стороны, осенью летят в ту сторону. Люди – ни туда ни сюда…
Оэлун почувствовала себя виноватой перед Хоахчин. У нее самой есть дети, внук, а что у Хоахчин? Ничего. Ни одного родного человека.
– Садись сюда, Хоахчин. – Оэлун пододвинулась, уступая ей место на камне.
Хоахчин села, утерла слезы ладонью.
– Помнишь, Хоахчин…
Оэлун не досказала. От юрт к ним направлялись вдовы отца Сача-беки.
Старшая, Ковачин-хатун, широкоскулая, морщинистая, сильно прихрамывала на обе ноги, шла вперевалку, будто утка, и опиралась на толстую палку; младшая, Эбегай-хатун, – мать Сача-беки и Тайчу, полная, с обрюзглым лицом, поддерживала Ковачин-хатун под руку. Оэлун не любила этих женщин.
Старые бездельницы были только тем и заняты, что ходили по куреню, всех поучая. Они знали все обо всех. Злой дух принес их сюда. Не иначе.
Женщины остановились около Джучи. Эбегай-хатун поманила его к себе, играя пухлыми пальцами, сюсюкая. Джучи увернулся, шлепнулся, на четвереньках добрался к Оэлун, спрятал лицо в подоле халата.
– Пугливый, как ягненок! Не в отца, совсем не в отца. – Жидкие щеки Эбегай-хатун затряслись от смеха.
– Тебе-то откуда знать, каким был в ту пору его отец? – спросила Оэлун.
– И верно. Каким был его отец, я совсем не знаю, – миролюбиво согласилась Эбегай.
– Не знаешь – зачем тебе говорить об этом? – спросила Хоахчин. – Ты фуджин!
Ковачин-хатун стукнула ее по спине палкой.
– Как смеешь сидеть рядом с хатун? Кто позволил тебе открывать рот?
Хоахчин молча поднялась и ушла в юрту. Оэлун, бледная от негодования, тоже хотела было уйти, но подумала, что это будет очень похоже на бегство, и осталась. Ковачин-хатун, охая, села на камень, уперла закругленный конец палки в острый, с обвислой кожей подбородок, проворчала:
– Все перевернулось. Где была голова, там ноги.
– Сами все и переворачиваем! – подхватила Эбегай.
– Сами, сами… То ли еще будет. Что можно хорошего ждать, если младшие правят старшими…
– Ты о моем Тэмуджине? – спросила Оэлун.
– И о Тэмуджине тоже. Ну кто твой сын, чтобы править нашим Сача-беки?
– Моими Сача-беки и Тайчу, – поправила ее Эбегай.
– Твоими. Но я старшая жена их отца. Мы, благодарение вечному небу, пока что живем по старым обычаям, с людьми низкородными и безродными дружбу не ведем, род нашего мужа и наших детей не позорим. – Узкие глаза Ковачин-хатун скосила на Оэлун.
– Не опозорить свой род еще не значит его прославить.
– Да уж у вас славы занимать не станем, – скрипела въедливая Ковачин.
– Наши дети не на черемше росли, и мяса ели досыта, и молоко пили.
– Не на пользу, видно, пошло молоко и мясо, если старшим над собой поставили Тэмуджина, выросшего на черемше да на кореньях, – сказала Оэлун.
Эти нападки ее мало задевали. Пусть завидуют ей эти вздорные женщины – что им остается делать? Жизнь прожили – сытно ели, мягко спали, а что нажили? Ни умудренности, которая приходит с возрастом, ни доброты сердца, которую рождают муки и страдания, – ничего нет. А мнят себя лучше всех. Ну и пусть… У них – прошлое, у ее детей – будущее.
– Ты высоко не возносись, – сказала Эбегай. – Твой Тэмуджин стоит на наших плечах. Вот скинут, опять черемшой питаться будете.
– Кто же его скинет? – насторожилась Оэлун.
Это была уже не просто болтовня. Недалекая Эбегай, наверное, где-то слышала. Может быть, от Сача-беки? Это вполне возможно. Сразу же после избрания Тэмуджина ханом она почувствовала все возрастающую, хотя и глубоко скрытую, неприязнь нойонов к ее сыну. Но еще никто ни разу не говорил вот так, прямо, что его можно «скинуть». Ханов не скидывают, подобно бурдюку с телеги, ханства лишают вместе с жизнью.
– Так кто же скинет моего Тэмуджина?
– Сам упадет, – сказала Ковачин-хатун.
– Вы пустые женщины! – Оэлун поднялась, прижала к груди Джучи. – Если я узнаю, что где-то еще ведете такие разговоры, вас поставят перед лицом моего сына, хана вашего, и заставят указать, кто замышляет против него недоброе, кто хочет отступить от клятвы.
– Ты младше нас, а говоришь такие слова! – возмутилась Ковачин-хатун.
Но Эбегай, видимо, испугалась, подхватила ее под руку.
– Идем. Ты, Оэлун, совсем не понимаешь шутливых разговоров.
К юрте подскакал Хасар. Обугленное солнцем лицо в поту, халат на груди расхлестнут, глаза злые. Сдернул с упаренной лошади седло, пнул ее коленом в бок.
– Пошла, кляча! Мама, есть у тебя что-нибудь попить?
– Хоахчин! Налей ему чашку кумыса. Откуда приехал, сынок?
Хасар махнул рукой, взял из рук Хоахчин чашку, запрокинув голову, одним глотком выпил кумыс.
– Мне все надоело! Тэмуджин покоя не дает. Скачи туда, скачи сюда…
Весь зад седлом отбил.
– Что сделаешь, Хасар… Вам, братьям Тэмуджина, надо трудиться вдвое больше других. – Оэлун поставила Джучи на землю, подтолкнула к Хоахчин. Иди, маленький, попей кумысу.
– Он гоняет нас хуже простых нукеров! – Хасар скосоротился, плюнул. Повелел мне ведать вместе с Хубилаем мечниками. Ведает один Хубилай. А кто он? Еще недавно крутил хвосты быкам Аучу-багатура. Кого оделяет за службу?
Всех, только не нас, его братьев.
– Сынок, ты не говори за всех моих сыновей, – мягко попросила Оэлун.
– Ты говори о себе.
– Хорошо, буду говорить о себе. Вчера попросил у него коня Халзана.
Не дал. А сегодня на нем ездит джамухинский родич Хорчи. А у меня под седлом не конь – старая корова.
– Ну к чему ты разогреваешь себя, сынок! Конь у тебя не так уж плохой. Вспомни лучше время, когда и такого не было.
– Мало что! Когда-то и меня самого на свете не было.
– Ты груб, Хасар. И злость мешает тебе думать. Если Тэмуджин не будет приближать к себе людей и все раздаст своим – кто останется с нами?
Посмотри на Тэмуджина. Он не носит шелковых халатов и дорогих украшений, все отдал своим товарищам. И все для того, чтобы укрепить наш улус. Или ты думаешь, что мы стали всесильными, что нам уже не грозят никакие беды?
– Ничего я не думаю! А в его ханскую юрту больше не зайду. Если нужно, пусть ведут меня на веревке. Это позабавит его дружков и сильно укрепит наш улус.
– Ах, сынок, сынок, какой же ты еще глупый! – с горечью сказала она, поправила воротник его запыленного халата. – Ваша ссора только умножит силу врагов и убавит число друзей.
– Все равно не пойду к нему! Я решил…
– Ну, раз решил – не ходи. К Тэмуджину пойду я. Скажу: «Мой сын нездоров, не может сидеть на коне. Я заменю его».
Лицо Хасара вспыхнуло, он отвел свой взгляд.
– Ну что ты, мама…
– Сними пояс с мечом и дай мне!
Сын попятился, круто, на одной ноге повернулся и пошел к юрте Тэмуджина.
– Подожди. – Оэлун догнала его, взяла за руку. – Ты храбрый, сильный.
Не будь строптивым, сынок. Возвращаясь с дальней дороги, проси у Тэмуджина новое дело и скачи опять. Не думай о пустяках, будь неутомим, я стану гордиться тобою.
Она проводила его взглядом, вернулась к камню. Сидела в одиночестве, томимая тревожными предчувствиями. В этом взбаламученном, озлобленном завистью и застарелой враждой мире, видно, никогда не наступит успокоение.
Когда сына поднимали на черном войлоке, она не могла сдержать слез. В этот момент ей казалось, что все мучения, страдания остались позади, наступает время благоденствия, простых, обыденных забот и неубывающей радости от сознания безопасности. Но люди принесли в улус ее сына семена раздоров, как приносит путник в юрту грязь на подошвах гутул. И в тишине временного успокоения вызревают эти семена, дают побеги, оплетают корнями души властолюбивых или своенравных, как ее Хасар. А из чужих улусов за ними недреманно смотрят враждебные глаза, ждут случая, чтобы все созданное растоптать копытами боевых коней, изрубить мечом, раскидать копьем. Хватит ли у Тэмуджина сил удержать в руках улус, сохранить его от алчности соседей, от зависти ближних?
Мягкие сумерки опускались на землю. Ночные дозорные уезжали в степь.
От реки двигалась повозка, запряженная одним конем. Медленно поворачивались тяжелые высокие колеса. Рядом с повозкой, подгоняя коня хворостиной, шагал высокий мужчина. Увидев Оэлун, он сбился с шага, торопливо перешел на другую сторону повозки. Она почему то сразу догадалась, кто это, пошла наперерез, остановила коня.
– Ты почему здесь? Ты зачем пришел? С чем пришел?
Чиледу почесал ногу о ногу, виновато сказал:
– Я здесь давно.
– Ты что-нибудь замыслил против моего сына?
Она со страхом ждала ответа и не знала, что сделает, если Чиледу пришел в курень как враг. Он черканул хворостиной по земле, устало усмехнулся.
– Не меня надо бояться твоему сыну. Я попал в плен к вашим воинам.
– Это когда разбили меркитов?
– Ага. Я не хотел встречи с тобой.
Оэлун с облегчением вздохнула.
– Ты можешь уехать к своим. Я дам тебе коня и седло.
– Мне некуда ехать, Оэлун. Но ты не беспокойся, я не буду мешать тебе.
– Ты где живешь? Что делаешь?
– У Тайчу-Кури. Он делает стрелы.
– Знаю. Это сын Хучу. Его отец погиб, защищая мой улус.
Чиледу беспокойно оглянулся.
– Я поеду, Оэлун. Хатун не к лицу говорить на дороге с рабом.
Он ударил хворостиной коня. Повозка скрипнула, покатилась. Чиледу шагал, опустив широкие плечи. Длинные, давно не стриженные волосы свешивались на уши, на затылок.
Оэлун медленно пошла к своей юрте. В душе была сосущая пустота.
Подъехав к юрте, Чиледу распряг коня. К нему подбежал Олбор, бросился на руки. Чиледу подкинул его высоко над головой. Мальчик взвизгнул, дрыгнул ногами.
– Еще!
– Хватит с тебя и этого. – Чиледу опустил его на землю, погладил по голове. – Оба мы с тобой дети горя.
– Ты не дети, – поправил его Олбор. – Ты – мой отец.
Из юрты выглянула Каймиш.
– Мы ждем тебя, Чиледу. Пора ужинать.
В юрте горели жирники. При их свете Тайчу-Кури приклеивал к древкам оперение. В берестяной качалке ворочался сын Тайчу-Кури и Каймиш – Судуй.
Каймиш сняла с котла деревянную крышку, отворачиваясь от облака пара, выложила куски мяса в корытце.
– Тайчу-Кури, бросай работу.
– Иду! – Тайчу-Кури отбросил со лба волосы, отвел руку с оперенной стрелкой, улыбнулся. – Хорошо сделал. Молодец Тайчу-Кури.
– Расхвастался! – притворно строго сказала Каймиш.
– А что? Ты меня никогда не хвалишь. Чиледу – тоже. Что делать? Хвалю сам себя. Олбор, я делаю хорошие стрелы?
Мальчик шмыгнул носом.
– Хорошие.
– Во! Всегда и всем так говори! – Тайчу-Кури поддернул рукава халата, наклонился над мясом, вкусно почмокал губами. – Джэлмэ прислал целое стегно. Любит меня Джэлмэ. Хан Тэмуджин тоже. Другие и сухого хурута не едят досыта, а у нас мясо.
– Ну, хвастун! Ох, и хвастун! – сказала Каймиш. – Можно подумать, что мы каждый день мясом объедаемся.
– Чего захотела – каждый день… Олбор, я не хвастун?
– Нет.
– Молодец! Ну и молодец! – Тайчу-Кури взял кость, выбил из нее на нож столбик студенистого мозга, протянул Олбору. – Вот тебе маленькая награда за хорошие слова. А твой отец делает плохие стрелы, да? Скажи, плохие, еще дам.
Олбор поглядывал то на Тайчу-Кури, то на Чиледу, молчал.
– Ну! Не хочешь? Тогда скажи, что эта тетя плохая тетя.
– Она хорошая, – насупясь, сказал Олбор. – Отец хороший.
Тайчу-Кури рассмеялся.
– Ну, умница! Вот умница! Правильно, Олбор! Ты славный парень, Олбор!
Каймиш шлепнула ладонью по спине мужа.
– Помолчи немного! С утра до вечера тебя только и слышно. Мало того во сне всю ночь бормочешь.
Лениво, без охоты, теребил Чиледу зубами твердое, жилистое мясо, размышляя о встрече с Оэлун. В последнее время думы редко выходили за пределы этой юрты. Тут он нашел то, что встречал так редко, – дружелюбие, неистощимую приветливость. Порой казалось, что до этого все время брел по сыпучим снегам, коченея от холода, и только сейчас прибился к теплу очага, начал отогреваться. Эти люди стали до боли родными, бесконечно своими.
Встреча с Оэлун может все изменить. Если она захочет, он принужден будет покинуть курень. Правда, она вроде бы успокоилась, когда узнала, что он всего лишь пленный раб, а не подосланный соглядатай, но тревога за детей может оказаться сильнее благоразумия. Для Оэлун, для ее детей он чужой. Но что он может сделать им худого? Ну, а если бы мог?
Тайчу-Кури выпил чашку супа-шулюна, лег на войлок, надулся, показал Олбору на свой живот.
– Бей!
Мальчик сжал кулак и стукнул.
– Крепко? Сиди и ешь. Как твое пузо станет таким же тугим, ложись спать. Делай так каждый день – багатуром вырастешь.
Немного передохнув, Тайчу-Кури снова принялся прилаживать оперение к стрелам. Каймиш осуждающе покачала головой.
– Хватит тебе, Тайчу-Кури! Скоро от работы горбатым станешь.
– Моя жена Каймиш! Послушай поучительное слово своего мужа. Живет человек, будто собака, потерявшая своего хозяина. Он вечно голоден, любой его может избить, убить. И вдруг ему привалило счастье – ешь, как нойон, пей, как нойон, спи, как нойон. Что я должен делать? Валяться на войлоке, смотреть хорошие сны и обрастать жиром? Я должен, жена моя Каймиш, прилежной работой отблагодарить нашего Тэмуджина.
Поправив на камне нож, Чиледу стал очищать заготовленные для стрел палки от коры. Тонкие стружки на светлом лезвии ножа свивались в крутые кольца. Олбор подбирал их и наматывал на пальцы. С острого, как копье, пламени жирника стекала черная струйка дыма. Почти каждый вечер они сидели вот так – работали, разговаривали. В этих вечерах было для Чиледу что-то праздничное, что-то такое, чего он тоже не знал раньше. Сейчас, слушая рассуждения Тайчу-Кури, он с удивлением подумал: сын Оэлун, сам того не ведая, сделал для него столько хорошего, сколько не сделал ни один человек. Не будь его, давно бы издох в собачьей берлоге, заживо съеденный блохами. Напрасно опасается Оэлун, что он может стать врагом ее сыну.
Только человек, потерявший совесть, может за добро платить злом. И не в этом лишь дело. Кто станет вредить Тэмуджину, тот будет разрушать покой этой юрты, слаженную жизнь ее молодых хозяев.
Перед сном Чиледу вышел из юрты. В курене мерцали огни дымокуров, у коновязей фыркали лошади. Низко над головой висели яркие звезды. Чиледу понял, что сам он никогда не покинет этого куреня. Если понадобится, будет защищать Каймиш и Тайчу-Кури, Олбора и Судуя, Оэлун и ее детей…
Глава 5
– Проснись! Проснись же скорее!
Джамуха сел, открыл глаза. Уржэнэ зажигала светильники, к чему-то испуганно прислушивалась. В юрте висела сухая горькая пыль, за стенами шумел ветер, хлестал песком по войлоку – горячий ветер Гоби.
– Что такое?
– В курене неспокойно…
В шорохе ветра он уловил лай собак, топот копыт, крик людей. Звуки были смятые, едва различимые – потеха злых духов? Джамуха сунул босые ноги в гутулы, надернул халат, затянул пояс с мечом, выскочил из юрты. Ветер рванул полы халата, сбил шапку, швырнул в лицо колючий песок. Голоса людей стали слышнее. Неужели враги? Недавно он откочевал от Тогорила, поселился между нутугами Таргутай-Кирилтуха и Тэмуджина, зная, что рано или поздно эти двое схватятся… Неужели поставил себя под удар?
– Караульный!
Напряженный голос караульного донесся откуда-то из-за юрты:
– Я тут!
– Иди сюда. Что происходит в курене?
– Не знаю. Наша стража не подавала знаков.
– Какие сейчас знаки, пустая твоя голова! Веди коня!.. Нет, стой!
Ветер на мгновение стих, и он совсем рядом услышал стук копыт. Из темноты на него надвинулась морда лошади, обдала лицо влажным дыханием.
Отступив, выдернул меч.
– Кто такой?!
– Это я, твой нукер Курух… Беда, повелитель! Твой брат Тайчар…
Подъехали еще люди. Звон стремян, оружия, сопение коней заглушили последние слова Куруха.
– Заходите в юрту.
Глаза, забитые песком, слезились. Огни светильников расплывались маслеными пятнами. Уржэнэ, одетая, бледная, стояла посередине юрты, держала в руках его боевой шлем. Нукеры молча внесли в юрту что-то длинное, завернутое в грязную попону, положили на пол. Ветер рванулся в двери, смахнул огни светильников. Джамуха выругался.
– Я сейчас! – сказала Уржэнэ.
Она разгребла горячие угли очага, вытянув губы, подула на них. Пламя скакнуло на сухие травинки. Взяв зажженный светильник, Джамуха поднял его над головой. Попону уже развернули. На ней, вытянув вдоль тела безжизненные руки, лежал Тайчар.
– Что с ним?
Толкнув кому-то светильник, он опустился на колени, повернул голову Тайчара. Полуприкрытые глаза брата мертвенно отражали свет, правый висок, щека были черными от запекшейся крови. Неверными, непослушными руками Джамуха раздвинул воротник халата, припал ухом к оголенной груди, тут же выпрямился. Все нукеры, опустив глаза, стояли на коленях.
– Кто его убил? – сипло, чужим голосом спросил Джамуха.
Курух ткнулся лбом в край попоны.
– Мы отогнали табун коней от одного из куреней Тэмуджина. Нас настигли… Не уберегли мы твоего брата и нашего друга. Велика наша вина, безмерно горе…
– Скулить будешь потом! Люди Тэмуджина гнали вас до куреня?
– Нам, кажется, удалось оторваться. Но ты не беспокойся. Мы подняли воинов. Курень не спит…
– Идите. Смотрите. Слушайте. В случае чего дадите знать…
Нукеры рады были покинуть юрту. Поспешно вскочили, тесня друг друга, вывалились за порог. Уржэнэ поставила все светильники в изголовье Тайчара.
Жир шипел, потрескивал, пламя колебалось, мутный от пыли свет метался по оголенной груди Тайчара, по его темному лицу с удивленно приоткрытыми губами. Единственный брат… Джамуха всегда думал, что Тайчар будет славой и гордостью рода. Нет Тайчара, нет брата. Он, Джамуха, остался на этой земле один… Случись что и с ним – навсегда угаснет очаг рода…
Ветер усиливался. Шу-шу-шу, шу-у! – бил песок по войлоку юрты.
Уржэнэ сидела напротив, широко открытыми глазами смотрела перед собой.
– У нас нет детей, Уржэнэ, не стало и брата…
Она вздрогнула. На ресницах копились, набухая, слезы, сорвались, прокатились по щекам.
– Не надо, Уржэнэ. Монгольские женщины не плачут. – Он поднялся. – За смерть Тайчара убийца заплатит своей жизнью. Будь я проклят, если не прикончу его и всех его родичей! Кто бы он ни был, пусть даже сам анда Тэмуджин… Караульный! – Он ударил кулаком по решетчатой стенке юрты хрустнули тонкие прутья, – и когда нукер заскочил в юрту, торопливо прикрыв за собой полог, приказал:
– Позови Куруха и Мубараха.
– Ты что хочешь делать? – встревожилась Уржэнэ.
– Поведу воинов на курень убийцы. Снесу всем головы, растопчу юрты.
– Не спеши, Джамуха. Твоим разумом правит гнев.
– Мой гнев не угаснет, пока не насажу на конец своего меча сердце убийцы!
– Джамуха, ты не забывай, Тэмуджин – твой анда… Подняв на него меч, ты преступишь клятву, уронишь свою честь.
– О своей и о моей чести должен был подумать он, направивший руку убийцы!
– А если он не направлял?
Джамуха замолчал. Уржэнэ, возможно, права. Об убийстве Тэмуджин скорей всего не знает. Коней-то отогнал Тайчар… За похитителями, как и водится, кинулась погоня… Ну, нет, при таком рассуждении он оправдает убийцу. Кровь брата взывает о мести. И он отомстит!
Вошли Курух и Мубарах. Почему-то на цыпочках прошли мимо Тайчара.
Глаза, нахлестанные ветром, были с красными, воспаленными веками.
– Как в курене?
– Пока спокойно.
– Садитесь. Говорить будем долго.
– Ты хочешь знать, как все это было? – осторожно кашлянув, спросил Курух.
– Я не хочу ничего знать. Тайчар мертв, и это главное.
– Он был убит стрелой Дармалы.
– Какого Дармалы?
– Того, что приезжал вместе с Хорчи посланцем от Тэмуджина.
– А-а… Помню. Глупый, самодовольный и ничтожный. А такого человека сгубил! – В горле Джамухи запершило. – Много воинов в том курене? Сможем с ходу захватить его?
– Сможем. Но… – Курух замялся, глянул на Мубараха, словно прося у него поддержки.
Они, видимо, догадывались, что он им предложит, и уже обо всем поговорили. Это его рассердило.
– Чего запинаешься, как колченогий конь? Говори.
– Курень сейчас наверняка насторожен…
– Ты не то хотел сказать, Курух!
– Мы опасаемся этой внезапной войны, – сказал Мубарах. – Мы не готовы к ней. Мы не знаем, сколько сил у Тэмуджина.
– Трусы! – крикнул он.
Курух и Мубарах потупились. Он видел – не от стыда, от обиды и упрямого несогласия с ним. Оба они были отважными и разумными воинами, первыми мужами его племени, и он, конечно, не должен был говорить с ними так.
– Вы хотите, чтобы кровь Тайчара осталась неотомщенной?
– Этого нет в наших мыслях. – Мубарах поднял голову, нахмурился. Надо искать помощи. У Тогорила…
– Тогорил не даст ни одного воина. Если он узнает, что мы собираемся напасть на Тэмуджина, помешает нам. Неужели это не понятно? Мы найдем помощь в другом месте. Я поеду к тайчиутам. Мы сокрушим Тэмуджина.
– Джамуха, он твой анда, – вновь тихо, печально напомнила Уржэнэ. И он вдруг понял то, что, кажется, раньше его поняла Уржэнэ: потерял не только кровного брата, но и своего анду. До этого, несмотря ни на что, в сердце жила надежда, крошечная, не всегда заметная, что когда-нибудь небо сведет-таки их дороги в одну, но, если он сейчас обнажит свой меч против Тэмуджина и меж ними ляжет кровь, дороги уже никогда не сойдутся.
– Курух, ты поедешь к Тэмуджину.
– К Тэмуджи-ину?..
– К нему. Склони перед ним голову и скажи так: «Анда мой, злое горе обрушилось на мою юрту, болью и кровью залито мое сердце, скорбью наполнена душа. Единственный брат покинул меня. Он ушел не по зову неба, его увели не духи, творящие зло, а люди твоего улуса. Рассудив, что моя боль – это и твоя боль, моя скорбь – это и твоя скорбь, прошу тебя, мой клятвенный брат, вместе со мною воздать по заслугам злодею и роду его».
– Я запомнил твои слова. На рассвете я отправлюсь в путь, – сказал Курух.
– В путь ты отправишься сейчас.
Курух прислушался к ветру за стеной юрты, потер воспаленные глаза, обреченно вздохнул.
– Я готов отправиться сейчас.
– Буду ждать тебя. Не медли. С убийцей на аркане или один поскорее возвращайся сюда.
Тайчар лежал безучастный ко всему. К левому гутулу пристала веточка колючего репейника. Выходя, Мубарах наклонился, отбросил ее. Нога чуть шевельнулась. Судорожный всхлип застрял в горле Джамухи. Он закрыл лицо ладонями, выдавил из горла глухой стон.
Уржэнэ развела огонь в очаге, подогрела котелок архи, налила полную чашу, подала ему. Он выпил, сам наполнил чашу еще раз, поставил к изголовью брата.
На рассвете у юрты собрался почти весь курень. Он вышел к людям.
Бурые тучи пыли неслись над землей, прикатывая траву, гнули спины людей, взметывали полы одежды. Метущаяся, гудящая завеса скрывала долину, сопки, небо…








