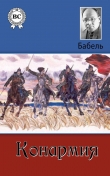Текст книги "Конармия"
Автор книги: Исаак Бабель
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц)
Жизнеописание Павличенки, Матвея Родионыча
Земляки, товарищи, родные мои братья! Так осознайте же во имя человечества жизнеописание красного генерала Матвея Павличенки. Он был пастух, тот генерал, пастух в усадьбе Лидино, у барина Никитинского, и пас барину свиней, пока не вышла ему от жизни нашивка на погоны, и тогда с нашивкой этой стал Матюшка пасти рогатую скотину. И кто его знает, – уродись он в Австралии, Матвей наш, свет Родионыч, то возможная вещь, друзья, он и до слонов возвысился бы, слонов стал бы пасти Матюшка, кабы не это мое горе, что неоткуда взяться слонам в Ставропольской нашей губернии. Крупнее буйвола, откровенно вам выскажу, нет у нас животной в Ставропольской раскидистой нашей стороне. А от буйвола бедняк утехи себе не добудет, русскому человеку над буйволами издеваться скучно, нам, сиротам, лошадку на вечный суд подай, лошадку, чтобы душа у нее на меже с боками бы повылазила…
И вот пасу я рогатую мою скотину, коровами со всех сторон обставился, молоком меня навылет прохватило, воняю я, как разрезанное вымя, бычки вокруг меня для порядку ходят, мышастые бычки серого цвета. Воля кругом меня полегла на поля, трава во всем мире хрустит, небеса надо мной разворачиваются, как многорядная гармонь, а небеса, ребята, бывают в Ставропольской губернии очень синие. И пасу я этаким манером, с ветрами от нечего делать на дудках переигрываюсь, покеда один старец не говорит мне:
– Явись, – говорит, – Матвей, к Насте.
– Зачем, – говорю. – Или вы, старец, надо мной надсмехаетесь?..
– Явись, – говорит, – она желает.
И вот я являюсь.
– Настя! – говорю я и всей моей кровью чернею. – Настя, – говорю, – или вы надо мной надсмехаетесь?
Но она не дает мне себя слыхать, а пускается от меня бегом и бежит из последних силов, и мы бежим с нею вместе, пока не стали на выгоне, мертвые, красные и без дыхания.
– Матвей, – говорит мне тут Настя, – третье воскресенье от этого, когда весенняя путина была и рыбалки к берегу шли, – вы то же самое с ними шли и голову опустили. Зачем же вы голову опускали, Матвей, или вам какая думка сердце жмет? Отвечайте мне…
И я отвечаю ей:
– Настя, – отвечаю, – мне отвечать вам нечего, голова моя не ружье, на ней мушки нету и прицельной камеры нету, а сердце мое вам известно, Настя, оно от всего пустое, оно небось молоком прохвачено, это ужасное дело, как я молоком воняю…
И Настя, вижу, заходится от этих моих слов.
– Я крест приму, – заходится она, смеется напропалую, смеется во весь голос, на всю степь, как будто на барабане играет, – я крест приму, вы с барышнями перемаргиваетесь…
И поговоривши короткое время глупости, мы с ней вскорости женились. И стали мы жить с Настей, как умели, а уметь мы умели. Всю ночь нам жарко было, зимой нам жарко было, всю долгую ночь мы голые ходили и шкуру друг с дружки обрывали. Хорошо жили, как черти, и все до той поры, пока не заявляется ко мне старец во второй раз.
– Матвей, – говорит он, – барин давеча твою жену за все места трогал, он ее достигнет, барин…
А я:
– Нет, – говорю, – нет, и простите меня, старец, или я пришью вас на этом месте.
И старец, безусловно, пустился от меня ходом, а я обошел в тот день моими ногами двадцать верст земли, большой кусок земли обошел я в тот день моими ногами и вечером вырос в усадьбе Лидино у веселого барина моего Никитинского. Он сидел в горнице, старый старик, и разбирал три седла: английское, драгунское и казацкое, – а я рос у его двери, как лопух, цельный час рос, и все без последствий. Но потом он кинул на меня глаза.
– Чего ты желаешь? – говорит.
– Желаю расчета.
– Умысел на меня имеешь?
– Умысла не имею, но желаю.
Тут он свернул глаза на сторону, свернул с большака в переулочек, настелил на пол малиновых потничков, они малиновей царских флагов были, потнички его, встал над ними старикашка и запетушился.
– Вольному воля, – говорит он мне и петушится, – я мамашей ваших, православные христиане, всех тараканил, расчет можешь получить, только не должен ли ты мне, дружок мой Матюша, какой-нибудь пустяковины?
– Хи-хи, – отвечаю, – вот затейники вы, в самделе, убей меня бог, вот затейники! Мне небось с вас зажитое следует…
– Зажитое, – скрыгочет тут мой барин, и кидает меня на колюшки, и сучит ногами, и лепит мне в ухо отца и сына и святого духа, – зажитое тебе, а ярмо забыл, в прошлом годе ты мне ярмо от быков сломал, – где оно, мое ярмо?
– Ярмо я тебе отдам, – отвечаю я моему барину и возвожу к нему простые мои глаза и стою перед ним на колюшках ниже всякой земной низины, – отдам тебе ярмо, но ты не тесни меня с долгами, старый человек, а подожди на мне малость…
И что же, ребята вы ставропольские, земляки мои, товарищи, родные мои братья, пять годов барин на мне долги жал, пять пропащих годов пропадал я, покуда ко мне, к пропащему, не прибыл в гости восемнадцатый годок. На веселых жеребцах прибыл он, на кабардинских своих лошадках. Большой обоз вел он за собой и всякие песни. И эх, люба ж ты моя, восемнадцатый годок! И неужели не погулять нам с тобой еще разок, кровиночка ты моя, восемнадцатый годок… Расточили мы твои песни, выпили твое вино, постановили твою правду, одни писаря нам от тебя остались. И эх, люба моя! Не писаря летели в те дни по Кубани и выпущали на воздух генеральскую душу с одного шагу дистанции, Матвей Родионыч лежал тогда на крови под Прикумском, и оставалось от Матвея Родионыча до усадьбы Лидино пять верст последнего перехода. Я и поехал туда один, без отряда, и, взойдя в горницу, взошел в нее смирно. Земельная власть сидела там, в горнице, Никитинский чаем ее обносил и ласкался до людей, но увидев меня, сошел со своего лица, а я кубанку перед ним снял.
– Здравствуйте, – сказал я людям, – здравствуйте, пожалуйста. Принимайте, барин, гостя или как там у нас будет?
– Будет у нас тихо, благородно, – отвечает мне тут один человек, по выговору, замечаю, землемер, – будет у нас тихо, благородно, но ты, товарищ Павличенко, скакал, видать, издалека, грязь пересекает твой образ. Мы, земельная власть, ужасаемся такого образа, почему это такое?
– Потому это, – отвечаю, – земельная вы и холоднокровная власть, потому оно, что в образе моем щека одна пять годков горит, в окопе горит, при бабе горит, на последнем суде гореть будет. На последнем суде, – говорю и смотрю на Никитинского вроде как весело, а у него уже и глаз нету, только шары посреди лица стоят, как будто вкатили ему шары под лоб на позицию, и он хрустальными этими шарами мне примаргивает тоже вроде как весело, но очень ужасно.
– Матюша, – говорит он мне, – мы ведь знавались когда-то, и вот супруга моя, Надежда Васильевна, по причине происходящих времен рассудку лишившись, она ведь к тебе хороша была, Надежда Васильевна, ты ее, Матюша, больше всех уважал, неужели ты не пожелаешь ее увидеть, когда она свету лишилась?
– Можно, – говорю, и мы входим с ним в другую комнату, и там он руки стал у меня трогать, правую руку, потом левую.
– Матюша, – говорит, – ты судьба моя или нет?
– Нет, – говорю, – и брось эти слова. Бог от нас, холуев, ушился: судьба наша индейка, жисть наша копейка, брось эти слова, и послушай, коли хочешь, письмо Ленина.
– Мне письмо, Никитинскому?
– Тебе, – и вынимаю я книгу приказов, раскрываю на чистом листе и читаю, хотя сам неграмотный до глубины души. «Именем народа, – читаю, – и для основания будущей светлой жизни, приказываю Павличенко, Матвею Родионычу, лишать разных людей жизни согласно его усмотрению…» Вот, – говорю, – это оно и есть, ленинское к тебе письмо…
А он мне: нет!
– Нет, – говорит, – Матюша, хоть жизнь наша на чертову сторону схилилась и кровь в российской равноапостольной державе дешева стала, но тебе сколько крови полагается – ты ее все равно достанешь и мои смертные взоры забудешь, и не лучше ли будет, если я тебе половицу покажу?
– Кажи, – говорю, – может, оно лучше будет.
И опять мы с ним по комнате пошли, в винный погреб спустились, там он кирпич один отвалил и нашел шкатулку за этим кирпичиком. В ней были перстни, в шкатулке, ожерелья, ордена и жемчужная святыня. Он кинул ее мне и обомлел.
– Твое, – говорит, – владей никитинской святыней и шагай прочь, Матвей, в прикумское твое логово…
И тут я взял его за тело, за глотку, за волосы.
– С щекой-то что мне делать, – говорю, – с щекой как мне быть, люди-братья?
И тогда он сам с себя посмеялся слишком громко и вырываться не стал.
– Шакалья совесть, – говорит и не вырывается. – Я с тобой, как с российской империи офицером говорю, а вы, хамы, волчицу сосали… Стреляй в меня, сукин сын…
Но я стрелять в него не стал, стрельбы я ему не должен был никак, а только потащил наверх в залу. Там в зале Надежда Васильевна, совершенно сумасшедшие, сидели, они с шашкой наголо, по зале прохаживались и в зеркало гляделись. А когда я Никитинского в залу притащил, Надежда Васильевна побежали в кресло садиться, на них бархатная корона перьями убрана была, они в кресло бойко сели и шашкой мне на караул сделали. И тогда я потоптал барина моего Никитинского. Я час его топтал или более часу, и за это время я жизнь сполна узнал. Стрельбой, – я так выскажу, – от человека только отделаться можно: стрельба – это ему помилование, а себе гнусная легкость, стрельбой до души не дойдешь, где она у человека есть и как она показывается. Но я, бывает, себя не жалею, я, бывает, врага час топчу или более часу, мне желательно жизнь узнать, какая она у нас есть…
Кладбище в Козине
Кладбище в еврейском местечке. Ассирия и таинственное тление Востока на поросших бурьяном волынских полях.
Обточенные серые камни с трехсотлетними письменами. Грубое тиснение горельефов, высеченных на граните. Изображение рыбы и овцы над мертвой человеческой головой. Изображения раввинов в меховых шапках. Раввины подпоясаны ремнем на узких чреслах. Под безглазыми лицами волнистая каменная линия завитых бород. В стороне, под дубом, размозженным молнией, стоит склеп рабби Азриила, убитого казаками Богдана Хмельницкого. Четыре поколения лежат в этой усыпальнице, нищей, как жилище водоноса, и скрижали, зазеленевшие скрижали, поют о них молитвой бедуина:
«Азриил, сын Анания, уста Еговы.
Илия, сын Азриила, мозг, вступивший в единоборство с забвением.
Вольф, сын Илии, принц, похищенный у Торы на девятнадцатой весне.
Иуда, сын Вольфа, раввин краковский и пражский.
О смерть, о корыстолюбец, о жадный вор, отчего ты не пожалел нас, хотя бы однажды?»
Прищепа
Пробираюсь в Лешнюв, где расположился штаб дивизии. Попутчик мой по-прежнему Прищепа – молодой кубанец, неутомительный хам, вычищенный коммунист, будущий барахольщик, беспечный сифилитик, неторопливый враль. На нем малиновая черкеска из тонкого сукна и пуховый башлык, закинутый за спину. По дороге он рассказывал о себе…
Год тому назад Прищепа бежал от белых. В отместку они взяли заложниками его родителей и убили их в контрразведке. Имущество расхитили соседи. Когда белых прогнали с Кубани, Прищепа вернулся в родную станицу.
Было утро, рассвет, мужичий сон вздыхал в прокисшей духоте. Прищепа подрядил казенную телегу и пошел по станице собирать свои граммофоны, жбаны для кваса и расшитые матерью полотенца. Он вышел «на улицу в черной бурке, с кривым кинжалом за поясом; телега плелась сзади. Прищепа ходил от одного соседа к другому, кровавая печать его подошв тянулась за ним следом. В тех хатах, где казак находил вещи матери или чубук отца, он оставлял подколотых старух, собак, повешенных над колодцем, иконы, загаженные пометом. Станичники, раскуривая трубки, угрюмо следили его путь. Молодые казаки рассыпались в степи и вели счет. Счет разбухал, и станица молчала. Кончив, Прищепа вернулся в опустошенный отчий дом. Он расставил отбитую мебель в порядке, который был ему памятен с детства, и послал за водкой. Запершись в хате, он пил двое суток, пел, плакал и рубил шашкой столы.
На третью ночь станица увидела дым над избой Прищепы. Опаленный и рваный, виляя ногами, он вывел из стойла корову, вложил ей в рот револьвер и выстрелил. Земля курилась под ним, голубое кольцо пламени вылетело из трубы и растаяло, в конюшне зарыдал оставленный бычок. Пожар сиял, как воскресенье. Прищепа отвязал коня, прыгнул в седло, бросил в огонь прядь своих волос и сгинул.
История одной лошади
Савицкий, наш начдив, забрал когда-то у Хлебникова, командира первого эскадрона, белого жеребца. Это была лошадь пышного экстерьера, но с сырыми формами, которые мне тогда казались тяжеловатыми. Хлебников получил взамен вороную кобыленку неплохих кровей, с гладкой рысью. Но он держал кобыленку в черном теле, жаждал мести, ждал своего часу и дождался его.
После июльских неудачных боев, когда Савицкого сместили и заслали в резерв чинов командного запаса, Хлебников написал в штаб армии прошение о возвращении ему лошади. Начальник штаба наложил на прошении резолюцию: «Возворотить изложенного жеребца в первобытное состояние», и Хлебников, ликуя, сделал сто верст для того, чтобы найти Савицкого, жившего тогда в Радзивилове, в изувеченном Городишке, похожем на оборванную салопницу. Он жил один, смещенный начдив, лизуны из штабов не узнавали его больше. Лизуны из штабов удили жареных куриц в улыбках командарма, и, холопствуя, они отвернулись от прославленного начдива.
Облитый духами и похожий на Петра Великого, он жил в опале, с казачкой Павлой, отбитой им у еврея-интенданта, и с двадцатью кровными лошадьми, которых мы считали его собственностью. Солнце на его дворе напрягалось и томилось слепотой своих лучей, жеребята на его дворе бурно сосали маток, конюхи с взмокшими спинами просеивали овес на выцветших веялках. Израненный истиной и ведомый местью, Хлебников шел напрямик к забаррикадированному двору.
– Личность моя вам знакомая? – спросил он у Савицкого, лежавшего на сене.
– Видал я тебя как будто, – ответил Савицкий и зевнул.
– Тогда получайте резолюцию начштаба, – сказал Хлебников твердо, – и прошу вас, товарищ из резерва, смотреть на меня официальным глазом…
– Можно, – примирительно пробормотал Савицкий, взял бумагу и стал читать ее необыкновенно долго. Потом он позвал вдруг казачку, чесавшую себе волосы в холодку, под навесом.
– Павла, – сказал он, – с утра, слава тебе, господи, чешемся… Направила бы самоварчик…
Казачка отложила гребень и, взяв в руки волосы, перебросила их за спину.
– Целый день сегодня, Константин Васильевич, цепляемся, – сказала она с ленивой и повелительной усмешкой, – то того вам, то другого…
И она пошла к начдиву, неся грудь на высоких башмаках, грудь, шевелившуюся, как животное в мешке.
– Целый день цепляемся, – повторила женщина, сияя, и застегнула начдиву рубаху на груди.
– То этого мне, а то того, – засмеялся начдив, вставая, обнял Павлины отдавшиеся плечи и обернул вдруг к Хлебникову помертвевшее лицо.
– Я еще живой, Хлебников, – сказал он, обнимаясь с казачкой, – еще ноги мои ходют, еще кони мои скачут, еще руки мои тебя достанут и пушка моя греется около моего тела…
Он вынул револьвер, лежавший у него на голом животе, и подступил к командиру первого эскадрона.
Тот повернулся на каблуках, шпоры его застонали, он вышел со двора, как ординарец, получивший эстафету, и снова сделал сто верст для того, чтобы найти начальника штаба, но тот прогнал от себя Хлебникова.
– Твое дело, командир, решенное, – сказал начальник штаба. – Жеребец тебе мною возворочен, а докуки мне без тебя хватает…
Он не стал слушать Хлебникова и возвратил, наконец, первому эскадрону сбежавшего командира. Хлебников целую неделю был в отлучке. За это время нас перегнали на стоянку в Дубенские леса. Мы разбили там палатки и жили хорошо. Хлебников вернулся, я помню, в воскресенье утром, двенадцатого числа. Он потребовал у меня бумаги больше дести и чернил. Казаки обстругали ему пень, он положил на пень револьвер и бумаги и писал до вечера, перемарывая множество листов.
– Чистый Карл Маркс, – сказал ему вечером воевком эскадрона. – Чего ты пишешь, хрен с тобой?
– Описываю разные мысли согласно присяге, – ответил Хлебников и подал военкому заявление о выходе из коммунистической партии большевиков.
«Коммунистическая партия, – было сказано в этом заявлении, – основана, полагаю для радости и твердой правды без предела и должна также осматриваться на малых. Теперь коснусь до белого жеребца, которого я отбил у неимоверных по своей контре крестьян, имевший захудалый вид, и многие товарищи беззастенчиво надсмехались над этим видом, но я имел силы выдержать тот резкий смех, и, сжав зубы за общее дело, выходил жеребца до желаемой перемены, потому я есть, товарищи, до серых коней охотник и положил на них силы, в малом количестве оставшиеся мне от империалистической и гражданской войны, и таковые жеребцы чувствуют мою руку, и я также могу чувствовать его бессловесную нужду и что ему требуется, но несправедливая вороная кобылица мне без надобности, я не могу ее чувствовать и не могу ее переносить, что все товарищи могут подтвердить, как бы не дошло до беды. И вот партия не может мне возворотить, согласно резолюции, мое кровное, то я не имею выхода как писать это заявление со слезами, которые не подобают бойцу, но текут бесперечь и секут сердце, засекая сердце в кровь…»
Вот это и еще много другого было написано в заявлении Хлебникова. Он писал его целый день, и оно было очень длинно. Мы с военкомом бились над ним с час и разобрали до конца.
– Вот и дурак, – сказал военком, разрывая бумагу, – приходи после ужина, будешь иметь беседу со мной.
– Не надо мне твоей беседы, – ответил Хлебников, вздрагивая, – проиграл ты меня, военком.
Он стоял, сложив руки по швам, дрожал, не сходя с места, и озирался по сторонам, как будто примериваясь, по какой дороге бежать. Военком подошел к нему вплотную, но не доглядел. Хлебников рванулся и побежал изо всех сил.
– Проиграл! – закричал он дико, влез на пень и стал обрывать на себе куртку и царапать грудь.
– Бей, Савицкий, – закричал он, падая на землю, – бей враз!
Мы потащили его в палатку, казаки нам помогли. Мы вскипятили ему чай и набили папирос. Он курил и все дрожал. И только к вечеру успокоился наш командир. Он не заговаривал больше о сумасбродном своем заявлении, но через неделю поехал в Ровно, освидетельствовался во врачебной комиссии и был демобилизован как инвалид, имеющий шесть поранений.
Так лишились мы Хлебникова. Я был этим опечален, потому что Хлебников был тихий человек, похожий на меня характером. У него одного в эскадроне был самовар. В дни затишья мы пили с ним горячий чай. Нас потрясали одинаковые страсти. Мы оба смотрели на мир, как на луг в мае, как на луг, по которому ходят женщины и кони.
Конкин
Крошили мы шляхту по-за Белой Церковью. Крошили вдосталь, аж деревья гнулись. Я с утра отметину получил, но выкомаривал ничего себе, подходяще. Денек, помню, к вечеру пригибался. От комбрига я отбился, пролетариату всего казачишек пяток за мной увязалось. Кругом в обнимку рубаются, как поп с попадьей, юшка из меня помаленьку капает, конь мой передом мочится… Одним словом – два слова.
Вынеслись мы со Спирькой Забутым подальше от леска, глядим – подходящая арифметика… Сажнях в трехстах, ну не более, не то штаб пылит, не то обоз. Штаб – хорошо, обоз – того лучше. Барахло у ребятишек пооборвалось, рубашонки такие, что половой зрелости не достигают.
– Забутый, – говорю я Спирьке, – мать твою и так, и этак, и всяко, предоставляю тебе слово, как записавшемуся оратору, – ведь это штаб ихний уходит…
– Свободная вещь, что штаб, – говорит Спирька, – но только – нас двое, а их восемь…
– Дуй ветер, Спирька, – говорю, – все равно я им ризы испачкаю… Помрем за кислый огурец и мировую революцию…
И пустились. Было их восемь сабель. Двоих сняли мы винтами на корню. Третьего, вижу, Спирька ведет в штаб Духонина для проверки документов. А я в туза целюсь. Малиновый, ребята, туз, при цепке и золотых часах. Прижал я его к хуторку. Хуторок там был весь в яблоне и вишне. Конь под моим тузом как купцова дочка, но пристал. Бросает тогда пан генерал поводья, примеряется ко мне маузером и делает мне в ноге дырку.
«Ладно, – думаю, – будешь моя, раскинешь ноги…»
Нажал я колеса и вкладываю в коника два заряда. Жалко было жеребца. Большевичек был жеребец, чистый большевичек. Сам рыжий, как монета, хвост пулей, нога струной. Думал – живую Ленину свезу, ан не вышло. Ликвидировал я эту лошадку. Рухнула она, как невеста, и туз мой с седла снялся. Подорвал он в сторону, потом еще разок обернулся и еще один сквозняк мне в фигуре сделал. Имею я, значит, при себе три отличия в делах против неприятеля.
«Иисусе, – думаю, – он, чего доброго, убьет меня нечаянным порядком…»
Подскакал я к нему, а он уже шашку выхватил, и по щекам его слезы текут, белые слезы, человечье молоко.
– Даешь орден Красного Знамени! – кричу. – Сдавайся, ясновельможный, покуда я жив!..
– Не могу, пан, – отвечает старик, – ты зарежешь меня…
А тут Спиридон передо мной, как лист перед травой. Личность его в мыле, глаза от морды на нитках висят.
– Вася, – кричит он мне, – страсть сказать, сколько я людей кончил! А ведь это генерал у тебя, на нем шитье, мне желательно его кончить.
– Иди к турку, – говорю я Забутому и серчаю, – мне шитье его крови стоит.
И кобылой моей загоняю я генерала в клуню, сено там было или так. Тишина там была, темнота, прохлада.
– Пан, – говорю, – утихомирь свою старость, сдайся мне за ради бога, и мы отдохнем с тобой, пан…
А он дышит у стенки грудью и трет лоб красным пальцем.
– Не моге, – говорит, – ты зарежешь меня, только Буденному отдам я мою саблю…
Буденного ему подавай. Эх, горе ты мое! И вижу – пропадает старый.
– Пан, – кричу я и плачу и зубами скрегочу, – слово пролетария, я сам высший начальник. Ты шитья на мне не ищи, а титул есть. Титул, вон он – музыкальный эксцентрик и салонный чревовещатель из города Нижнего… Нижний город на Волге-реке…
И бес меня взмыл. Генеральские глаза передо мной, как фонари, мигнули. Красное море передо мной открылось. Обида солью вошла мне в рану, потому, вижу, не верит мне дед. Замкнул я тогда рот, ребята, поджал брюхо, взял воздух и понес по старинке, по-нашенскому, по-бойцовски, по-нижегородски и доказал шляхте мое чревовещание.
Побелел тут старик, взялся за сердце и сел на землю.
– Веришь теперь Ваське-эксцентрику, третьей непобедимой кавбригады комиссару?..
– Комиссар? – кричит он.
– Комиссар, – говорю я.
– Коммунист? – кричит он.
– Коммунист, – говорю я.
– В смертельный мой час, – кричит он, – в последнее мое воздыхание скажи мне, друг мой казак, – коммунист ты или врешь?
– Коммунист, – говорю.
Садится тут мой дед на землю, целует какую-то ладанку, ломает надвое саблю и зажигает две плошки в своих глазах, два фонаря над темной степью.
– Прости, – говорит, – не могу сдаться коммунисту, – и здоровается со мной за руку. – Прости, – говорит, – и руби меня по-солдатски…
Эту историю со всегдашним своим шутовством рассказал нам однажды на привале Конкин, политический комиссар N…ской кавбригады и троекратный кавалер ордена Красного Знамени.
– И до чего же ты, Васька, с паном договорился?
– Договоришься ли с ним?.. Гоноровый выдался. Покланялся я ему еще, а он упирается. Бумаги мы тогда у него взяли, какие были, маузер взяли, седелка его, чудака, и по сей час подо мной. А потом, вижу, каплет из меня все сильней, ужасный сон на меня нападает, сапоги мои полны крови, не до него…
– Облегчили, значит, старика?
– Был грех.



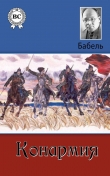

![Книга Юмор начала XX века [сборник] автора Аркадий Аверченко](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-yumor-nachala-xx-veka-sbornik-102349.jpg)