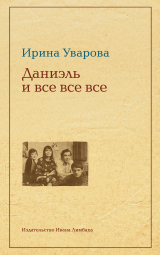
Текст книги "Юлий Даниэль и все все все"
Автор книги: Ирина Уварова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Ирина Уварова
Даниэль и все все все
Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)»
Благодарю Галину Ваншенкину, Ингу Розовскую и Леонида Невлера за помощь в подготовке книги к изданию

На контртитуле (слева направо): Софья Смык-Крутинская, Ирина Уварова, Юлий Даниэль, Павел Уваров
На обложке рисунок автора
© И. П. Уварова, 2014
© Н. А. Теплов, дизайн обложки, 2014
© Издательство Ивана Лимбаха, 2014
Как современник, я стараюсь припомнить события. Но как современник, не могу гарантировать непредвзятости в выборе значительных явлений. Да и вообще, какая может быть объективность по поводу собственной жизни?
– Слушай, а если Софья Власьевна копыта откинет – что будет?
– Да хорошо будет! Не сомневайся.
Никто и не сомневался.
Нужно ли объяснять молодому поколению, что это была подпольная кличка Советской Власти? Конспирация, так сказать. Но от кого, спрашивается, конспирация, если самый тупой филер, таскавшийся за нами, знал, кто такая Софья Власьевна?
Она была омерзительной старухой, эта СВ, да и вредной к тому же. Мы ее ненавидели. Мы потешались над ней. Мы надували ее. Не боялись, игнорировали – ее же. Но наша жизнь крутилась вокруг нее, и с этим ничего нельзя было поделать. Она занимала огромное место в пространстве тоже огромном – рыхлое чудовище, и «лаяй», как написано у Радищева – он в чудищах толк понимал.
Но и мы числились в этом пространстве, мы были прописаны на ее площади, и это ее раздражало.
Нас тоже.
Но кого это – нас?
На заре шестидесятых начинала просыпаться личность. Личность как таковая. Простое «я» выходило из сталинского наркоза. Свое «я» каждый из нас начинал выдирать из монолита державы, кто как умел; мы учились думать.
Я существую, следовательно, мыслю, и прошу заметить – мыслю критически.
В 1967 году Любимов поставил «Галилея» Бертольда Брехта. Там был Маленький Монах, Галилей ткнул его мордой в телескоп, чтобы тот понял, что мироздание устроено иначе, чем полагают маленькие монахи.
Мы заглянули тоже – и узнали, что Земля, на которой каждый из нас догадал родиться, крутится как окаянная вместе с другими планетами, а СВ может сидеть себе по-прежнему в обнимку с Птолемеем, утирая злобные слезы подолом железного занавеса. Занавес уже начинал ржаветь, скрипеть, местами крошиться, так что европейский мир мог с любопытством и опаской сквозь каверны в железе заглядывать к нам.
А мы выглядывали туда.
* * *
В 1955 году я, отчаянно труся, спускалась в арбатский подвал, чтобы выслушать замечания официального оппонента по университетскому диплому. Оппонент оказался снисходителен к моему неумелому опыту. Тема была ему близка: миссия лирического поэта, добровольное принятие креста, обреченность и жертвенность – «За всех расплачýсь, за всех расплáчусь» (М. Цветаева).
Одну линию лирики Маяковского, сказал он, следовало бы развить: печаль, смятение перед неминуемой Голгофой – помните, как сказано: «Господи, пронеси мимо чашу сию!»
Оппонентом был Андрей Синявский.
Где же мне было знать тогда, что он уже затеял опасную игру и, приняв крест, понимал, что чаша его не минует. В чаше плескалась лагерная баланда.
Андрей Синявский, а следом и Юлий Даниэль (псевдоним Николай Аржак) освобождались от цензуры внешней, печатались за рубежом. Тут был простор, и можно было бы увидеть сложные конфигурации, составленные из личности и маски, из «я» и «не я», когда б не Уголовный кодекс, настроенный враждебно к играм и иносказаниям.
Их выследили, арестовали. Впервые на скамье подсудимых оказались писатели и их книги.
В повестях Даниэля личность постигает науку отчуждения от покорной подслеповатой массы. Его герои имели человеческие слабости и мужскую силу необученного духа. Самодеятельным путем они осваивали понятия добра и зла, ржавевшие за ненадобностью, и принимали личную ответственность за злодеяния века, их миновавшие.
По тем временам все это оказалось крамолой.
В 1966 году состоялся открытый суд. Под аплодисменты и улюлюканье в печати Синявского и Даниэля приговорили к лагерям строгого режима.
После суда история передала дела в руки людей. Когда учиняли судилище над Пастернаком, в его защиту не прозвучало ни одного слова, вслух, по крайней мере. Но как мало понадобилось времени для того, чтобы столько людей заговорило, письменно и устно, когда дело дошло до суда над нашими писателями.
Люди, с которыми меня свела судьба в шестидесятые годы, принадлежали к той российской интеллигенции, которая всегда умудрялась мыслить критически и чувствовала, что не все спокойно в Датском королевстве. Точнее, совсем неспокойно. Но контуры нового «клана» обозначились более-менее четко, собственно, когда были арестованы Синявский и Даниэль. После этого суда «клан» стал расти, развиваться все более раскованно, все более рискованно и обрел имя Инакомыслящих.
Подспудные брожения умов привели в конце концов к тому, что теперь обоих подельников печатают без всякой цензуры.
I. Юлий
Сердце радоваться радо
за тебя. Ты всё успел,
что успеть в России надо —
воевал, писал, сидел.
Фазиль Искандер
«К перевоплощению не годен»
Достанься судьба Юлия Даниэля кому-нибудь другому, она считалась бы трудной и трагичной. Только Юлий так не думал. Напротив, был уверен: ему везет. Ни о чем не жалел за единственным исключением – что не стал актером.
После фронта в Щепкинском театральном слетел со второго тура, хотя голос имел глубокий и прекрасный, а стихи лучше, по-моему, вообще никто не читал. Но простота и естественность его были так органичны, что чей-то опытный театральный глаз определил: к перевоплощению не годен. Он был равен самому себе. Главным для него было слово. Он был приговорен к литературе.
Но когда после пединститута они с первой женой, Ларисой Богораз, работали в райцентре Людиново, в школе, не выдержал молодой учитель – поиграл в школьной самодеятельности.
И уже в московской послелагерной жизни просил друга режиссера сделать ему какой-нибудь грим, интересно же посмотреть, что получится. Еще ему хотелось как-нибудь примерить фрак, но этого не случилось. Зато был ему подарен старинный цилиндр. Цилиндр был грациозен, как негр, и однажды пущен в дело. Художник Борис Биргер созвал друзей на костюмированный новогодний вечер, Юлию был собран костюм поэта минувшего века. Успех был бурный – девятнадцатый век вошел в комнату под руку с Юлием под аплодисменты. Что же касается цилиндра, то он вызвал откровенную зависть, и Юлий всем дал его немножко поносить. Пришелся убор не Копелеву, не Войновичу и не Сахарову, а конечно же, Непомнящему, пушкинисту. Костюмированные кто-во-что-горазд гости веселились, как дети на елке.
Между тем за порогом праздника многих стерегла беда. На дворе стояли семидесятые годы, за кем-то шла слежка, кому-то звонили ночью с хриплыми угрозами, кого-то в скором времени поджидали гонения и изгнания. Но умел Биргер в ту напряженную пору учинить праздник-противостояние. Так отчетливо помню этот «бал моделей» (он всех их писал), потому что маскарадная роль Юлия тонко осветила его врожденное благородство и оттенила легкость угловатых движений. «Живая картина» отразила его сущность.
Ему всегда было что противопоставить проискам действительности. Кромешному судилищу – гибкую шпагу острого ответа, непролазной лагерной серости – цветную открытку на тумбочке. Оттого он так восхищенно чтил людей театра, что угадывал древнюю тайну их ремесла: противостояние. Все-таки в подлинной театральной душе спрятан гистрион, одиноко выходящий на бой с косной материей бытия, вооруженный лишь репликой и дурацкой маской.
Он актеров любил, артистками восхищался, с театральными художниками дружил, вот только опасался их вольностей в адрес драматургии – я же говорю, слово было главным.
Слово – рядом с ним, в нем, а театр – «там». В детстве дома он увидел гостей: Михоэлса и Зускина. «Знаешь ли, совсем близко видел!» Это надо было слышать: то есть так близко, как не бывает. В том смысле, что рядом с чудом, отгороженным заветной рампой, простой смертный мог оказаться лишь в случае невероятного везения.
Но он видел их, великих актеров, и в театре тоже. Тут повезло очень: связь с театром устанавливалась не простая зрительская, а кровная. В ГОСЕТе ставили пьесу его отца, Марка Даниэля, «Соломон Маймон». Соломон – Зускин, Михоэлс – постановщик. Декорация Фалька.
Другим кровным театром был Центральный детский, там шла другая пьеса отца – «Изобретатель и комедиант». Как-то мы оказались в этом театре. Юлий рассказал, сколько раз он ходил на спектакль и как чудесна была Агнесса, канатная плясунья, играла ее Коренева. Нам показали летопись театра, автором «Изобретателя» значился Михалков. По ошибке, конечно. Только писательская судьба знает подобные ошибки: имя Марка Даниэля исчезло, как не бывало. Он умер, не успев разделить кровавую участь своих товарищей. Когда же начали всплывать из небытия имена убитых еврейских писателей, память о Марке Даниэле наглухо перекрыло скандальное судебное дело сына.
И уж если на этих страницах я хожу вокруг театра, настало время сказать, что Юлию Даниэлю выпала роль. Трудная роль самого себя. Но ведь именно так и было: «Гул затих. Я вышел на подмостки». Или нет, не так, совершенно не так, и зал не зрительный, а судебный, и гул не затихал, и вышел на подмостки, потому что дали последнее слово подсудимого.
Я хочу, чтобы вы услышали это слово, сказанное 14 февраля 1966 года. Я хочу, чтобы услышали сейчас, когда уже широко известно многое, что позорно замалчивалось тогда, когда «оттепель» уже испарилась.
Поведи себя Синявский и Даниэль на открытом суде иначе, признай они обвинения праведными, а себя – виновными, кто знает, как повернулось бы сегодня неверное, старое как мир колесо истории.
Даниэль: Общественный обвинитель, писатель Васильев, сказал, что обвиняет нас от имени живых и от имени погибших на войне, чьи имена золотом по мрамору написаны в Доме литераторов <…>. Но почему обвинитель Васильев, цитируя слова из статьи Синявского – «…чтобы не пролилась ни одна капля крови, мы убивали, убивали, убивали…» – почему, цитируя эти слова, писатель не вспомнил другие имена – или они ему неизвестны? Имена Бабеля, Мандельштама, Бруно Ясенского, Ивана Катаева, Кольцова, Третьякова, Квитко, Маркиша и многих других. Может, писатель Васильев никогда не читал их произведений и не слышал их фамилий? Но тогда, может быть, литературовед Кедрина знает имена Левидова и Нусинова? Наконец, если обнаружится такое потрясающее незнание литературы, то, может быть, Кедрина и Васильев хоть краем уха слышали о Мейерхольде? Или, если они далеко вообще от искусства, может быть, они знают имена Постышева, Тухачевского, Блюхера, Косиора, Гамарника, Якира… Эти люди, очевидно, умерли от простуды в своих постелях – так надо понимать утверждение, что «не убивали»? Так как же все-таки – убивали или не убивали? Было или не было? Делать вид, что этого не было, что этих людей не убивали – это оскорбление, простите за резкость, плевок в память погибших. Судья: подсудимый Даниэль, я останавливаю вас. Ваше оскорбление не имеет отношения к делу».
Когда Юлий умер, Мария Валентей, внучка Мейерхольда, сказала: «Думайте о том, что он умер на ваших руках, а мой дед был совсем один в ночь перед расстрелом. Приговор он уже знал».
Какая странность нашего удела, мы и смерть равняем казни, и это так.
Послушайте, это так.
«С тех пор на Руси пошли Даниэли»
Родители его были необыкновенны. Уж во всяком случае мать. Минна Павловна.
Если книга интересная, обед не готовила.
– Юлик, тебе обедать не хочется? А то там сосиска…
Иногда спохватывалась проверить школьные знания.
– Ну-ка, что вам задали на завтра?
– На завтра нам задали про земляного червя.
– А ну, расскажи!.. Вот молодец! Ну, иди играй, а я почитаю, такая интересная книжка!
К слову сказать, она работала библиотекарем, что подкармливало и страсть к чтению. А на другой учебный год вдруг опять:
– А ну-ка, расскажи, что вам задали на завтра?
– На завтра нам задали про земляного червя!
Но школу Юлий все же навещал, и по дороге в Большевистском переулке задирал голову, чтобы приветствовать каменного рыцаря в нише старого доходного дома. И успевал отдать честь, трижды топнув по решетке водостока. Мушкетер, одним словом. Он меня водил, показывал и рыцаря, и водосток на Чистых прудах.
Все же, что там ни говори, в школу бегал. Хотя удирал оттуда более прилежно. Во всяком случае, во время суда над ним учительница литературы собиралась писать в Верховный суд: не мог ничего дурного сделать человек, в детстве так любивший литературу.
Минна работала в библиотеке мукомольного комбината. Там же работал, да еще и значился в больших начальниках отец Бориса Исааковича Зингермана, моего будущего… – как сказать? мэтра? покровителя? друга? – всё вместе, но не будем отвлекаться.
Минна Павловна была с ним (с отцом) очень дружна и попросила устроить своего Юлика на лето в лагерь на роль пионервожатого, прямо скажем, мало ему подходящую. Ну чего не сделаешь для милой женщины, такой веселой и легкой. И привлекательной, черт возьми. Так юный Боря Зингерман, в будущем один из самых авторитетных театроведов, встретился в летнем лагере с Юлием, да и пошел в пионеры, как сам вспоминал, поскольку уверовал в своего пионервожатого.
И это он привел ко мне Соню[1]1
Соня – Соня Смык-Крутинская. Мы прожили вместе одной семьей шесть лет – я и Павлик, потом я-Павлик-Соня. Потом и Юлий. И такая у нас получилась чудесная семья, и Соне тут отводилось очень значимое место. Мы с Юлием, кажется, и правда если не считали ее своей дочкой, то думали о ней именно так. Она получила театроведческое образование и уже не была с нами, но не перестала быть родной. После смерти Юлия она эмигрировала в Канаду, куда ее позвали друзья детства, все они были из Львова. В Канаде ее поджидало счастье – она вышла замуж за чудесного человека, а мы с ней остались связанными узами крепче, чем родство. Наверное, нужно было все-таки начинать с того, что была она и есть красавица.
[Закрыть]: «Буквально на неделю, Ирочка! Честью клянусь». Ох, поберегли бы вы честь, Борис Исаакович: Соня со мной прожила шесть лет – со мной, с Павлом[2]2
Павлик – Павел Юрьевич Уваров – мой сын, историк-медиевист, профессор.
[Закрыть] и с Юлием. Хорошая у нас была семья! Правда же, очень хорошая.
Однажды Минна Павловна сказала Юлику: «Мы мешаем папе работать. Поэтому он теперь будет жить и писать в другом доме. А ты сможешь к нему заходить».
И ведь не дурак был мальчик, а сколько времени прошло, прежде чем он понял: у отца, встречавшего его в бархатном халате с кистями, в новом доме другая жена.
После смерти Юлия она меня разыскала, Слава, последняя страсть его отца. Юная гордая полячка. Разыскивала много лет Юлика – и вот опоздала.
– О господи, да я о вас знаю! Мы тоже вас искали! Юлик так помнил вас – Слава… как дальше?
– Просто Слава.
Да нет, она была не просто Слава… Хороша была так, как бывают только юные польки. Вот и потерял голову стареющий Марк.
Вспоминала: когда они, еще любовники, не имели пристанища, явились ночью к Минне и Юлику, которых, между прочим, Марк бросил, как сказал бы хор обывателей. Но только не Минна. Встретив ночных гостей, захлопотала: «Ох, Марк, как ты устал! Садись скорее, я сниму твои ботинки, Юлик, согрей воду и тазик принеси. Да вы садитесь, чаю?.. Только вот у нас к чаю ничего нет».
Когда хоронили Марка, не дожившего до старости, писательская братия взялась ненавидеть юную польку: это из-за нее, это все она… Еврейские писатели в этом пункте сплотились, как никогда, явив собою дружное единство. Тут Минна Павловна подошла к ней, обняла, и взяла под свою защиту.
(Даже если поздняя любовь и сократила жизнь Марка Мееровича, или Марка Даниэля – как ни кощунственно, следует сказать: слава богу! Не дожил до уничтожения еврейских писателей, всех скопом. Не дробили кости, не вырывали золотые коронки.)
С годами Минна Павловна жизнерадостности, кажется, не потеряла. Однажды в нее влюбился молодой кто-то из Юликовых фронтовых друзей, предложение сделал! Она было и согласилась. Только вдруг: ой, как же так, я ведь Марка люблю. Нет, ничего не получится.
Потом, потом, когда жили на Маросейке в двух крошечных комнатках Юлий, Лара, Санька[3]3
Санька – Александр Даниэль, сын Юлия; историк, правозащитник, руководитель исследовательской программы «История инакомыслия в СССР»; член правления общества «Мемориал».
[Закрыть] и бабушка, что-то в Минне надломилось. Свет покинул ее, и душа все глубже уходила во мрак болезни. Умерла она в больнице и всю жизнь Юлика приходила к нему ночами ссориться и упрекать. Она и стояла, видимо, в ногах его постели в последнюю минуту, и он ее увидел, я это поняла. Увидел, изумился, и было это последним, что показала жизнь.
Но я не о том хотела рассказать, я – о женщине изумительной и неповторимой, которая была одарена талантом великой любви, а с этим без таланта не справиться. О Минне Павловне. И прежде чем расстанусь с нею, скажу еще.
Это она, профессиональная, можно сказать, читательница, вычитала у самого Гофмана псевдоним своему Марку: Даниэль…
Плохо ли? Одно звучание слова чего стоит! Даниэль, Даниэль! А кто он там, у Гофмана, этот самый Даниэль, это не интересовало ни Минну, ни Марка. Вот ведь! У писателей псевдонимы обычно полны скрытого значения, а тут – один звук. Но зато завораживающий. Дани-эль…
Как-то я писала рецензию на книгу «Русский круг Гофмана», и так она меня завлекла, что не удержаться было – вписала в русский круг Марка Мееровича: «с тех пор на Руси пошли Даниэли».
Сегодня пошел уже четвертый круг Даниэлей, потомство разнообразное и высокого свойства – все. Только никому это легкое звание «Даниэль» так не в пору, не в масть, как оно было Юлию.
Легкость. Плавность. Иной удельный вес, чем положено в наших широтах. Слово Гофмана «Даниэль» пришлось ему в пору, как… как башмачок Золушке. Хрустальный, между прочим.
Наконец, последнее.
Я разбирала фотографии, принесенные Юлием в большом пакете. Тут вошла в комнату тетя Маруся Мейстрик из Ташкента, дальняя моя родня. А я как раз фотографию Минны держу в руках, где ей лет восемнадцать…
– Тетя Маруся, на кого похожа эта девушка?
– Что ты мне голову морочишь, это же Вера! Твоя мать. Ты что же, родную мать не узнаешь?
Значит, не показалось мне, значит, так и есть. Похожи они, мама его и моя. В какой-то момент юности промелькнуло, показалось это сходство – и ушло. Но ведь было же!
* * *
Про мать Юлия писать было легко, будто я ее видела на самом деле, наяву. Но отца Марка Мееровича Даниэля вижу только на фотографиях. Красив. Вальяжен. Благороден. Я по существу ничего о нем не знаю.
Переплела все его книги, были они бумажные, в масть времени – поспешные. Поспешно изданы, торопливо переведены с идиша и порядком растрепаны. Может, и написаны торопливо. Запомнилась книга о Юлюсе из литовского подполья. Юлик и назван в его честь.
Юлий об отце говорил редко и вспоминал мало. Тайно от Юлия стремилась я понять этого человека, потому уговорила посетить два еврейских дома, где того могли помнить и где меня знали прежде. На пороге называю фамилию моего спутника (в те времена «Даниэль» – это пароль, проверка). Лица почтенных мужей подвергались мгновенному затмению, их жены всплескивали руками: «Марк!» Эти женщины всё еще были красивы и Марка вспоминали мгновенно.
За столом хозяева хотели заговорить на идиш, Юлий объяснил – языка не знает. Как же так?
Вы можете подумать это «как же так» к нему относилось? Нет. Ко мне. Они уже поняли – Юлик для упреков не создан, а я могла бы выучить язык, чтобы читать Марка в подлиннике.
Эти женщины вспоминали Марка хором. Хорошо вспоминали. И мужья их не хмурились.
Еще я привела Юлия к Тышлерам. Услышав пароль «Даниэль», Александр Григорьевич обрадовался. И Флора, всегда меня упрекавшая (не так пишу о Тышлере), улыбалась сердечно. Тышлер вспоминал Марка с яркостью и, конечно же, талантливо. Только мне загадочность Марка Даниэля не открылась ни капли. Разве что выяснилось: жены у него были необычные, и не только Минна.
От Юлика же мне порядком влетало: «Перестань искать мне родственников!» Я обещала. Но родственница Алла Шабун сама нашлась, ей-богу. Я ни при чем. Тут уж расскажу, не удержаться. Тем более – сюжет мистический.
У меня была почечная колика, а тут сын, Павлик, должен был поступать в институт, – я ей сказала: потом придешь!
Потом она и пришла – и меня по «скорой» в больницу. В палате говорили: «Индианку привезли – желтая и волосы темные». Какая-то пациентка засуетилась. Воды принесла и сестру заставила мне укол сделать. Я заснула, а утром благодарю ту женщину – она маленькая, подвижная, чуть хромает. На мою благодарность отозвалась неожиданно:
– Ну что вы! Вас вот привезли, а я уснуть не могла, что-то разволновалась. Родственников вспомнила. Юлика Даниэля. Лару…
Ну конечно же, Юлика ждал сюрприз, он навестить пришел меня – и вдруг: Алка? А ты что тут делаешь, и так далее. Шестиюродные.
С Аллой я потом встречалась, обожгло меня ее узнавание. Да нет, никаких признаков ясновидения не наблюдалось. Что ж это было? Не знаю. Но разве мы были похожи? Лара – Юлий – я?
«Что я могу для вас сделать?»
Вынимаю из шкафа пачку желтых стертых газет 1966 года – отечественная печать по поводу процесса. Что стоят сегодня старая ненависть и злоба? И клевета. Сейчас они не стоят ни комментария, ни ответа. Но я отвечаю сейчас лишь одной газете, «Вечерней Москве».
«Не найдется сегодня в Москве, в стране человека, который всем сердцем не одобрит справедливого приговора, вынесенного подлым двурушникам и предателям интересов Родины».
Подпись… Впрочем, подпись я опущу, она уже ничего не значит. Тем не менее у меня по-прежнему есть основания объявить этим словам войну. Они есть ложь не только о Синявском и Даниэле. Они оболгали людей Москвы, людей страны. Ибо настала пора сказать, сколько горячего сочувствия выплеснулось наружу и сколько поддержки двум подсудимым было в этой стране: море, великое людское море.
Это было во время суда, это было после суда, это было потом. Жизнь Юлия была согрета людским участием, свидетельствую об этом и прошу учесть мои свидетельские показания.
Это было в Москве, в Таллине, в Ереване. Это было в Дагестане и в Вильнюсе. Узнавая Юлия, люди словно отдавали ему тайную честь: рукопожатием, взглядом, улыбкой.
В пору процесса в защиту Синявского и Даниэля раздалось множество голосов. Были голоса Арагона и Грэма Грина, но и у нас нашлись отважные души, не дрогнувшие перед риском.
Шестьдесят два литератора подписали письмо в их защиту. Из них выбираю лишь пять имен: Аркадий Анастасьев, Александр Аникст, Нея Зоркая, Инна Соловьева, Михаил Шатров. Отбор несправедлив, писать нужно обо всех. Но я говорю лишь о людях театра, об актерах, режиссерах, художниках. Их имена громки. Или мало известны. Или же неизвестны вам совсем. Театр отвечал Юлию любовью на его любовь к театру. Может быть, за противостояние, за то, что отстоял достоинство свое и наше.
Помню «Доброго человека из Сезуана». Вырвавшись из Калуги, Юлий отправился на Таганку, Высоцкому передал записку. В антракте позвали за кулисы. Высоцкий стоял у гримировального столика, напрягся в ожидании, полетел навстречу входящему:
– Юлий!
Обнимались молча, все ясно без слов. Живой, вернулся… Снова встретились.
Как-то в БДТ после спектакля (мы уже уходили) подошли актеры: «Извините, вам нужно расписаться». Да так серьезно! Повели куда-то, где низкие своды сплошь в цветных автографах.
– Распишитесь.
Юлий колебался. Были случаи, когда за контакты с ним кто-то откуда-то сверху взыскивал. И кто-нибудь, не дождавшись взысканий, пугался знакомства. Но так было раза два, не больше. Представляясь, он говорил «Юлий Маркович», а фамилию не называл, боялся перепугать и тем поставить в неловкое положение. Все было, и к одному театральному художнику в дом явились однажды статисты в штатском: «Вчера вы гостей собирали, почему принимали Даниэля?» – но нарвались на грубость, художники это умеют.
Много было театров, куда мы ездили вместе, я по профессии, он по неутомимому любопытству к театральной жизни.
И когда мы с Юрой Фридманом, режиссером, делали спектакли в театрах кукол и приставали: напиши песенку, пьесу напиши! – он писал нам песенки легко и охотно, а для пьес призвал в соавторы Ю. Хазанова, – на афише стояло: Ю. Хазанов, Ю. Петров.
Не писать же «Даниэль», не подводить же театр!
Псевдоним был спущен откуда-то сверху, как крепостному актеру: можно переводить, но только в одном издательстве и под «Ю. Петровым». После бури, поднятой процессом, дело Синявского – Даниэля сводили на нет. Будто ничего не было. И странна была эта жизнь, и невероятна. Он был и его как бы не было, в списках не значился. Умолчание, идиотская фантомность, неназываемость, поручик Киже навыворот.
Он, оставшийся жить здесь; он, отказавшийся от эмиграции, – он жил человеком без Родины.
Но люди, люди были кругом, в их симпатии, в их любви и дружбе он и существовал.
Мы водили дружбу с целыми театрами. Мы дружили с кукольниками Андижана и Тюмени. Мы дружили с режиссерами, с актерами, а вот театральные художники стояли в списках дружб особо – Эдуард Кочергин, Марк Китаев, Давид Боровский.
Однажды мы сбежали из Москвы в ноябре, перед днем рождения Юлия, это ведь никаких сил не хватало, придут пятьдесят друзей, другие пятьдесят год на меня сердятся, что в тесный дом не вместились. Вот и бежали в Тбилиси. По счастью, там выставка грузинских сценографов, мне там нужно быть, и мы там оба.
И вот: разведали грузины! И устроили великое застолье в честь дня рождения Даниэля.
Мы не знали тогда, что Грузия еще раз явится в нашей судьбе. Когда работы Юлию в Москве совсем не стало, переводы заказывала Грузия.
Был он легок, беспечен, легкомысленен даже, хрупкое и подорванное его здоровье держалось одной лишь силой духа, а силу давала любимая работа – только. Переводом стихов он жил и дышал. Растворение в иноязычном поэте – быть может, здесь сбывалось его несостоявшееся актерство. Грузинские переводы отсрочили смерть на несколько лет.
В кругу театральных художников его принимали как своего. В семидесятые годы сценографы составляли самостоятельный цех, рыцарски замкнутый, собиравшийся часто на свои выставки то в Ленинграде, то в Прибалтике. Юлия звали.
Тщательно рассматривал он эскизы, заглядывал в макеты. Сценография дала мощный выброс. Суровый стиль выводил театр в пространство жесткое, космически пустынное. Оно заставляло помнить о себе, что бы ни происходило на сцене. Что это было? полигон человеческих испытаний, открытых нашим веком, лагерная зона? Да нет, никаких указателей не было, и метафорический язык той сценографии в сущности еще не разгадан.
Бил набат, сценография несла знание о том, о чем не говорилось вслух в те времена. Сценографы видели отчетливую двойственность бытия: жизнь идет, а вокруг мертвящая среда.
Кто-то из них читал его прозу, там было о двойственности: «Ты говорил, что у тебя есть свобода пить вино. Вино было отравленное. Свобода купаться в море – в море сидели слухачи с аквалангами. Свобода писать картины – они были написаны пóтом, пролитым в Магадане и Тайшете. Свобода любить женщин – они все были невестами, женами и вдовами тех самых…» Так сказано в повести «Искупление».
…Позвонил художник Петр Белов: хочу показать новые работы, не знаю, что получается. И очень хочу, чтобы пришел Юлий Маркович, мне это так важно.
Пришли в мастерскую. Застенчиво и волнуясь, он показал то, что потом принесло ему громкую посмертную славу. «Беломорканал», «Расстрел Мейерхольда».
Выучка сурового стиля определяла связь явлений в его полотнах. Экспрессивные, пожалуй, и наивные в характере иносказаний, они яростно пробивались к одной-единственной истине. Белов прокручивал вспять прожитое время, ему самому досталась благополучная жизнь. Теперь же он хотел увидеть то, что его невидимо окружало: зону, где, пока мы жили, зэки высыпались из барака на каторжную работу, как крошки табака из пачки «Беломора». Ход его мысли и движение боли оказались адекватны тому, что переживают сейчас читатели газет и журналов, впервые узнавая о терроре, губившем страну десятилетиями.
Еще раз мы пришли к нему. Были гости. Юлий был уже смертельно болен, Петр – уже приговорен врачами. Среди новых картин стояла одна темная, с фотографиями автора от рождения до гробовой доски. Петр показывал ее спокойно, Юлий рассматривал внимательно.
И я поняла, как мало осталось им и как скоро мы их потеряем.
Недуг, уводивший Юлия, был страшен. Был он неподвижен и безмолвен. Только зрение, сознание, слух – мы разговаривали безмолвно.
Вдруг почтальон принес журнал «Юность»! Успела, успела при жизни появиться повесть «Искупление», впервые у нас, впервые на родине. О господи, горе какое, он не узнает.
Нет, узнал. Понял.
Когда из редакции «Юности» принесли почту – отклики читателей, – было там письмо одно, я и сейчас его помню. Из Ленинграда. Незнакомая нам Татьяна писала – если бы прочитала «Искупление» тогда, когда оно было написано, жизнь повернулась бы иначе! Могу ли я что-нибудь для вас сделать? И совершенно неожиданно: хотите – приеду пол вымыть…
Письмо было пронзительное, я его вслух прочитала. Он закрыл глаза – брови поднялись изумленно: «Невероятно».
Голос безмолвия.
Когда его уже не было на этом свете, каждый день на кладбище ездила, не могла привыкнуть к разлуке. Возвращаюсь – на кухне друзья и врачи. Так привыкли быть с нами, что отвыкнуть не могут. Собрались за столом, а у раковины спиной к нам незнакомая женщина моет гору посуды.
Ну не полы все-таки! Это и была та самая Татьяна. Опоздала – его уже не было. Она осталась.
Могу ли я что-нибудь для вас сделать?
И смогла, и сделала. Вместе с ней мы собрали книжку «Юлий Даниэль. Говорит Москва». Огромный объем его лагерных писем готовила к печати с яростным усердием не год и не два. И стала другом нашей семьи, родным человеком на многие годы. Вот так: пришла к нему – осталась…Татьяна Шабалина.








