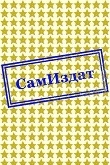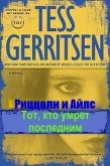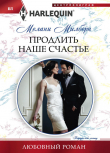Текст книги "Загадки известных книг"
Автор книги: Ирина Галинская
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 10 страниц)
1. До сих пор речь шла у нас по преимуществу об ориентированности Сэлинджера на религиозные построения индуизма, а вопроса о влиянии на его творчество постулатов дзэн-буддизма мы почти не касались. Но, во-первых, на свое отношение к дзэн-буддизму писатель прямо указывает сам – и в эпиграфе к «Девяти рассказам» (о чем у нас уже говорилось), и в ряде эпизодов повестей о Глассах; во-вторых, начатое изучением (еще около тридцати лет назад) влияние на поэтику Сэлинджера дзэн-буддизма ныне достаточно полно раскрыто в работах советских и американских исследователей.
2. Работая над «Девятью рассказами» и повестями о Глассах, Сэлинджер из громадного числа формальных требований и выразительно-изобразительных средств индийской традиционной поэтики отбирал, естественно, только то, что отвечало его мировоззренческой установке и художественным задачам, а также технически поддавалось воплощению в англоязычном тексте.
3. У читателя нашей книги может возникнуть вопрос о степени знания Сэлинджером санскрита. Увы, никакими данными на этот счет биографы «самого знаменитого невидимого писателя» [129]129
Getti J.World-Music: The Aesthetic aspect of narrative form. Now Brunswick (N. J.), 1980, p. 93.
[Закрыть]не располагают. Но вполне можно допустить, что он санскрита не знает вообще. Ведь комментированные переводы основных древнеиндийских религиозно-философских и литературных памятников начали выходить в Европе еще во второй половине XIX в. А в начале XX в. появился на английском языке и ряд фундаментальных трудов по истории и теории санскритской литературы (А. Б. Кизса, С. К. Де, П. В. Кано и др.).
Глава 2. Криптография романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова
В многодетной семье Булгаковых сын Михаил был первенцем и сочинять стал, по собственному его свидетельству, в юном возрасте. Это были «обличительные фельетоны» на манер сказок Салтыкова-Щедрина, из-за чего их автору «не однажды приходилось ссориться с окружающими и выслушивать горькие укоризны». [130]130
Советские писатели о Щедрине. – Новый мир, 1976, № 1, с. 210.
[Закрыть]Одна из знакомых Булгаковых вспоминала, что, когда Михаил был еще совсем маленьким, «все поражались его начитанности, знанию литературы, музыки и пр.». [131]131
Бурмистров А. С.К биографии М. А. Булгакова (1891–1916). – В кн.: Контекст-1978. М., 1978, с. 259.
[Закрыть]Сама обстановка в семье, члены которой были историками, [132]132
Отец писателя, Афанасий Иванович Булгаков (1859–1907), был преподавателем Киевской духовной академии, и в круг его научных интересов входили древняя история (гражданская и духовная) и западные исповедания. Историю он преподавал также в Киевском институте благородных девиц. См. о нем: Большая Энциклопедия / Под ред. С. Н. Южакова. СПб., 1903, т. 4, с. 43; Бурмистров А. С.Указ. соч., с. 251.
[Закрыть]музыкантами, филологами, врачами, благоприятствовала становлению серьезных культурных и литературных интересов Булгакова-гимназиста и студента. Особую роль в расширении духовного и умственного кругозора юноши сыграло частое общение с другом отца – профессором Киевской духовной академии Н. И. Петровым (1840–1921), историком украинской литературы, ставшим впоследствии по этой специальности действительным членом украинской Академии наук. [133]133
См.: Яновская Л.Несколько документов к биографии Михаила Булгакова. – Вопр. лит., 1980, № 6, с. 303–308; Она же.Творческий путь Михаила Булгакова. М., 1983, с. 10–12.
[Закрыть]
В материалах к биографии писателя, собранных А. С. Бурмистровым и Л. М. Яновской, находим подробные характеристики гимназических и университетских наставников Михаила Булгакова. Их перечень, по всей вероятности, стоило бы дополнить еще одним именем, поскольку дальние истоки некоторых ассоциаций и аллюзий романа «Мастер и Маргарита» берут свое начало, на наш взгляд, в том влиянии, которое в начале 900-х годов оказывали на гуманитарные интересы киевской студенческой и гимназической молодежи пользовавшиеся у нее немалой популярностью лекции и семинарские занятия по западноевропейской литературе приват-доцента Киевского университета св. Владимира графа Фердинанда Георгиевича де Ла-Барта (1870–1916).
Впервые об этих лекциях и семинарах мы услышали в конце 40-х годов (и вне всякой связи с юношескими культурными интересами Булгакова) от нашего профессора И. В. Шаровольского, преподававшего в те годы в Киевском университете германскую филологию и готский язык. И. В. Шаровольский, уже очень старый в ту пору человек, руководил занятиями студентов у себя на дому и здесь, оставляя нас иногда для чаепития, рассказывал в числе прочего о глубоких знаниях и незаурядном лекторском и переводческом таланте Ф. Г. де Ла-Барта, с которым они вместе в 900-е годы были в Киевском университете св. Владимира молодыми приват-доцентами историко-филологического факультета.
Ф. Г. де Ла-Барт, известный уже своим переводом «Песни о Роланде» (1897), удостоенным академической Пушкинской премии (и не утерявшим художественной ценности поныне), жил и работал в Киеве с 1903 по 1909 г. [134]134
См.: Словарь членов Общества любителей российской словесности при Московском университете, 1811–1911. М., 1911, с. 97–98; Пономарев Ф.Памяти графа Фердинанда Георгиевича де Ла-Барта. М., 1916.
[Закрыть]В этот период в Киеве был выпущен целый ряд его книг и брошюр по истории всеобщей литературы и искусства, [135]135
См.: Ла-Барт Ф. Г. де.Французский классицизм в литературе и искусстве. Киев, 1903; Он же.Импрессионизм, символизм и декадентство: Из истории эволюции художественного стиля во Франции. Киев, 1903; Он же.Беседы по истории всеобщей литературы и искусства: Средние века и Возрождение. Киев, 1903; Он же.Шатобриан и поэтика мировой скорби. Киев, 1905; Он же.Литература и действительность в пору Великой французской революции. Киев, 1906; Он же.Разыскания в области романтической поэтики и стиля. Киев, 1908.
[Закрыть]имевших у юных местных интеллектуалов такой же успех, как и лекции и семинарские занятия де Ла-Барта, где подробно комментировались средневековые провансальские литературные памятники, в том числе становившаяся во Франции в ту пору все более знаменитой эпическая поэма XIII в. «Песня об альбигойском крестовом походе». [136]136
Ф. Г. де Ла-Барт преподавал также в Киевском университета св. Владимира провансальский язык. См.: Обозрение преподавания в университете св. Владимира на 1907–1908 учебный год. Киев, 1907, с. 6, 16, 20.
[Закрыть]Упоминаем об этом только потому, что далее мы намерены показать, какую роль сыграли в работе Булгакова над «Мастером и Маргаритой» те импульсы приобщения к богатейшей провансальской средневековой литературе, которые будущий писатель первоначально ощутил, как нам представляется, в свои гимназические и студенческие годы благодаря культурно-педагогической и литературной деятельности в Киеве Фердинанда Георгиевича де Ла-Барта.
Довольно большая и, по свидетельству родных Булгакова, хорошо подобранная домашняя московская библиотека писателя была после его смерти почти «полностью распродана и частично раздарена». [137]137
Чудакова М. О.Условие существования. – В мире книг, 1974, № 12, с. 79.
[Закрыть]Из обширного собрания сегодня известны лишь немногим более восьмидесяти изданий. Но если бы даже имелся перечень всех томов исчезнувшей библиотеки, то и он вряд ли бы помог обрисовать круг чтения Булгакова сколько-нибудь полно, особенно «книжные интересы» писателя в 1928–1939 гг., когда, создавая в числе других произведений роман «Мастер и Маргарита», он трудился нередко в государственных библиотеках, и прежде всего в Ленинской. [138]138
Чудакова М. О.Архив М. А. Булгакова: Материалы для творческой биографин писателя. – В кн.: Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина. Отдел рукописей. Записки. М., 1976, вып. 37, с. 147.
[Закрыть]
Сразу же оговоримся. Под словами «книжные интересы писателя» мы в данном случае подразумеваем в первую очередь не литературно-художественные аспекты чтения Булгакова (т. е. его включенность в отечественную и мировую литературную традицию), а контекст религиозный, философский и исторический. В этом плане М. О. Чудакова в 1976 г. показала, что Булгаков основательно проштудировал книгу М. А. Орлова «История сношений человека с дьяволом», выписки из которой он использовал при создании «демонологических» глав своего последнего романа, и что некоторые другие аксессуары из той же демонологической сферы «Мастера и Маргариты» были почерпнуты им из статей энциклопедии Брокгауза—Ефрона о демонологии, демономании, дьяволе, колдовстве и шабаше ведьм. [139]139
Чудакова М. О.Архив М. А. Булгакова, с. 72–78.
[Закрыть]
В 1977 г. этот список был дополнен английской исследовательницей Лесли Милн, установившей, что из статьи в Брокгаузе о чародействе писателем было взято имя служительницы Воланда – Геллы. [140]140
Milne L.The Master and Margarita: A comedy of victory. Birmingham, 1977, p. 50.
[Закрыть]
В 1981 г. Л. Л. Фиалкова показала, что Булгаков использовал в тексте романа опубликованную в 1923 г. в «Красной ниве» рецензию поэта Сергея Городецкого на пьесу С. М. Чевкина «Иешуа Ганоцри. Беспристрастное открытие истины». Городецкий пьесу раскритиковал, а Булгаков положил текст рецензии в основу разбора Берлиозом поэмы Ивана Бездомного. [141]141
Фиалкова Л. Л.К генеалогии романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». – Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз., 1981, т. 40, № 6, с. 532–537.
[Закрыть]
Что касается книжных источников философских начал «Мастера и Маргариты» и концептуально-исторической подосновы так называемых древних глав романа – об Иешуа и Пилате, то таковые и поныне находятся в стадии выявления.
Тема ПилатаПервым поделился в печати результатами своих попыток проникнуть в историческую и философскую криптографию «Мастера и Маргариты» американский литературовед Л. Ржевский. В 1968 г. он опубликовал статью «Пилатов грех: О тайнописи в романе М. Булгакова „Мастер и Маргарита“», которая была затем перепечатана в зарубежных изданиях еще дважды. [142]142
Rzhevsky L.Pilate's sin: Cryptography in Bulgakov's novel «The Master and Margarita». – Canadian Slavonic Papers, Ottawa, 1971, vol. 13, N 1, p. 15–16.
[Закрыть]Стремясь расшифровать историческую концепцию «древних глав», Ржевский пришел к заключению, что их структурным стержнем является тема виновности Пилата, «Пилатов грех». Более того, «экзистенциальная трусость» прокуратора, писал он, как бы помещена в центр тайнописи всего романа, пронизывая все его компоненты. [143]143
Ibid., p. 12.
[Закрыть]При этом Ржевский отсылал читателей своей статьи не к определенным книжным источникам, которыми мог пользоваться, работая над этой темой, Булгаков, а к таким распространенным в мировой письменности сюжетам, как непостижимая борьба света и тьмы, обличение предательства, совершенного из личной выгоды, и толерантности ко злу из страха за свое благополучие.
Советские литературоведы И. Ф. Бэлза и Н. П. Утехин, первый – в 1978, а второй – в 1979 г., назвали конкретные книжные источники, на которые, по их мнению, опирался, разрабатывая «древние главы» романа, автор «Мастера и Маргариты». Это апокрифические сказания «Акты Пилата», латинская поэма XII в. «Пилат» (приписываемая Петру Пиктору), «Археология страданий господа Иисуса Христа» Н. К. Маккавейского, «Евангелия канонические и апокрифические» С. А. Жебелёва, тексты песен шубертовского цикла «Прекрасная мельничиха», [144]144
Бэлза И. Ф.Генеалогия «Мастера и Маргариты». – В кн.: Контекст-1978, с. 175–185.
[Закрыть]труды Иосифа Флавия и Тацита, «Жизнь Иисуса» Э. Ренана, «Библиографический обзор древнерусских сказаний о флорентийской унии» Ф. И. Делекторского, романы Г. Сенкевича «Камо грядеши», Ж. М. Эсы ди Кейруша «Реликвия», рассказ Анатоля Франса «Прокуратор Иудеи». [145]145
Утехин Н. П.«Мастер и Маргарита» М. Булгакова: Об источниках действительных и мнимых. – Рус. лит., 1979, № 4, с. 97—102.
[Закрыть]
Нет спору, Булгаков был в литературе на исторические темы, как художественной, так и научной, весьма и весьма начитан – ведь он даже начал писать школьный учебник истории, чтобы участвовать в объявленном Советским правительством в 1936 г. конкурсе. [146]146
Чудакова М. О.Архив М. А. Булгакова, с. 121.
[Закрыть]Однако трудно поверить, что для воплощения одной лишь темы Пилата Булгаков в пору создания «Мастера и Маргариты» специально изучал – то ли заново, то ли изначально – столь большое количество разных сочинений.
Ведь нельзя забывать, что в 1928–1940 гг. Булгаков, параллельно с работой над «Мастером и Маргаритой», написал «Жизнь господина де Мольера» и «Театральный роман», пьесы «Кабала святош», «Адам и Ева», «Блаженство», «Последние дни», «Полоумный Журден», «Иван Васильевич», «Батум» и «Дон Кихот», создал инсценировки «Мертвых душ» и «Войны и мира», киносценарии «Ревизора» (в соавторстве с М. С. Каростиным) и «Мертвых душ», либретто оперы «Минин и Пожарский», работал над переводами «Скупого» Мольера и шекспировских «Виндзорских проказниц». И еще в этот же период служил во МХАТе и в Большом театре, вел обширную переписку с родными, друзьями, дирекциями различных театров и киностудий, а в последние годы тяжко болел.
Мы полагаем, у Булгакова просто не могло быть времени на то, чтобы собирать по крупицам различные сведения по теме Пилата из столь большого числа источников, какое называют И. Ф. Бэлза и Н. П. Утехин. Тем более что мировая историческая наука располагала к тому времени рядом трудов (написанных преимущественно в XIX в.), где специально реферировались и синтезировались все тексты и исследования о Пилате, появившиеся со времен раннего христианства. И Булгаков, владевший английским, немецким и французским языками, мог выбрать любой такой обобщающий труд из числа имевшихся в московских книгохранилищах.
Одной из подобных работ, творческое использование писателем части сюжетов и выводов которой представляется нам несомненным, является вышедшая в 1888 г. в Штутгарте книга немецкого историка и религиеведа Густава Адольфа Мюллера «Понтий Пилат, пятый прокуратор Иудеи и судья Иисуса из Назарета». [147]147
Muller G. A.Pontius Pilatus, der funfte Prokurator von Judaa und Richter Jesu von Nasareth. Stuttgart, 1888.
[Закрыть]
Как видим, даже самое название книги совпадает с булгаковским текстом – «пятый прокуратор Иудеи Понтий Пилат». Между тем вопрос, каким по счету – пятым или шестым – прокуратором (т. е. императорским чиновником, обладавшим высшей административной и судебной властью в небольшой провинции) был в Иудее Пилат, исторической наукой решается по-разному. Английский историк Ф. У. Фаррар числит, например, Пилата шестым прокуратором Иудеи, указывая, что тот стал им после 1) Архелая, 2) Копония, 3) Марка Амбивия, 4) Ания Руфа и 5) Валерия Грата. [148]148
Farrar F. W.The Herods. L., 1898, p. 221.
[Закрыть]А соотечественник и современник Фаррара, профессор Оксфордского университета А. Эдершейм утверждает, что сын Ирода Великого Архелай являлся этнархом (т. е. правителем) Иудеи, а первым прокуратором тут был Копоний. [149]149
Эдершейм А.Жизнь и время Иисуса Мессии. М., 1900, с. 307.
[Закрыть]Схожей точки зрения придерживается и Мюллер (Архелая он называет, правда царем Иудеи), намеренно вынесший слово «пятый» (прокуратор) в название своей книги.
Пятым прокуратором Иудеи именует настойчиво – пять раз! – Пилата в Булгаков. Он даже придает этому рефрену столь важное композиционное значение, что словами «пятый прокуратор Иудеи» в разных сочетаниях с именем и званиями Пилата заканчивает и «роман в романе», и последнюю главу, и эпилог. [150]150
Булгаков М.Белая гвардия. Театральный роман. Мастер и Маргарита. М., 1973, с. 554, 746 (два раза), 799, 812.
[Закрыть]
И еще один спорный вопрос затрагивает Мюллер – о значении слова «игемон». В Библии оно равносильно обращению «господин», но в древние времена означало еще и высокий воинский титул. Суть же спора была такова. Наместникам Сирии (которым прокураторы Иудеи в определенной мере подчинялись) титул «игемон» принадлежал безусловно. Но было ли право на это звание и у прокураторов Иудеи? Мнения историков расходятся. Дело в том, что в описываемый период должность сирийского наместника оставалась незамещенной. Как доказал немецкий историк А. В. Цумпт, [151]151
Zumpt A. W.Das Geburtsjahr Christi. Leipzig, 1869.
[Закрыть]она была отдана Тиберием в середине 32 г. н. э. Помпонию Флакку, но тот в 33 г. умер, и только в 35 г. Тиберий назначил на это место Вителлия. [152]152
Muller G. A.Op. cit., S. 41.
[Закрыть]Отсюда и суждение (против которого Мюллер восстает категорически), что Пилат звался игемоном временно, ввиду отсутствия сирийского наместника.
Мюллер же утверждает, что прокураторы Иудеи были одновременно и римскими военачальниками, отчего «и в другие времена, и при других обстоятельствах также звались игемонами». [153]153
Ibid., S. 13.
[Закрыть]Своеобразный отзвук этой полемики слышится и у Булгакова, причем писатель снова берет сторону Мюллера: в романе кентурион Марк Крысобой больно наказывает ударом бича арестанта Га-Ноцри, дабы тот усвоил, что, обращаясь к прокуратору, его следует величать игемоном [154]154
См.: Булгаков M.Указ. соч., с. 438.
[Закрыть].
Мюллер показывает, что официальным языком римских чиновников была в провинциях латынь, но там, где местные жители ее не знали, чиновники пользовались греческим языком и арамейским диалектом древнееврейского. [155]155
Muller G. A.Op. cit., S. 22, 58–59.
[Закрыть]Исторические детали эти тщательно соблюдены и в «Мастере и Маргарите». Ведя допрос Иешуа и не зная еще, что арестованный – человек грамотный, владеющий несколькими языками, Пилат вначале обращается к нему по-арамейски, но затем заговаривает по-гречески, а в конце переходит на латынь. [156]156
«Приведенный с тревожным любопытством глядел на прокуратора. Тот помолчал, потом тихо спросил по-арамейски:
– Так это ты подговаривал парод разрушить ершалаимский храм?..
– Знаешь ли грамоту?
– Да.
– Знаешь ли какой-либо язык, кроме арамейского?
– Знаю. Греческий…
Пилат заговорил по-гречески…
– Я не спросил тебя, – сказал Пилат, – ты, может быть, знаешь и латинский язык?
– Да, знаю, – ответил арестант» (Булгаков М.Указ. соч., с. 436, 438, 442).
[Закрыть]
Постоянная резиденция Пилата, сообщает Мюллер, находилась на берегу Средиземного моря, в прекрасном портовом городе Кесарии Палестинской, или Кесарии Стратоновой. Последнего названия в Библии нет, но Мюллер замечает, что Кесария Палестинская называлась еще и Кесарией Стратоновой «благодаря прочной башне грека Стратона, построенной на самом западном выступе относительно длинной и низкой скалы». [157]157
Muller G. A.Op. cit., S. 18.
[Закрыть]И в романе Булгакова Пилат, собираясь спасти Иешуа, хочет удалить его из Ершалаима в Кесарию Стратонову на Средиземное море, т. е. именно туда, «где резиденция прокуратора». [158]158
Булгаков M.Указ. соч., с. 445.
[Закрыть]
Имя Пилата, пишет Мюллер, связано с именем Иисуса «неразрывным узлом» (verknupfen). [159]159
Muller G. A.Op. cit., S. 1.
[Закрыть]Вот и в булгаковском романе Пилату снится, что Иешуа обращается к нему: «Мы теперь будем всегда вместе… Раз один – то, значит, тут же и другой! Помянут меня, – сейчас же помянут и тебя!» [160]160
Булгаков M.Указ. соч., с. 735.
[Закрыть]Мюллер утверждает, что решение предать Иисуса смерти привело Пилата к «ужасному» разладу между тем, что говорило ему сердце и диктовал разум. «Ужасным» называет Пилатово пробуждение и Булгаков («Он открыл глаза, и первое, что вспомнил, что что казнь была» [161]161
Там же.
[Закрыть]).
Прочтение книги Мюллера позволяет разрешить попутно и оживленно дискутируемый по сию пору в булгаковедении вопрос, каковы книжные источники сведений о том, что Пилат был «сыном короля-звездочета и дочери мельника, красавицы Пилы». [162]162
Там же.
[Закрыть]Напомнив, что народные легенды о Пилате бытовали в средние века во многих европейских странах – Франции, Швейцарии, Германии, Нидерландах, немецкий историк реферирует все варианты сказаний.
Булгаков, в свою очередь, выбрал две версии: немецкую (Майнцскую) – о происхождении Пилата и швейцарскую – о его «загробных» терзаниях. «В Майнце жил король Ат, который умел читать судьбу людей по звездам, – пересказывает Мюллер немецкую легенду. – Будучи однажды на охоте, он прочел по звездам, что если в этот час от него зачнет женщина, то родится ребенок, который станет могущественным и прославится. Так как король находился слишком далеко от Майнца, чтобы послать за супругой, он приказал выбрать для него какую-нибудь девушку по соседству. Случилось так, что ею стала прекрасная дочь мельника Пила. Она и родила Пилата». [163]163
Muller G. A.Op. cit., S. 51.
[Закрыть]Швейцарская же легенда повествует о том, что погребенный в горном озере самоубийца Пилат, подобно старому усталому Агасферу, не знает ни минуты покоя и что ежегодно в страстную пятницу, ночью, дьявол поднимает его со дна, втаскивает на окружающие озеро «скалистые стены», где до рассвета тщетно пытается смыть с него вечные пятна позора. [164]164
Ibid., S. 52.
[Закрыть]Аксессуары этой легенды также находим в булгаковском романе: когда Мастер, с разрешения Сатаны, отпускает Пилату его грех, «скалистые стены» рушатся, и пятый прокуратор Иудеи обретает, наконец, желанный покой. [165]165
Булгаков M.Указ. соч., с. 797.
[Закрыть]
Концептуальный смысл книги Мюллера – дать на основе исторических материалов и многочисленных легенд о Пилате юридическое и психологическое истолкование проблемы его вины. Человек несомненно жестокий, Понтий Пилат, однако, по мнению немецкого историка, и личность возвышенная, необычная. Стоящий перед ним обвиняемый почему-то кажется ему героем. [166]166
Muller G. A.Op. cit., S. 40.
[Закрыть]Язычник-прокуратор даже склонен считать арестованного полубогом, и единственное, что заставляет его дать согласие на казнь подсудимого, это (по Мюллеру) страх перед доносом кесарю. Ведь точно так же, как поступил Пилат, пишет немецкий историк, вынужден был бы на его месте решить вопрос любой другой римлянин; сомнительно лишь, отважился ли бы другой выказать, подобно Пилату, уважение и благожелательство к подсудимому, осмелился ли бы предпринять попытки спасти его. [167]167
Ibid.
[Закрыть]
Разумеется, читаем далее у Мюллера, Пилатов грех заслуживает всяческого порицания. Но, с другой стороны, овладевшая прокуратором трусость делает его поведение психологически объяснимым и даже в какой-то мере простительным. Ведь болезненная подозрительность Тиберия, ставшая второй природой римского императора, была направлена прежде всего против чиновников, правивших в провинциях. Особенно если те являлись, как Пилат, администраторами умелыми и влиятельными. [168]168
Ibid., S. 39.
[Закрыть]
Конечно, замечает Мюллер, история – строгий судья, и действия Пилата она назовет не иначе, как «судебным убийством» невиновного. Но при всем том – убийством, совершенным при смягчающих вину обстоятельствах, отчего и не откажет несчастному прокуратору в сострадании, которое история всегда испытывает к трагическим личностям. [169]169
Ibid., S. 42.
[Закрыть]
Эта концепция Мюллера, как и многое другое в его книге, не прошла мимо внимания Булгакова: ведь и он тоже определенно сострадает Пилату, несмотря на проявленную тем в столь важный момент трусость!
Насчет же того, каким путем мог узнать Булгаков о существовании работы Мюллера (на русский язык не переведенной), наша догадка такова. Отсылку к этой работе (и только к ней одной) можно было найти у нас в отечественных справочных изданиях единственно в Большой Энциклопедии С. Н. Южакова, в заметке о Пилате. [170]170
Большая Энциклопедия / Под ред. С. И. Южакова. СПб., 1904, т. 15, с. 161.
[Закрыть]А энциклопедия Южакова, вероятно, пользовалась в семье Булгаковых особым расположением, ибо из всех русских энциклопедий лишь в ней еще при жизни отца писателя, Афанасия Ивановича, была помещена статья о нем.
К тому же книга Мюллера должна была импонировать М. А. Булгакову не только емкостью содержания и привлекательностью разработки интересовавшего его мотива, но еще и тем, что насчитывала всего шестьдесят три страницы малого формата.
Не свет, а покой…Не много можно назвать романов, которые бы породили столько споров, как «Мастер и Маргарита». Спорят о прототипах действующих лиц, о книжных источниках тех или иных слагаемых сюжета, философско-эстетических корнях романа и его морально-этических началах, о том, наконец, кто является главным героем произведения: Мастер, Воланд, Иешуа или Иван Бездомный? Причем последнее дискутируется вопреки, казалось бы, совершенно ясно выраженной воле автора. В самом деле, разве 13-ю главу, в которой Мастер впервые выходит на сцену, Булгаков не назвал «Явление героя»? О том же говорит и анализ мировоззренческих основ романа, который мы предложим чуть дальше. А пока укажем на укоренившееся в литературоведении суждение о том, что прототипом Мастера послужили Булгакову: 1) он сам, 2) Иешуа и 3) Н. В. Гоголь. Последний – по той причине, что Мастер сжег рукопись своего романа и был по образованию историком. Совпадают также некоторые внешние черты Мастера и Гоголя – острый нос, клок волос, свешивающийся на лоб. Несомненен, наконец, в произведении Булгакова и ряд стилистических параллелей с Гоголем. [171]171
Чудакова М. О.Булгаков и Гоголь. – Рус. речь, 1979, № 2, с. 38–48; № 3, с. 55–59.
[Закрыть]
«Альтер эго», Иешуа, Гоголь… Но ведь прототипов у литературного персонажа может быть несколько и, так сказать, самых разных. Доказано, например, что прообразом Растиньяка послужил автору «Человеческой комедии» не только Тьер, но некоторые черты Бальзак позаимствовал у самого себя. [172]172
Моруа А.Литературные портреты. М., 1970, с. 158.
[Закрыть]Признаки нескольких прототипов обнаруживаются и в образе Мастера. Мастером, между прочим, называет Булгаков и героя своего романа «Жизнь господина де Мольера» (еще точнее – называет Мольера в Прологе «бедным и окровавленным мастером» [173]173
Булгаков М.Жизнь господина де Мольера. М., 1962, с. 13.
[Закрыть]).
Однако в последнем булгаковском романе в имени героя заключен не только прямой смысл слова «мастер» (специалист, достигший в какой-либо области высокого уменья, искусства, мастерства), оно еще и активно противопоставлено слову «писатель». Ведь как раз на вопрос Ивана Бездомного: «Вы – писатель?», ночной гость (разговор происходит в психиатрической клинике), погрозив кулаком, сурово ответил: «Я – мастер». [174]174
Булгаков М.Указ. соч., с. 552–553.
[Закрыть]
Налицо какая-то загадка. Если мастер – не писатель, то кем же считает себя булгаковский герой?
Обратившись к истории русского литературного языка, узнаем, что «мастером» в древности называли учителя, преподававшего грамоту по церковным книгам [175]175
Соболевский А. И.История русского литературного языка. Л., 1980, с. 32.
[Закрыть](а следовательно, знатока евангельских сюжетов). Это значение слова «мастер» еще в XIX в. сохранялось в орловском областном диалекте (см. Словарь В. И. Даля), и, если вспомнить, что орловский диалект для семьи Булгакова был родным (дед писателя – орловский священник, отец – окончил орловскую духовную семинарию), можно предположить, что автор «Мастера и Маргариты», вкладывая в имя героя особый, не сразу проявляемый смысл, в Словаре Даля в данном случае вряд ли нуждался.
Наконец, не указывает ли такое значение слова «мастер» на существование еще одного прототипа героя романа – прототипа, чей род занятий отвечал бы как-то областному орловскому смыслу слова, взятого в качестве имени героя?
Некоторые указания дает, на наш взгляд, глава, действие которой происходит на каменной террасе Румянцевского музея (точнее, на его крыше). Сюда к Воланду является Левий Матвей, чтобы от имени Иешуа «походатайствовать» за Мастера и его подругу, и крыша Румянцевского музея избрана, по-видимому, местом действия в этой главе с определенным смыслом, тем паче, что первоначально, в одной из ранних редакций романа, судьба героя решалась вовсе не здесь, а на Воробьевых горах [176]176
Чудакова М. О.Архив М. А. Булгакова, с. 110.
[Закрыть]. Что же остановило в конце концов выбор автора на Румянцевском музее?
Известно, что место действия как литературный прием создает эмоциональную и этическую атмосферу произведения, влияющую на поступки его героев. Порою оно может даже доминировать в произведении, становясь его главным или одним из главных «действующих лиц» (например, Собор Парижской Богоматери у Гюго или Город у того же Булгакова в «Белой гвардии»), однако чаще всего служит вспомогательным художественным средством, используемым для характеристики персонажей.
Как раз таким вспомогательным средством и является в романе «Мастер и Маргарита» одно из красивейших зданий Москвы – бывший Румянцевский музей, а ныне один из корпусов Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина.
Но для чьей характеристики это место действия избрал Булгаков? Воланда и его свиты? Левия Матвея? Ответ дает само название главы: «Судьба Мастера и Маргариты определена». И то, что судьба Мастера «определена» в том самом месте, где издавна хранятся архивные фонды поэтов и писателей, деятелей отечественной культуры и просвещения, историков и философов, наводит, учитывая диалектное значение слова, выбранного в качестве имени героя, на мысль, что тут, в Румянцевском музее, сберегалось наследие некоего реально существующего мастера, знатока библейских сюжетов.
Назвать же подлинное имя его и помогает анализ философских основ романа.
Начнем, с того, что в «Мастере и Маргарите» очевиднейшим образом художественно воплощена теория трех миров: земного, библейского и космического. Первый в романе представляют люди. Второй – библейские персонажи. Третий – Воланд со своими спутниками.
Теория же таких «трех миров» могла быть позаимствована Булгаковым только у того, кто является ее создателем, – у украинского философа XVIII в. Григория Саввича Сковороды. Последний, кстати сказать, часто подписывался под своими произведениями словами «Любитель Библии», а собрание рукописей Сковороды было приобретено Румянцевским музеем в 1875 г. у внучки М. И. Ковалинского – близкого друга и любимого ученика украинского философа. [177]177
Сковорода Г. С.Собр. соч. / С биогр. Г. С. Сковороды М. И. Ковалинского, с заметками и примеч. В. Бонч-Бруевича. СПб., 1912, т. I, с. 190.
[Закрыть]
Теория «трех миров» Сковороды, изложенная им в трактате «Потоп змиин», представляет собой близкую к пантеизму объективно-идеалистическую концепцию. Согласно этой теории, самый главный мир – космический, Вселенная, всеобъемлющий макрокосм. Два других мира, по Сковороде, частные. Один из них – человеческий, микрокосм; другой – символический («симболичный», пишет Сковорода), т. е. мир библейский. Каждый из трех миров имеет две «натуры»: видимую и невидимую, причем внешняя и внутренняя натуры библейского мира соотносятся между собой как «знак и символ». [178]178
Иваньо И. В., Шинкарук В. И.Философское наследие Григория Сковороды. – В кн.: Сковорода Г. Соч.: В 2-х т. М., 1973, т. 1, с. 41.
[Закрыть]Все три мира сотканы из зла и добра, и мир библейский выступает у Сковороды как бы в роли связующего звена между видимыми и невидимыми натурами макрокосма и микрокосма. Видимые же натуры обитателей космического и земного миров сообщают о своих тайных формах, так называемых вечных образах.
У человека, считал Сковорода, имеются два тела и два сердца: тленное и вечное, земное и духовное. То, что человеку, таким образом, присуща двойственная природа (земное тело и духовное), означает еще, по Сковороде, что человек есть «внешний» и «внутренний». И последний никогда не погибает: умирая, он только лишается своего земного тела. [179]179
Сковорода Г. С.Собр. соч., т. 1, с. 63, 96, 111, 496, 498.
[Закрыть]
Такова в общих чертах сковородинская теория «трех миров», и этой классификации строго соответствуют все «три мира» последнего романа Булгакова. Писатель вводит их в роман в первом же эпизоде. Мир земной, человеческий представлен тут председателем МАССОЛИТа Берлиозом и поэтом Бездомным, которые уселись на скамейке под липами на Патриарших прудах в Москве. Внезапно на какое-то время становится видимым посланец мира космического – прозрачный гражданин престранного вида, действующий впоследствии под именем Коровьева-Фагота, а в конце романа являющий и свой «вечный» образ – темно-фиолетового рыцаря с мрачнейшим, никогда не улыбающимся лицом. Как и у Сковороды, макрокосм связывает у Булгакова с микрокосмом мир символов, т. е. мир библейский. Ведь на протяжении всего романа, как и на протяжении всего упомянутого выше эпизода, ведется разговор о Христе-Иешуа.
В отечественной художественной литературе это не первый случай отражения философских концепций и воплощения личности Григория Сковороды. Влияние творчества, примера личной жизни и философских идей замечательного украинского мыслителя прослеживается в литературе издавна.
Первым вывел Сковороду в романе «Российский Жилблаз» В. Т. Нарежный в 1814 г. [180]180
Нарежный В. Т.Российский Жилблаз, или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова. – Избр. соч.: В 2-х т. М., 1958.
[Закрыть]В 1836 г. увидела свет повесть И. И. Срезневского «Майор, майор!», [181]181
Срезневский И. И.Майор, майор! – Московский наблюдатель, 1836, ч. 6, с. 205–238, 445–468, 721–736.
[Закрыть]в которой также действует тот, кого называли «украинским Сократом», «степным Ломоносовым», «своим Пифагором». Т. Г. Шевченко в повести «Близнецы» показал Сковороду учителем музыки.
А что касается памяти народной, то, как свидетельствует историк Н. И. Костомаров, мало можно указать таких народных лиц, каким был Сковорода и которых бы так помнил и уважал украинский народ.
Сковородинские мотивы исследователи находят в рассуждениях Гоголя, в философских воззрениях Достоевского. С философией Сковороды связывают творчество Владимира Соловьева (который по материнской линии был родственником украинского философа). Взгляды Сковороды являлись предметом интереса Л. Н. Толстого, в последнее время изучается их влияние на творчество Н. С. Лескова. [182]182
Повести Н. С. Лескова «Заячий ремиз» предпослал эпиграф о двух натурах, видимой и невидимой, и о том, что «телесный болван» есть только тень истинного человека, взятый из сочинений Г. С. Сковороды. Герой повести Оноприй Перегуд, становой пристав, гоняется за неуловимыми «злодеями» и в конца концов попадает на этой почве в сумасшедший дом. В «Мастере и Маргарите» к такому же результату приводит Ивана Бездомного погоня за Воландом и его свитой, которых он также называет «злодеями».
[Закрыть]
Однако если Нарежный в «Российском Жилблазе» рисовал странствующего философа в образе мудреца Ивана, то Срезневский и Шевченко ввели украинского мыслителя в свои повести как лицо сугубо историческое. В повести Срезневского Сковорода – главный герой, в повести Шевченко – наставник героя, «учитель сладкозвучия».
Автор повести «Майор, майор!», будущий славист широкого профиля, крупный специалист по истории западных и южных славян и славянской филологии, Измаил Иванович Срезневский в детстве и юности жил в Харькове, где Сковорода в 60-е годы XVIII в. преподавал в подготовительных классах местного коллегиума катехизис (т. е. был учителем церковной грамоты, мастером). Будучи харьковчанином, Срезневский рисовал внешность своего героя и характерные черты его поведения, опираясь на воспоминания стариков и старух, которые видели живого Сковороду. [183]183
Срезневская О. И.Художественные произведения И. И. Срезневского и его отношение к поэзии вообще. Пг., 1915.
[Закрыть]В распоряжении Срезневского был и портрет философа, писанный с него в конце жизни. Копии этого портрета в XIX в. висели во многих домах на Украине. На нем изображен темноволосый бритолицый человек с острым носом, его стрижка «в кружок» напоминает черную круглую шапочку булгаковского героя.
Приведем еще некоторые параллели в описании Мастера и героя повести «Майор, майор!». Мастеру тридцать восемь лет, герою Срезневского – «без малого сорок». [184]184
Срезневский И. И.Указ. соч., с. 221.
[Закрыть]В волнении лицо Мастера «дергалось гримасой, он сумасшедше-пугливо косился», вздрагивая, начинал «бормотать». [185]185
Булгаков М.Указ. соч., с. 700, 703.
[Закрыть]По Срезневскому, у Сковороды в схожем состоянии – и «чудная гримаса, и чудная ужимка», он «робко озирался назад, будто страшась погони, и озирался, и что-то ворчал». [186]186
Срезневский И. И.Указ. соч., с. 207, 213.
[Закрыть]У Булгакова Мастер говорит Маргарите: «Ты пропадешь со мной», зачем «ломать свою жизнь с больным и нищим?» [187]187
Булгаков М.Указ. соч., с. 704, 782.
[Закрыть]У Срезневского по тем же мотивам отказывается от женитьбы и Сковорода: «Как мог я, я, бедный странник, старец, нищий, принять с радостью вашу руку, ваше счастье на себя». [188]188
Срезневский И. И.Указ. соч., с. 731.
[Закрыть]Как и Сковорода у Срезневского, Мастер у Булгакова – автор книги о Христе, знает несколько иностранных языков (английский, французский, немецкий, латынь, греческий. и немного читает по-итальянски). [189]189
Булгаков М.Указ. соч., с. 553.
[Закрыть]Сковорода знал древнееврейский, греческий, латынь, немецкий и немного итальянский. [190]190
Эрн В.Григорий Саввич Сковорода: Жизнь и учение. М., 1912, с. 59.
[Закрыть]