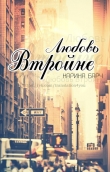Текст книги "День ангела"
Автор книги: Ирина Муравьева
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Дневник
Елизаветы Александровны Ушаковой
Париж, 1958 г.
Георгий сказал, чтобы я пошла к доктору. Оказывается, я не сплю по ночам. Кто-то еще сказал, что я совсем поседела. Мне стало трудно двигаться, трудно ходить. А так все нормально. Я живу, ем, я разговариваю. Я вижу себя со стороны, и нас теперь двое: я и еще я. И это хорошо: иначе разве я могла бы? Георгий сказал, что нам нужно вырастить Митю. Вчера мы с Георгием вышли на улицу, уже тепло. Поехали на кладбище. Моего сына там нет. Вот главное! Слава богу, что я это поняла! Сказала Георгию, что там Ленечки нет. Он спросил, знаю ли я, где он сейчас. Я сказала, что Ленечка все время со мной. Что я там, где он, но мне трудно, потому что нужно все время помнить, что нас хотят разлучить с ним, а это нельзя. Что-то я не то написала. Сейчас соберусь. Да! От меня все требуют, чтобы я чувствовала то, что чувствуют они, и этим все время мешают. Я много думала о том, чтобы уйти. Меня не останавливает, что это грех, но останавливает другое: если я сделаю это – вдруг мы с ним не встретимся? Оторвусь от него – не дай бог – и попаду куда-то, где он будет только еще дальше от меня. Сейчас мы с Леней вместе в моей душе, как в том лесном домике, куда мы прятались от дождя, когда жили в Тулузе. Домик был внутри леса, душа моя внутри тела, как же я могу разрушить это тело своими руками? Куда тогда деться нам с сыном? Ведь мы с ним вернулись к тому же, что было. Это мой ребенок, он лежал в моем животе. Сейчас мой ребенок – в душе. Разве это другое?
Начинаю вспоминать то время, когда мы с ним ничего не знали друг о друге. Я уже была на свете, ходила, дышала, спала, а его еще не было. Вернее, я еще не знала, что он придет, что это я помогу ему появиться. Теперь я понимаю, что меня для него выбрали, меня использовали для того, чтобы пришел он. Когда Богородице возвестили, что Она будет матерью, это ведь то же самое. Ее выбрали, чтобы Она родила Сына. И я родила своего сына. И когда мне говорят, что моего сына больше нет, я знаю, что меня пытаются обмануть. Им кажется, что они все понимают. Нелепость! Я прежде жила совсем без него – вот это было ужасно. Потом он лежал в животе. Значит – был. Теперь, когда они говорят, что его нет, я знаю, что он есть. Он, в сущности, там, где и был до рожденья. Куда ему деться? А я вместе с ним. Они думают, что это я говорю о своей смерти. Боже мой, они же ничего, совсем ничего не понимают! Что значит – смерть? Ничего не значит. Просто слово. Думаю иногда: я вот все понимаю, а как остальные? Ведь им говорят: «Близкого твоего человека закопали в землю, его больше нет, иди на могилу, сажай там цветочки». А это неправда! Неправда. Не верьте.
Георгий все просит, чтобы я пошла к врачу и принялась пить таблетки. Бог их знает, что в этих таблетках, какой там в них яд. Мне Бог помогает. Не хочется спать – я не сплю. Не нужно меня заставлять! Георгий сказал, что через два месяца – или два года, не помню – приедет Настенька. Настенька мне сказала по телефону, что, когда умер Патрик, она тоже не могла спать. А я весь день пыталась вспомнить, кто такой Патрик и когда он умер. Потом вспомнила. У Патрика были рыжие волосы, в нем текла ирландская кровь. Почему Настенька так и не родила от него ребенка? Нужно будет спросить у нее, когда она приедет.
Вермонт, наши дни
Вокруг была тишина. Все замерли, стало быть, или уехали. Ушаков не слышал даже птиц, даже однообразного шума воды. Они тихо стояли во глубине дерева, он прижимал ее к себе обеими руками. С ее волос сочилась вода на его голые плечи, лицо было прижато к его лицу, и губы Ушакова приходились на ее крепко зажмуренный глаз, который он не целовал, а просто поглаживал губами, боясь повредить эту горячую, шелковистую поверхность. Все его существо наслаждалось тишиной и теплом, которые наступили сразу же, как только он прижал ее к себе. Именно тишина была необходима ему. Поэтому, когда Лиза попыталась отстраниться, он прижал ее к себе еще крепче и даже затряс головой, как ребенок, которому пытаются поправить подушку или укрыть одеялом, а он ничего и не хочет другого, как только смотреть безмятежно свой сон.
Анастасия Беккет – Елизавете Александровне Ушаковой
Москва, 1934 г.
Лиза, у меня такие перемены! Ужасные, Лиза!
Я писала тебе, как мы встретили Новый год у Буллита и как Дюранти пришел туда намного позже, чем все остальные, вместе со своей красоткой. Я знаю, что он женат, и жена его живет в Париже, поэтому решила, что эта женщина – его любовница, но потом Мэгги, жена Юджина, сказала мне, что Дюранти живет с какой-то русской кухаркой, от которой у него есть сын. Кто эта блондинка, Мэгги не знает. Тут же она мне рассказала, что он начал свою карьеру журналиста во время Первой мировой войны, и репортажи, которые он тогда делал, отличались большой смелостью и талантом. Но потом – как считает Мэгги – «что-то с ним произошло, может быть, это все из-за наркотиков», он стал много пить, предавался немыслимому разврату (все в нашем с тобой ненаглядном Париже!), спал с мужчинами и детьми, насиловал животных, пока не подвернулась возможность уехать в советскую Россию. Здесь он довольно быстро выучил язык, получил квартиру, машину с шофером и был принят у Сталина. Все наши знают, что он давным-давно никуда не выезжал из Москвы и все его репортажи о колхозах – чистое вранье. Он циник и русских ни в грош не ставит. Пулитцеровскую премию получил потому, что сумел подружиться с сыном самого Джозефа Пулитцера.
С этим человеком я вчера изменила своему мужу. Лиза, молчи, не говори ничего! Патрик уехал из Москвы второго января, рано утром. Я не провожала его на вокзале, потому что у меня сильно болела голова с вечера. У меня всегда болит голова, когда идет снег, и мне кажется, что – когда снег – я как-то хуже соображаю. Патрик вышел из дому с небольшим чемоданчиком, внизу его ждала машина. Я приняла таблетку от головной боли и провалилась. Проснулась далеко за полдень от громкого чириканья воробьев. Снег кончился, за окном ослепительно светило солнце. Голова уже не болела, но мягко кружилась, и во всем теле было ощущение приятной легкости, как в детстве после долгой болезни. В дверь постучала товарищ Варвара и сказала, что меня просят к телефону. Я вышла в коридор, взяла трубку. Лиза, это был он. У меня подкосились ноги. Почему-то он заговорил со мной по-французски.
– Вы готовы?
– Готова? Мы разве о чем-то договаривались?
– Ça c’est la meilleure! On part en vadrouille![42]42
Вот это новость! Мы пойдем на большую прогулку! (франц.)
[Закрыть]
– Я плохо себя чувствую.
– Со мной вы будете чувствовать себя хорошо. – Он коротко засмеялся в трубку, и я отчетливо увидела, как он смеется, дергая левым уголком рта. – Ну, что? Вы согласны?
– Согласна.
– Я заеду через полчаса. Вы спуститесь или мне подняться?
Я подумала, что если я попрошу его не подниматься, значит, я прячу его и сама понимаю двусмысленность нашей встречи, а если я сделаю вид, что ничего такого нет и быть не может, то все это станет невинно и просто.
– Пожалуйста, поднимитесь.
Я накрасила губы и надушилась. Потом надела свое самое красивое белье, еще из Парижа. Если ты думаешь, что я делала это сознательно, то ты ошибаешься, Лиза. Я действовала механически, но только ужасно при этом торопилась, и меня всю лихорадило. Оделась, посмотрела в зеркало. В зеркале стояла испуганная кукла с очень бледным лицом. Я сразу же отвернулась. Ровно через полчаса Дюранти позвонил в дверь. Лиза, он был с цветами. Где он достал цветы? Зимой? В Москве? Я тут же заметила выражение, остановившееся на лице у Варвары, когда она открыла ему дверь. Оно было злорадным, словно Варвара заранее знала все, что будет.
– Хотите чаю? – спросила я.
– Я приглашаю вас в ресторан, – ответил он и добавил по-английски, кивнув на Варвару: – А это что за чучело? Она у вас служит?
Я смутилась. Варвара смотрела на нас стеклянными глазами.
– Пойдемте, пойдемте! – заторопился он. – А то мы пропустим все солнце, и будет темно, сыро, мрачно, как в Лондоне.
Сели в машину на заднее сиденье. У него красивый темно-синий «Кадиллак», за рулем шофер, который обернулся ко мне, вежливо поздоровался. Поднятые плечи в кожаном пальто, кепка. Глаз почти не видно. Дюранти назвал адрес.
– Куда мы едем? – спросила я.
– Сначала ко мне, на Ордынку, я забыл деньги, а в долг здесь никто не дает.
– Но мы же хотели гулять, пока солнце!
Он осторожно обнял меня за талию.
– Вы что, мне не верите?
Я отдернулась, и он засмеялся.
– Русские девочки, которых я подкармливал в Константинополе, не были такими пугливыми.
– Что это вы такое говорите?
– Да ничего я не говорю, это просто шутка, – усмехнулся он. – Мы заедем ко мне на Ордынку, я возьму кошелек, и пойдем обедать. На обратном пути прокатимся по городу, потом я доставлю вас домой. Чего вы боитесь?
Я вспыхнула, мне стало стыдно. Показалось даже, что я действительно все придумала. Минут через десять мы подъехали к большому каменному дому на Ордынке. Он попросил шофера подождать.
– Пойдемте, посмотрите, как я живу.
Поднялись на второй этаж. Все старое, темное, добротное. Он открыл дверь своим ключом. Навстречу нам вышла молодая, очень полная светловолосая женщина с васильковыми глазами. Мне показалось, что Дюранти не ожидал ее увидеть и смутился, если только можно употребить это слово по отношению к такому опытному человеку.
– Катя, ты можешь идти, – сказал он негромко.
Она вся стала красной – не только лицо и шея, но даже плечи и огромная белая грудь в вырезе платья.
– Я лучше останусь, – ответила она тонким и неприятным голосом.
Дюранти посмотрел на нее так, что она вдруг махнула рукой, сорвала с вешалки пальто и хлопнула дверью. Кажется, она еле удержалась от слез.
– Характер! – весело сказал он. – Такие у них революцию сделали.
Квартира у него очень большая, пять или шесть комнат, прекрасно обставленных, на стенах картины, ковры, как в музее.
– Хотите вина?
– Я не пью, – сказала я.
Он достал из шкафа несколько красивых бутылок, две рюмки и коробку с конфетами.
– Вы курите?
Я кивнула. Он предложил мне папиросу, а сам закурил трубку. Потом спокойно уселся на диване, разглядывая меня. Я делала вид, что рассматриваю картины, задавала ничтожные вопросы. Он отвечал односложно и совсем перестал улыбаться. Глаза его стали вдруг темными и снова какими-то бешеными. Наконец я вскочила.
– Голова болит, – сказала я, – отвезите меня, пожалуйста, домой.
– Домой? С удовольствием.
И близко подошел ко мне. А дальше, Лиза, я не могу ничего объяснить. Все произошло само собой, и я чувствовала себя на седьмом небе. Потом стало стыдно и страшно. На следующий день мы встретились в полдень на бульваре. Я не хотела, чтобы он опять заезжал ко мне домой. Сидела на промерзшей скамейке, бульвар был почти пустым, две няньки гуляли с колясками. Он сильно опоздал, и, пока я ждала его, думала только о том, что, если он бросил меня, я этого не вынесу. Теперь я вижу его каждый день, слава богу.
Голод
Самоубийство стало частым явлением в нашем селе. Многие кончали с собой, вдыхая угарный газ. Это было просто и безболезненно. Большинство составляли женщины, чьих мужей арестовали и сослали в лагеря, а дети умерли от голода. Они заделывали все щели, затворяли окна и двери, разжигали огонь в печи или прямо на глиняном полу и умирали, вдыхая пары угарного газа. При этом вся хата часто выгорала целиком.
Иногда кому-то удавалось поймать рыбу или птицу. Летом в лесу можно было набрать ягод, грибов, и в пищу шло все, даже листья и кора деревьев. От истощения у людей выпадали зубы. Они добирались до лужайки, ложились на землю и начинали выдирать из нее траву своими распухшими, кровоточащими деснами. Трава не утоляла голода. Когда с полей сошел снег, истощенные скелеты потянулись туда в надежде раздобыть в земле что-нибудь съедобное. Самой большой удачей было наткнуться на картошку. Картофель и лук были бесценными находками.
Из воспоминаний Олега Ивановича Задорного
Вермонт, наше время
Вернувшись с плотины, выпили водки в столовой. Согрелись, обсохли. Студенты и дети давно крепко спали, над школой сверкала луна.
– Теперь на костер! Без костра не годится!
Лиза смеялась, запрокинув голову.
– Вы никогда не ездили в пионерский лагерь?
– Мы разве на «вы» с вами, Лиза?
Она усмехнулась:
– Мы ведь не пили на брудершафт. Откуда же «ты»?
Ну, вот. Она замужем, наверное, или у нее есть друг.
– Тогда я поехал, – весело сказал Ушаков.
Она покачала головой.
– Не хотите посмотреть, как люди впадают в детство?
– Хочу, но не очень.
– Не обижайтесь на меня. Если вы сейчас уедете, значит, я вас обидела чем-то.
– Я лучше поеду. Спокойнее будет.
– Останьтесь.
– Да боязно здесь оставаться!
Он тоже смеялся.
Она слегка прищурилась:
– О’кей, поезжайте. Спокойной вам ночи. Вы просто чудесный.
– Откуда вы знаете?
– Так, догадалась.
Ушаков дотронулся губами до ее теплой щеки.
– Счастливо, прощайте.
– А может, останетесь?
Он делано зевнул. Хотелось еще прикоснуться.
– Спасибо за вашу рубашку. Я сразу согрелась.
– Хотите, я вам подарю? – Он сделал вид, что собирается снять рубашку.
– Попробуйте только, меня здесь съедят!
– Пойдемте, пойдемте! – Торопливая Надежда пробежала мимо, сверкнула глазами, как звездами. – Там петь уже начали!
– О любви не говори! – С лужайки и вправду заливисто пели. – О ней все сказано! Сердце, полное любви, молчать обязано! О любви не говори, умей владеть собой, о любви не говори…
– Вы таких песен в Париже не услышите, – сказала Лиза. – Да и нигде не услышите. Ведь вы антрополог?
Костер раскинулся посреди леса с весельем, привольностью и беспорядком. Огонь подпрыгивал, как великан, которому хочется достать до самого неба, поэтому он приседает на секунду, набирает сверкания и шума в огромные гроздья своих желтых легких и вновь устремляется кверху, где вскоре с большой неохотой чернеет и гневно уходит в прохладное небо. Все рассевшиеся и разлегшиеся вокруг огня люди – те самые, которых Ушаков застал днем одетыми и прибранными, – казалось, сорвали сейчас свои маски, где пламенным лицам их было неловко, и, выставив в небо широкие скулы, и пели, и пили, и что-то шептали друг другу в прогретые пламенем уши.
Ушаков не слышал того, что они шептали, но, судя по смеху, всем стало так сладко! Всем стало – как детям, но только не нынешним, бледным, изнеженным детям, которых родители гордые лечат, и моют шампунем, и водят в концерты, а тем первобытным, оскаленным детям, которые жили во мрачных пещерах среди разгулявшейся грозной стихии, резвились, как звери, и грызли коренья. Все слабые узы человеческой цивилизации, основанные на страхе перед будущим и несправедливом распределении природных запасов, здесь, в этом лесу, наконец-то исчезли, и вновь разыгрались свирепые страсти, животная нежность и грубые ласки.
Большая ярко-розовая женщина с лицом очень круглым, немного отечным, на котором отблески огня плясали так ярко, что даже черты его словно сместились и нос поменялся с глазами, а рот с подбородком, взяла гитару и толстыми белыми пальцами пробежала по струнам.
– Ну, что будем петь?
– «Голубчика», Леля! Сначала «Голубчика»!
Леля закрыла глаза, пышное тело ее приобрело легкий наклон и слегка заколыхалось, словно бы устремившись вдогонку за голосом, который жил сам по себе и всегда был свободен, и низко, тревожно и страстно запела:
– Не уезжай ты, мо-ой голу-у-убчи-и-ик! Печально жить мне бе-ез тебя!
– Дай на прощанье о-о-обещанье-е-е! – подхватили собравшиеся, и тут же весь лес, вся лесная природа, охваченная этим голосом, с одной стороны, огнем – с другой, присоединилась к празднику, и захмелевшие деревья, играя листвою в загадочном небе, вплели в эту песню расслабленный лепет.
Ушаков, которому кто-то плеснул уже водки в бумажный стаканчик, сидел очень близко от Лизы на постеленном одеяле и, не отрываясь, смотрел на нее. Ему до тоски хотелось остаться сейчас наедине с этой женщиной и физически соединиться с нею, но то, что это может произойти – и очень скоро, – пугало его, как пугало все, связанное с теми женщинами, которые после смерти Манон вызывали у него желание близости. Когда эта близость случалась и женщина переводила на Ушакова полные ожидания глаза, ему сразу же хотелось одного: как можно быстрее уйти и забыть. И он уходил, а потом долго злился и мучился тем, что кого-то обидел.
Пели и пили до рассвета. И только когда ночное небо стало бледнеть и что-то розовое, мерцающее, как брюхо молоденькой рыбы, проплыло в его глубине, все вдруг поднялись с одеял и подушек, стряхнули еловые иглы.
– Понравилось вам? – обиженно спросила Надежда и хрустнула смуглыми, сплетенными над затылком руками.
По тому взгляду, которым она полоснула его лицо, Ушаков понял, что он не оправдал ее ожиданий.
– Да, очень.
– Мы – русские люди, – с вызовом сказала Надежда. – Что бы ни говорили, а песня есть сердце народа. Согласны?
Лиза стояла поодаль, но не торопилась уходить. Ушаков чувствовал ее взгляд на своем лице.
– Хотите остаться, Димитрий? – Надежда слегка исказила его имя. – У нас для гостей здесь отдельный есть домик…
– Спасибо, Надин, я уж лучше поеду, – торопливо ответил Ушаков. – Я завтра в Нью-Йорк собирался по делу…
– В такую жару – и в Нью-Йорк? – протянула Надежда, своей интонацией давая понять, что ни на грош не верит Ушакову. – Ну, что ж, как хотите… Раз надо – так надо…
Дневник
Елизаветы Александровны Ушаковой
Париж, 1958 г.
Когда я просыпаюсь, я ведь не сразу вспоминаю, что его больше нет. И несколько секунд мне так хорошо! О ГОСПОДИ! ГОСПОДИ! ГОСПОДИ! Вот так и буду писать. Господи! Дай мне забыть. Убей во мне память, зачем мне память?
Пошла вчера к Вере. Увидела Митеньку. Он похож на Леню. Взяла его на руки. Посадила на колени. Смотрю: родинка на виске. Значит, не он. У Лени не было никакой родинки. Но они очень похожи. За Митю я тоже волнуюсь. Не так, как за Леню, но тоже волнуюсь. Раньше, бывало, с ума сходила: вот Леня летит куда-то на самолете, а я не сплю, смотрю на часы. Скорее бы позвонил! Или когда он ездил в Эфиопию, делал там жителям прививки от тропических болезней, тоже ведь я ни секунды покоя не видела. А сейчас – он во мне. Куда он от меня денется? Кладу руку на живот: вот ты, мой маленький. Вот, шевелишься. Пойдем на улицу. Там уже листва. Я везу тебя в коляске, на личике прыгают тени. Митенька – другой, не такой, как мой Леня. Мой никогда не плакал, не капризничал. А Вера говорит, что Митя без ее руки не засыпает. Сказала Георгию. Он огорчился: куда это годится? Мальчик должен быть мальчиком. Кто знает, что выпадет в жизни. А он у нас нежный. На виске родинка, как у барышни. Но все же похож на Ленечку, очень похож. Может, ему повезет?
Вчера я весь день ждала Настю. Вечером спрашиваю у Георгия: что же она не приехала? А он говорит, что она приезжает в пятницу. Я думала, что пятница была вчера. Оказывается, я все перепутала. Пятница – послезавтра. А по четвергам – это я прекрасно помню! – мы встречались с Колей. Я так его загадочно называла в своих записках: Н. Какой еще Н.? Ну, Коля и Коля. Мой грех. Не может быть, чтобы от этого Ленечка умер. При чем же здесь Коля? О господи.
Вермонт, наше время
Дошли до машины. Ушаков открыл дверцу.
– Куда вы торопитесь? – спросила она. – Слышите, какие у нас цикады?
И положила руки на его плечи – не обняла, не прижалась, просто положила руки, словно это было ей удобно.
– Qu’est-ce que tu fais, toi? – спросил он.
– Переведите! – засмеялась она.
– Я спросил: что ты делаешь?
– Пытаюсь понять.
Ушаков наклонился к ее лицу:
– Поедем?
– Поедем – куда?
– Куда ты захочешь. Мне так очень трудно.
– А надо?
– Мы взрослые люди. Tu va pas te barrer comme Ça?[43]43
Ты же не уйдешь так вот просто? (франц.)
[Закрыть]
– Ах, делай как знаешь! – неловко отмахнулась она.
Через двадцать минут подъехали к дому.
– Да это поместье! – пробормотала она, оглядываясь. – И все – одному человеку?
– И все – одному, – ответил он, пропуская ее в дверь.
Но тут, в темноте комнаты, где слабо белели от заоконного звездного света березовые дрова в камине, так что казалось, будто и незажженный, камин все же освещает диван, стол и стулья, – тут Ушаков не мог больше ждать: он изо всей силы обнял ее и принялся осыпать поцелуями лицо и шею, одновременно пытаясь высвободить ее из легкого платья.
– Постой, – прошептала она. – Ведь ты же не знаешь…
– И знать не желаю. – Что-то хрустнуло под его руками, посыпались пуговицы. – Il y a des tas de choses àfaire![44]44
Мне есть чем заняться! (франц.)
[Закрыть]
Голод
Когда у людей отняли хлеб, все, что составляло прежде человеческую жизнь с ее чувствами, делами и мыслями, постепенно закончилось. Со стороны, наверное, было бы очень просто заметить, как именно это происходило: сначала ослабели отношения дружеские, потом мужеско-женские, потом начали сдаваться воспитанные поколениями привычки, как-то: уважение и жалость к старости, снисхождение к слабым. Дольше всего остального держалась любовь, и муж, плачущий над телом, вернее сказать, над скелетом умершей жены, и жена, из последних сил роющая яму, чтобы похоронить в ней умершего мужа, встречались еще, хотя реже и реже.
Единственным, чего не удалось победить даже голоду, оказалось материнство. Смерть ребенка перекусывала последнюю нитку, привязывающую женщину к жизни, ровно так же, как и судорожные попытки вырвать своего ребенка из рук смерти долгое время заставляли женщину двигаться по земле в поисках пищи, которая могла бы хоть на день, хоть на два продлить то еле ощутимое тепло, которое сочилось изо рта ее сына или дочки во время дыхания.
Случаи людоедства, на которые закрывают глаза современные историки, боясь нарушить предназначенную исключительно для жалости и сострадания картину голода, заставляли людей опасаться, что дети их могут быть съедены. Эти несчастные, которых Бог наказал тем, что, лишившись рассудка, они убивали других несчастных и поедали их, находились среди людей и имели человеческий облик. В памяти одного из крестьян, переживших голод, сохранился особенно один случай: ему запомнилась мать пятерых детей, которая, потеряв рассудок, начала поедать их, но до конца успела расправиться только с двумя – грудным мальчиком и трехлетней девочкой.
Из воспоминаний Олега Ивановича Задорного