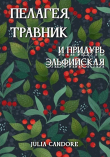Текст книги "Да воздастся каждому по делам его. Часть 1. Анна"
Автор книги: Ирина Критская
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Ирина Критская
Да воздастся каждому по делам его. Часть 1. Анна
Глава 1. Нюра
Этой ночью Пелагея почти не спала. Живот не то, что резало – боли она особенной не ощущала, просто было такое чувство, что кто-то очень недобрый налил в него свинца – не горячего, остывшего, но густого и тяжелого. Живот тянул вниз с такой силой, что даже до сеней – хватнуть воды из остывшего к вечеру ведра, она доползти не могла. Кое-как сев на полатях (последнее время она старалась уйти из комнаты, где они спали с Иваном, там, на узковатой кровати, за натопленной печкой ей было душно и нечем дышать) она попыталась приподняться, держась на спинку стула, но стул начал крениться и она опять с силой плюхнулась назад. И вот тут боль взрывной волной накатила откуда-то изнутри, захлестнула горло и переломила тело так, что Пелагей выгнулась дугой.
– Ооой…Ой мамушка… Лышенько, беда-беда…
Эти слова мелькали в голове, словно тень от штакетин палисадника, когда Поля в детстве летела вдоль по улицы, вздымая пыль босыми пятками. Просто мелькали, но не откладывались в сознании, ничего не означали и ничего не меняли. Потому, что боль была адская. И не в силах терпеть, Пелагея, обычно скромная очень стеснительная, сползла на половицы, стала на карачки и, уткнувшись лбом в грубые цветные переплетения, завыла утробно, как раненная медведица.
– Поля, Полюшка, родимая. Сейчас, сейчас же…
Сквозь мутную завесу боли, с трудом оторвав голову от половицы, Пелагея увидела Ивана, который в белых исподних штанах и широкой рубахе метался по комнате, что-то хватал, ронял, потом споткнулся, упал, ударившись плечом об угол печки, снова вскочил, и прямо, как был выскочил в сени. Пелагея не прекращала выть, но боль чуть изменилась, обмякла, стала пустой, как дырявое ведро и она успела подумать: «Ведь холодно…как он, Ванечка, в споднем-то. Околеет на ветру, заболеет, не дай же Бог». Но сознание снова оставило ее, вернее поблекло, стерлось, закрылось ватной духотой тупой боли, накатывающей волнами.
Когда Иван, задыхаясь от непривычного бега, с трудом открыл тяжелую, подбитую ватином на зиму дверь и втащил тоненькую девочку-фельдшера, то увидел, что жена лежит на боку, белая, как мел, подплывшая кровью и, похоже, не дышит. Взревев диким зверем он кинулся на колени, но фельдшерица с неожиданной для такого тельца силой, оттолкнула его, быстро, по деловому подняла роженице голову, приложила ухо к груди, одновременно сжав пальчики на запястье.
– Жива, дядь Иван. Давай, бегом. К тетке Елене – быстро. Я одна не потяну.
И, зло глянув крошечными круглыми глазками из под лысеньких бровок, вдруг заорала – звонко, аж зазвенело в ушах
– Не стой, сказала. Помрёт. Идол старый.
Иван и Пелагея и вправду, были уже староваты для ребёнка. Жизнь почти прожита, дети подросли, жить бы да поживать, в любви и согласии, а уж любви-то у них на пятерых хватило бы, никто в деревне так не жил, душа в душу. И вот тебе, нате. Перед Пасхой, в чистый четверг, когда Пелагея подняла на пузо огромную кадку с бродящим, сладко пахнущим тестом, у нее в животе что-то ёкнуло странно, как раньше и заломило. Она села на лавку, потерла поясницу и вдруг, совершенно ясно поняла, что произошло. А ведь и не думала… Все чистые подолы свои списывала на возраст, да и застудилась в марте, белье полоскала, в жижу ледяную у берега и провалилась. Ан нет… Ведь и надо же…К сорока пяти уж – стыдобища, родным да соседкам, как в глаза-то смотреть. Старые дураки, все тешатся, скажут же.
Но, делать нечего, Ивана призвала вечерком, как помолились, да на ушко ему и шепнула. Уж обрадовался, старый, уж зацеловал, как парнем, даже лицо загорелось. И ведь доносила же. До срока…
Тетка Елена павой вплыла в комнату. Отстранила полной пятерней фельдшерицу, сдернула толстую шаль, с которой не расставалась, сверкнула черными глазищами и повелительно указала в сторону бани
– Иди. Топи. Живая и жива будет. А ты, птица, иголки свои попрячь, без надобности. Сама все поделаю, помогать будешь. Иван, простыни неси, да Польку в баню потащишь, как согреется там.
Елена – местная ведьма, знахарка и травница была известна по всей округе. Толстая, как корова, злая, как голодная собака, наглая и беспринципная – она творила всё, что хотела, но ей прощали всё. Отпускала она больного на тот свет только в крайнем случае. В ход шло всё – и заговоры-наговоры и травы и колдовство и нечистая сила. Правда, поговаривали, что Елена окончила медицинскую школу, но точно этого никто не знал, да и не спрашивал. Какая разница. Главное – она спасала. Брала за свою работу столько, что не каждая семья могла ее позвать, но спасала. Чёртова кукла.
Пелагея пришла в себя от того, что Иван, взвалив ее, тяжеленную, на руки куда-то нес. А потом снова впала в беспамятство, и только сквозь обморочный морок чувствовала, как острые иглы и ножи вонзаются в ее тело и ворочают там, внутри, вызывая огненные сполохи, обжигающие внутренности. Но, ей было все равно… Что-то горячее текло по ногам, в голове стучало молотком, сжимало горло и очень хотелось умереть. Именно умереть – прямо сейчас, быстрее, сразу.
… Почему-то щекотало лицо и, одновременно тянуло за грудь – приятно и щемяще. Пелагея осторожно приоткрыла один глаз, сжавшись от ожидания очередной иглы. Но иглы не было – только теплое, совсем не октябрьское солнышко грело щеку, водя по ней ласковым пальчиком. Был ясный день, в их местах в октябре часто бывают такие денечки, вроде возвращается лето, она лежала на лавке около окна. Видно Иван, зная как она не любит спать за печкой сострогал ей такую красоту – широкую, удобную, с мягким матрасом. Тихонько повернув голову, скосив глаза к груди, Пелагея захлебнулась от волны сумасшедшего счастья и умиления – там, присосавшись к ее груди крошечным розовым ротиком, спеленутая, как твердая куколка лежала девочка.
Пелагея сразу поняла – девочка. Маленькая головенка, вся в редких, темных волосенках подпрыгивала от усердия, так активно малышка сосала. И, вдруг, оторвавшись от соска, она подняла личико и черными, круглыми глазками-шариками уставилась на мать.
– Нюра. Полечка, давай назовем ее – Нюра. Как мою мамку. А?
Пелагея даже не заметила, что около кровати стоит Иван. Большой, чуть сгорбленный от постоянной работы, в рубахе-косоворотке и широких шароварах, он вдруг показался Поле молодым-молодым. Улыбался ласково, гладил по плечу заскорузлой ладонью, в другой руке держал глечик с молоком.
– Попей, Поля. Тебе надо, только подоил, теплое.
– Давай, Вань. Назовём, как хочешь. Нюра. Аня. Анна – красиво…
Глава 2. Клавдея
Иван с утра не показывался на глаза, да, в общем это было и ясно – Пелагея застала его утром на погребице, когда он плакал. Закрылся ото всех, отвернулся лицом к бревенчатой, сизой от времени стене, сел на чурбак, положив седеющую большую голову на руки и ревел, как маленький. Сильные, мощные плечи тряслись, он всхлипывал, пытался сдерживаться, но слезы прорвались наружу с жалобным хрипом, и у Пелагеи чуть не разорвалось сердце. Она уронила разом все пять яиц, которые несла из курятника в фартуке, всплеснула руками, бросилась к мужу – обнять, приголубить, успокоить, но тот, вдруг неожиданно грубо вырвался из ее рук, выскочил, как ошпаренный из сарая и понесся по двору к дальней калитке, что вела в огороды.
– Божечки, ж милостивый, да заступись и оборони. Не казни ж, нас грешных.
Набожная Пелагея размашисто перекрестилась в угол сарая, соскребла яйца с чисто выскобленного пола (Иван не любил, когда на погребице грязь, он тут мастерскую себе сделал), сложила в миску вместе со скорлупками (хоть цыплятам сварю, а коль почищу, так и нам на яишню, больно к весне голодно), села на ступеньку и задумалась горько. Вчера пала корова. Она хоть и старая была, а молоко давала исправно, хорошее молоко, жирное. Только и жили молоком тем, и сметанка и маслице, всё перепадало, и вот – пожалуйста. До травки не дожила, ледащая, Иван себя винит, сена -то мало было, она на сносях, сыны в район в училище подались, Танька в город замуж уехала, а они, старые, да Анька ж ещё. Помочь некому, кой-как выжили, а корова – бац, и повалилась. Телю так еще зимой ироды в колхоз забрали, надеяться больше не на что. Хорошо, коза осталась, хоть со стакан, а молоко. Вот он, Ваня – на погребицу зашел, молоком пахнет – расстроился. Эх, жизнь!
Пелагея с трудом поднялась с низкой ступеньки и, держась за поясницу, поплелась в дом. «Придет к завтраку, куда денется. Очнётся от беды своей, вернется. Вот еще». В сенях было темно и холодно, пахло подгнившей квашеной капустой и землей. Так, землёй пахнет картошка, когда начинает прорастать, зеленеть и морщиться. Пелагея не любила этот запах, она всегда раньше по весне, все вычищала, надраивала крыльцо и лавки в сенях красным кирпичом и открывала настежь двери в дом, чтобы печной дух проник и в сени, прогрел, просушил их, сделал уютными. А в этом году недосуг – дите малое, колхозом тем еще замучили, да и Ванечка чот загрустил. Все думу какую-то думает, глаза печальные, далекие.
А ведь какой был! Он ведь к ней не сразу пришел, женатым жил. На соседней улице., в богатом дому – приймаком. Чего он на той, первой то женился, и сам не знал, а вот случилось. Она, Клавдея, богатой была – папка с мамкой магазин до революции держали, галантерею. Одета, как кукла, шали шелковые, юбки бархатные, сапожки всегда красненькие на каблучках.
Поля, как девчонкой была, прямо млела – красивая какая, куда ей, девчонке голодраной. А та – высокая, худая, как оса, но грудь колесом, кожа белая, аж светится. Глаза по ложке – синие-синие, ресницы опахалом. Но злая, вредная, злее ее, наверное, во всем селе девки не было. Чуть не по её – блажит дурниной, аж до базара слышно. Парни ее стороной обходили, несмотря на красоту, а Ванечка влип.
Свадьба у них – Пелагея больше таких свадеб ни до, ни после в селе не видала – как у царей. Всю улицу цветами выстлали, подводы шли все в коврах, гости ехали разнаряженные, конфетами дорогими сорили, деньги горстями бросали – они с девчонками так и бежали следом, подбирали. Полные фартуки конфет набрали, карманы от мелочи звенели. А невеста – прямо ангел небесный, фата кружевная, платье, как облако, глаз не оторвать. И Ванечка такой красивый сидел – высокий, стройный, при костюме черном, в карманчике цветок. Поля уж тогда влюблена в него было до слёз, все девчонки дразнили. А он ее поймает за локоток, к себе повернет, смотрит так ласково, смеется – «Ах ты Поля-Полюшка, пойдем со мною в полюшко». И яблоко ей даст или пряник. Шутник… А Поля потом плачет ночь в подушку, хорош Ваня, да чужой.
Отгремела тогда свадебка, зажил Ваня с молодой женой в родительских хоромах. Да не ладилось у него что-то, все смурной ходил, невеселый. А у Клавдии живот уж до небес, ходит, как утка, переваливается. Только еще злее стала – на мужа орёт, на мамку свою, так вообще волчицей бросается, в магазин, как зайдет, так народ оттуда бегом, не дай Бог вязаться. В храме и то батюшка ей грехи сразу, на расстоянии отпускал, ну ее. Прямо не баба– щука!
А потом она ребеночка мертвенького родила. Или он только рожденный помер, Поля не знала. Месяц Клавдея с дому не выходила, Ваня и на базар, да в огород, да на поле работал, все один. А потом она сарай подожгла. Пока все спали, соломой обложила, да вместе с гусями и свиньей с поросятами и сожгла. А когда народ тушить сбежался, она с чердака в окошко выглянула – хохочет ведьмою, волосья по ветру, лицо страшное, белое, рот в крови. И сиганула вниз со всей дури.
А ведь не разбилась, выжила, прямо черт ее берег, похоже. А с ума сошла, совсем. Это рот у нее тогда в крови был – она утенка загрызла, живого. Кошкой себя представила, или собакой, может…
Короче, доктора позвали, в город возили – все без толку. Голова у нее совсем поехала, да еще папка с мамкой тогда на пожаре обгорели, в больнице померли. Ванечка один с ней остался, с ведьмой. Так и жил.
А Поля выросла, в девушку вытянулась. Красивая-не красивая, а парни льнули, как на мёд. Волосы в косе до попы курчавятся, полненькая, с карими глазами и румяными щечками – про таких говорят «кровь с молоком». И характер, люди говорили, ласковый, улыбчивая, светлая, работящая. Так и носилась из избы в огород, да на поле, матери с отцом в радость, братьям в помощь, людям загляденье. Сватов засылать начали. А она не в какую. Нет! И всё! А по ночам всё слезы в подушку, всё о Ванечке о своем, любви несбыточной…
Эх. Пелагея вздохнула, прервав воспоминания, толкнула дверь, из дома пахнуло теплом и хлебом, с утра тесто поставила. В углу первой комнаты Ваня сделал выгородку и в ней цыплятки – целых двадцать, повезло ныне, две квочки сели. Она покрошила остатки горбушки со вчерашнего ужина, больше и не было ничего и пошла в спальню. Там, в крошечной кроватке, обняв куклу, которую Поля ей сшила из старых чулок, спала Аннушка. Толстенькая, розовощекая, кудрявая, она сыто чмокала розовым ротиком, сжимала и разжимала пухлую ладошку и улыбалась во сне. А сверху, со стен, с огромной иконы на нее смотрел Иисус – и тоже улыбался. Пелагея перекрестилась, поправила дочкино одеяло и пошла подбросить дров. Пора было ставить хлеб.
Глава 3. Гита
До мая дожили, слава Богу, не померли. Соседки молочка понемногу давали, редко, но делились, да и коза не подводила, как чувствовала – плохо хозяевам. Правда, горчило козье молоко, дитю не дашь, а сами ничего – чуть пили. Травка пошла в этом году рано, да такая сочная, справная, аж хрустела под серпом, как яблочко. Пелагея варила щи из крапивы, вбивало яичко, хоть и без мяса, да вкусно, сытно. Старого сальца почистит от шкурки, настрогает, на сковородку кинет, да лучку зеленого. Это лук– скорода за огородом, где луг пустой нарос – витамин, лучше не придумаешь. Так с картошечкой любо ж дорого – хорошо картошки настарались в том году – девать некуда
А вот молоко у Пелагеи стало кончаться, это беда! Нюрочка сиську мусолила-мусолила, потом плюнет и давай голосить – крикунья уродилась, прямо святых выноси. Пелагея и так ее и эдак, а орет, хоть ее режь, нету спасу. А Ване в утро в храм – подвизался в хоре церковном петь, хоть церковь и закрыли, а у батюшки на дому собирались, все справляли, молились. А как же, без Бога, страшно же. Да и помощь получалось – на похоронах попоет на кладбище, на празднике каком, на родительской, сельчане ему в мешок и накидают – кто пряников, кто булочку, а кто и колбаски кусочек домашней. Принесет, на стол выбросит – радость, не передать. Лоб перекрестят, чайку вскипятят, нарежут тоненько колбаску – как лепесток, на свет видать, и на хлебушек. А потом пряника. Да и Нюрке в кулачок дадут кусочек, та сосет, жмурится.
Они и дома, сами молились усердно. Станут рядком на колени и просят Божью матерь – защити, родная, утоли печали. Но, ничего, все хорошо шло в тот год, хуже бывало. Только вот молочко…
В то утро, когда Иван, шатаясь от недосыпания, бледный, хуже стены беленой, глотнул кипятку с вареньем и горбушкой хлеба вчерашнего и вышел за ворота, в окно постучали. Пелагея выглянула – в раннем, синеватом утреннем свете стояла соседка, цыганка – Лала. Лет ей было поболе, чем Пелагее, а выглядела молодкой – высокая, стройная, чернявая, красивая. Платок назад, серьги – рублики, фартук яркий – картинка. Стоит, подбоченившись, рукой манит – выйди, мол. Пелагея вздохнула – как Лала появится – точно просить чего. Не было так, чтобы не клянчила – просто оторва, не баба. То яиц ей, то муки, то сахару. А сейчас у самой ничего нет – и дать нечего. Но стоит, не уходит. Пелагея окно распахнула – в дом полетели лепестки отцветающей вишни в палисаднике, пахнуло сиренью.
–Что тебе, соседка? Ничего не дам, у самой ничего нет, вон, муки и той немного, просить как-бы не пришлось.
–Да ты не кипятись, Поля, золотая. Ты выйди, сказать что хочу.
Пелагея сплюнула в сердцах, но пошла со двора, уж больно она не любила цыган в дом пускать – наглые. Подошла к Лале, оперлась уставшей спиной о березу – в три обхвата у них росла на улице, подняла глаза – та смотрит, смеется.
–Ну, говори!
–Что, Нюрка твоя все орет? Молока нет, небось?
– А тебе что? Ты мне молока что ли надоишь, как корова?
– Вооон… Я к ней с добром, а она крысится, как та Жучка глупая. Помочь хочу.
– Чем же ты мне поможешь, соседушка? Наговорами да разговорами?
– У нас табор стал, слыхала? За рекой. Там Гитка моя, дочка, у нее дите померло. Сережки свои дашь, она тебе Нюрку выкормит. Отплатить тебе хочу, ты мне вон сколько помогала. Да и дочку твою жалко – орет, худая стала, глазюки одни.
Пелагея растерялась. Гиту она видела давно, года два уж, как она с таборными ушла. Хороша была – девчонка еще, а налитая, как яблочко, тронь – палец отскочит. Здоровьем пышет, чистая, добрая, редко цыганки такие бывают – прям не в мать. Та все шушарила, как шушара, а эта нет – смотрела прямо, ласково, честно. Вот и увели. И вот ведь горе – дите.
– Что молчишь, думаешь. Помрет девка, или заболеет – будешь локти кусать. И Гитке легче – молоком исходит и Нюрке на пользу. Давай, решай.
– Только Ване не говори. Тихо. Не надо знать ему, он цыган-то не любит. У него ваши брата украли, так он до сих пор помнит.
– Не скажу, что мне. Сейчас приведу, пока его нет, и ввечеру. А потом завтра, как уйдет. Давай, жди.
Пелагея в раздрае чувств ушла в дом, села перед Аннушкиной кроваткой и задумалась. Правда, худая девчонка стала, желтая аж. Как не старалась – а материнского молока ничем не заменишь, да и нечем. А тут… А Ваня не узнает, тихонько все сделаем.
Она открыла комод, достала шкатулку – оттуда, из самого дальнего угла тяжелого резного ящика, за тяжелыми покрывалами да подзорами ее прятала. Те серьги подарил ей отец, она их и не носила никогда, уж больно вычурные. Длинный камушек, как капля, зеленый, похожий на бутылочное стекло, весь в кружевах почерневшего серебра. Она потерла металл о суконку – он сразу заиграл, заблестел – очень красивые серьги. Зажав из в кулаке, пошла открывать – услышала голоса. Гита – располневшая, с волосам чернее ночи под ярко-бирюзовой косынкой, с грудью – большой, полной, колыхающейся, как у стельной коровы, вплыла в сени лодочкой, улыбнулась, протянула круглую влажную ладонь. Пелагея вложила в ее руку сережки, последний раз глянула на них, утерла слезы и втащила из кроватки Анечку.
Дочка сразу закричала, захлебываясь, засосала ротиком воздух, вроде искала чего (у Пелагеи с утра грудь совсем пустая была), а потом вдруг замолчала, смотрела так по-взрослому, грустно. Гита вывалила сиську на стол, подхватила девочку, а та враз, как поняла – ухватила ручками грудь, приникла и зачмокала.
Глава 4. Разоблачение
Пелагее было очень стыдно. Обманывать Ваню, это все равно, что ребенка малого – он был доверчивым, как дитя. Но сказать, что его кровинушку, свет в окошке, Нюрочку, цыганка кормит Пелагея не рискнула. Так и прятались они с Гитой, только муж за порог, как они тут же – раз, и сообразили. А Аннушка выправляться начала – щечки порозовели, налились, ладошки стали белые, мягкие, а то прямо, как у старушки маленькой были, желтые да морщинистые. Ваня нарадоваться на дочку не мог, придет, руки на дворе намоет, сам по пояс холодной водой колодезной окатится и в дом, на ребенка глянуть. Так не возьмёт – руки сначала согреет, а потом на колено девочку посадит и катает, как на лошадке и нацеловывает. Очень любил, не каждый отец так своё дитя любит.
А у Пелагеи странное что-то в душе творится стало. И, вроде, родимочка, дочушка, прямо всю кровь бы за нее отдала, и вроде что-то такое поднималось – как к чужой. Как Гита дочку накормит, отдаст, так даже запах от ребенка другим Пелагее казался – так от цыганчат пахнет – пылью, солнцем, ветром, степью. Даже молока не чувствовалось, как полынью кормила, или травой какой. И кожа даже как будто смуглеть у Анны стала, то ведь белокожая была, в маму, а то прямо темная. Приглядываться начала Пелагея, может ведьмачат они что-то, да нет – придет, накормит, слова лишнего не скажет и нет ее. Да и Лала особо не заглядывала последние дни – что-то там нехорошее в их семье творилось, все кричали, ругались на дворе, да зло, громко. Четыре месяца уж прошло, как Гита к ним ходить стала, лето скатилось за дальнюю горку, и уж сентябрь к концу, урожай почти весь сняли, яблок полные сени – и моченых наделали и сушеных и пастилы накатали – на весь дом яблочный дух. Пелагея Гите мешок нагрузила, та взяла, не отказывалась – они во дворе даже яблонь не имели, бездельники. Да и капусты ей отвалила, и картохи, моркови со свеклой полмешка, ничего не пожалела – как тут пожалеть, такое добро им девка сотворила – век не расквитаться.
Пелагея уж хотела от сиськи Гитиной ребенка отваживать, девятый месяц шел, да вот только молока своего в дому не было, корову так и не завели, не осилили. А Иван, как слепой – видел же, что у жены молока нет, а девочка здоровенькая, как ангелочек – отчего, ему и мысли нет. Да и ладно. Они мужики все такие…
Пелагея уж раз обманывала мужа. Давно это было, тогда, когда они с ним сошлись вдруг. В тот год такая любовь у них грянула, хоть святых выноси. Клавдея совсем лежала тогда уж, кроме головы с ней еще какая-то беда приключилась, сил лишилась враз и больше не встала. Только осталось в ней – злоба злобная, как кто зайдет в дом, так она прямо беленеет, чем есть швыряется, визжит, зубы скалит – просто щука живая. Ничего в дому не делала, только лежала, да злобилась, Ваня совсем высох. Ходил, как тень по селу, головы не поднимал, жизнь не мила ему была.
А тут, вишни собирали. Всем селом, сад у них вишневый огромный был, от края до края за час не пройдешь, вот они вишню и сдавали в скупку. Полюшка тогда в самой дальней стороне сада ягоды собирала, а он корзины принес. Руки ей протянул, она на толстой ветке ногами стояла, на землю снял, к себе прижал, ну и понеслось. Как та любовь их дотла не сожгла, Пелагея до сих пор не знала – не спали, не ели, сходили с ума. Ну и решила Поля Ванечку своего от семьи, ведьмы его страшной, увести.
Тогда конец августа был. Вечер теплый, ласковый, чуть ветерок с реки запах тины и свежести доносил, ветки черемухи до земли от черных ягод клонились – прямо рай. Они сидели на старой лавочке в зарослях, все оторваться друг от друга не могли, и тут Поля ляпнула:
– Вань. Вот ты со мной, как с женой живешь. Нехорошо это. Женится должен, а то стыдоба.
Иван отпрянул от нее, покраснел, аж заполыхал, губы скривил, вроде горькое что-то в рот попало.
– Полюшка. Милушка моя. Ты же знаешь, я говорил тебе. Пока Клава жива, я ее не брошу. Одна она, не на кого ей положиться. Помрет ведь, разве я душегуб?
– А люди на что? Они помогут, справятся. А я…
Поля помолчала, подумала и вдруг решилась, выпалила, как будто выплюнула
– А я дите жду. От тебя!
У Ивана лицо такое стало, будто она его кулаком вдарила. Он даже побелел, как полотно, враз, из красного. Вскочил, лицо руками трет, прямо страшно. Поля испугалась – ведь что наделала, зачем обманула!
– Коль дите ждешь – родишь. Я обеспечивать буду. Но Клавдею не брошу. Пока жива – со мной будет. Я перед Богом клялся, прости Поля.
Он тогда долго забыть ей тот обман не мог. Уж Клавдея померла, похоронили, а он все никак, не отойдет, хмурится. И только к весне, когда река таять начала, поймал ее у проруби, когда она белье полоскала, прижал к себе, в ухо зашептал.
– Переходи ко мне, Полюшка. Да не туда, к этим, в мой дом пойдем. Он сейчас закрытый стоит, так мы все наладим, лучше всех у нас будет. Заживем. И в церкви обвенчаемся, я батюшку спросил, сказал можно, только через год если. Пойдешь?
Сладкие воспоминания совсем Пелагее голову задурили. Она и не заметила, как Иван из сеней в дом зашел, серьезный, хмурый, смотрит сердито. Фуражку на колышек швырнул, пуговицу на вороте отстегнул, сел на табурет, руки на коленки упер, глянул в упор:
– Это правда?
– Что, Ванюша, родный?
– Что Гитка их нашу Нюрочку кормит…
Пелагея вспыхнула враз, как хворостина, глаза спрятала, что сказать не знает. Потом тихонечко, как мышка, пискнула:
– Да, Ванечка. А что делать-то? Коровы нет, у меня молоко сгорело, померла б девка…
– Там у них беда, слыхала? Муж Лалу всмерть избил, не знаю, выживет, нет. А Гитка в табор опять сбежала, у них дому-то нет, шлындрают. Так ты сходи, там она одна лежит, мужик тоже в табор пошел. А бабка ихняя– дура.
Иван встал, вышел на двор, с силой хлопнув дверями.
Пелагея не любила ходить к цыганам, хоть они и жили двор в двор, а окна из крайней комнатки их пятистенка выходили точно на старую цыганскую колымагу, брошенную, как попало под кленом. Там они и костры свои жгли и песни пели, Поля молодой любила подсматривать из окошка, да слушать, как поют. А ходила редко – да и муж не пускал. А тут…Как не пойдешь.
В цыганском дворе было пусто и пыльно. По иссохшей, натоптанной, как мостовая земле ветер гонял фантики дешевых конфет, топталась худая коняка и больше никого не было – как будто всех корова языком слизала.
Она почти бегом влетела в их сени, промчалась по длинному коридору в дальнюю спаленку, она знала, именно там жила Лала. Там она ее и нашла – всю в крови, на пропитанном кровью матрасе, она лежала откинув голову и оскалив зубы. Глаза у нее были прикрыты, но грудь дышала. Пелагея бросилась на колени, попыталась приподнять цыганку, но та пришла в себя, захрипела натужно.
– Польк, ты меня не тереби. Помираю. Да и Слава Богу – отмучилась, всю душу он мне вынул, гад. Завтра сюда Шанита, сестрица моя, своих приведет, они тут жить будут. А ты фельшера пойди, позови. Хотя, что мне фельшер…
Пелагея галопом понеслась по улице и, хоть больничка была уже закрыта, фельдшер сидел на месте, складывал какую-то марлю в квадратики. Выслушав сбивчивые крики, оседлал лошадь, кивнул Пелагее, чтобы домой шла и поскакал к цыганскому дому, поднимая клубы густой пыли к вечереющему небу.
Пелагея медленно шла по улице, и смотрела, как бледная тень месяца то прячется за высоченные березы, то снова из-за них выглядывает. Она как-то сразу и резко поняла – Лала умерла.