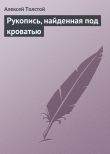Текст книги "Избранные произведения в двух томах(том второй)"
Автор книги: Ираклий Андроников
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 28 страниц)
Гуэльфи ходил, стоял, жестикулировал, совсем как те итальянцы, что теснились у входа. Но именно потому, что он был так раскован, это был совершенно достоверный герой времени Великой французской революции. Мне кажется, образ получался таким живым оттого, что из-за Жерара выглядывал краешек самого Гуэльфи. Так бывает, когда изображение наклеивается на паспарту и сразу становится живее, параднее, начинает казаться выпуклым. А кроме того – если подумать: ведь не мешает нам, когда мы читаем роман, следить за тем, как автор пересказывает мысли своих героев, тогда как никто не может знать этих мыслен, потому что герой никогда не высказывал их. И нам это не мешает, а помогает. Мы верим в эту условность, принимаем ее. Мало того: в романе едва ли не самое интересное не поступки героев, а то, что думает о них автор. Вот так же интересно было наблюдать, как из-за «кромки» Жерара выглядывал чуть-чуть сам Гуэльфи. Он был образом. И в то же время автором этого образа.
Во втором акте арию какой-то скорбной старухи исполнила молодая певица. Чудный голос, хорошо пела, в программке было указано, что это – дебют. И зал высоко оценил ее. Ее вызывали на «бис». И долгие ровные аплодисменты говорили о том, что ее сценическая судьба решена.
Счастье изображалось в ее глазах, она низко кланялась, улыбалась, стали забавными нарисованные морщины – они уже не могли соответствовать улыбкам и всему поведению ее молодого личика.
Гуэльфи стоял, подбоченясь, и очень довольный смотрел на ее поклоны, пока не решил, что пора двигать спектакль дальше. Тогда мягким и властным движением руки он выпроводил ее со сцены (это был благородный Жерар). И слегка потрепал по плечу: «Молодец, хорошо спела…» (И это был уже сам Гуэльфи.)
Трудно предположить, что и этому помогал режиссер. Не сомневаюсь, что живые итальянские позы, и жесты, и свобода, с какой он держался на сцене, были импровизацией, шли от собственной инициативы Гуэльфи. Но так достоверно выражал он XVIII век; потому, что где-то оставался итальянцем двадцатого. Ибо, играя, не реконструкцию создавал, а, скорей, ретроспекцию – взгляд из XX в конец позапрошлого века.
Но все это было, покуда шли сцены. Когда же дело дошло до арии, Гуэльфи вышел на авансцену, встал против дирижера и начал работу.
И вот совершенно так же, как скрипач, который прижимает к подбородку свой инструмент, и сливается с ним, и закрывает глаза, и тянется за смычком, и ставит лакированный туфель на «полуносок»… H мы понимаем, что он работает! И нам не мешают эти телодвижения, а помогают!…
Так же, как виолончелист кренится над своим инструментом, и выкусывает губы, и раскачивает головой, словно конь, везущий в гору тяжелую кладь, и весь уходит в звук, который еще не родился. И мы наблюдаем самый процесс рождения музыки, как бы соучаствуя в нем, и понимаем, что музыкант работает…
Вот так же работал этот певец!
Когда ему надо было опереть звук, он приподнимал плечи и чуть-чуть откидывался… И зал тоже откидывался.
Когда он исполнял распевные фразы, он и руками пел, «пассируя» ими. И зал следил за его руками и шевелился.
Когда ему предстояла высокая нота, он принимал позу, словно собирался выжимать тяжесть. А получалось легко. И зал вместе с ним с легкостью брал эту тяжесть и ликовал.
Когда же дело дошло до последней – мощной, «героической» ноты (кажется, это было верхнее ля-диез), что началось тут – того описать не можно!…
На всякую реакцию потребна хотя бы доля секунды! Не было здесь этой доли! Когда певец сомкнул губы, театр взорвался. И рухнул! Рухнул стеной аплодисментов, восторга, радости, благодарности, выкрикивая имя Гуэльфи. И гремел до того мига, когда палочка поднялась… И тут на оркестр, па сцену внезапно обрушилась тишина! Словно зал выключили, как выключают свет. Никаких аплодисментов, означающих: «Мы не хотим слушать ваших, подавайте нашего!» и «Вернись назад!», «Повтори!» – ничего этого не было! Все в тот же миг ушли в действие оперы. И могло показаться, что дирижер выполнил страстное желание зала.
Но когда перед последним актом дирижер поднял оркестр «на бенефис» и кинжальный прожектор выхватил его фигуру из темноты, ему выкрикивали из зала неудовольствия за то, что не давал «бисов».
Певица – Антониетта Стелла: золотоволосая, кареглазая, высокая, с тоненькой шеей, с тоненькой талией, плечеобразная, бюстообразная, необычайно подвижная, легкая. Исполняет трагическую роль, кажется, что на глазах слезы. II в то же время видно, как ей нравится петь! И что это не только спектакль, но и концерт. И не только концерт, но и блестящее состязание, от которого в выигрыше решительно все – и артисты и публика. И оттого, что мы видим на сцене мрачные своды тюрьмы, впечатление не меньше, а больше!… А голос какой у нее – сопрано! Но когда звучали низы, это было уже не сопрано, а какой-то сладостный вопль. И казалось, зал от наслаждения темнел, словно был плюшевый и его погладили слегка против ворса.
Не подумайте, что я хочу умалить искусство дель Монако. Он пел прекрасно и прекрасно играл. И выглядел авантажно: в белой рубашке, перепоясанной цветным шарфом, на каблуках… Но вот казалось, он заранее знает, как он споет и как сыграет Шенье. А эти?!
Впечатление было такое, что они и сами не знали, как все получается. Но знали, что будет прекрасно. Так бывает во сне. Еще не знаешь, что за музыка будет, а знаешь, что будет – согласная, самая нежная, именно та, которой ты никогда не слыхал, но мечтаешь услышать.
Да, трудно было поверить, что в этой импровизации участвовал режиссер. А он, разумеется, был.
Мне показалось, что миланская опера более «зарежиссирована», там все время видна рука постановщика.
Конечно, после того как «Ла Скала» приезжала в Москву, можно сказать, что мы видели и слышали итальянскую оперу. Но мне думается, что мы видели и слышали ее только наполовину. Мы видели и слышали, что происходит на сцене. Но не видели итальянской публики. А то, что происходит в зале, стоит того, что происходит на сцене. А все потому, что весь зал – это те же Гуэльфи, которым природа не дала его голоса. И воспринимают они Гуэльфи так, словно он сдает им экзамен. H это оценка особая – суждение знатоков, которые оценивают пение не только в целом («хорошо пел!»), а упиваются каждым звуком, каждым вокальным приемом своих любимцев.
«Так себе» оказалось совершенно хорошей оперой!… Да что говорить! Здорово было! Я вспомнил, как школьником после спектакля дожидался у артистического подъезда тбилисской оперы выхода знаменитых певцов, чтобы получше их рассмотреть… Но, сообразив свои лета и положение, медленным шагом воротился в гостиницу.
Наши ужинали.
Шкловский спросил:
– Ну как?
– Замечательно!
– Расскажи.
Я рассказал.
Шкловский загорелся, заволновался:
– Ты правильно сделал, что не послушал нас! Мы тебя неверно учили. Ты – счастливый. Ты догадался в Италии пойти в оперу. Если бы ты не пошел, тебя в Москве дети прогнали бы из дому. Правильно сделал. Сколько истратил?… Ай, ай! Много. Но нам не жаль твоих денег, потому что ты хорошо их истратил. Ты выиграл! И не бойся. Ты – не один. Нас много – будем брать кофе себе, возьмем и тебе чашку. И даже со сливками. А может, даже и с булочкой. Не огорчайся!
Я сказал:
– О каком огорчении ты говоришь? Я очень доволен.
– Ну, тогда и мы счастливы! Нарежем это счастье на порции и раздадим всем, потому что у нас ничего не вышло. Мы папу не видели. Он ездит быстро, и мы его пропустили, а потом не поняли, что толпа будет ждать его возвращения, и продолжали стоять. Было холодно, и мы чихаем. Ты счастливее нас.
Другие с ним согласились.
А потом об этом забыли. Действительно – важная вещь: один из десятерых был в театре! И больше речи об этом не возникало до самого дня отъезда.
Но когда наши чемоданы лежали уже в вестибюле и автобус стоял у подъезда, чтобы отвезти нас на аэродром, появился представитель фирмы, которого мы, кажется, ни разу не видели. Он сказал, что дирекция поручила ему передать нам пожелание счастливого путешествия и взять обещание: если мы снова соберемся в Италию, контактироваться только с их фирмой. И ни с какой другой.
– Ваш визит вызвал широкий отклик. Многие газеты поместили сегодня статьи о том, что следует укреплять эти контакты. Пишут о ваших докладах. Очень интересны были дискуссии за круглым столом. Дирекция приглашает вас приехать на более долгий срок… Нет ли у вас претензий?
Претензий не было.
Он простился, вышел в стеклянную вертящуюся дверь, вернулся в вестибюль и сказал:
– Я совершенно забыл. Мне говорили, что синьор Андроников посетил спектакль римской оперы и приобрел билет за пять с половиной тысяч лир. Фирма желает сохранить с вами добрые отношения и поручила мне вернуть ему эту сумму.
Все оживились:
– А нам?!… Он сказал:
– Спектакль в Милане, который вы рассчитывали посетить, прошел раньше, чем вы приехали. Фирма не считает себя ответственной за то, что вы не попали в Милан. Что же касается синьора Андроникова, он слушал оперу, будучи гостем Италии…
И он вручил мне деньги, которые истратить было уже невозможно: через двадцать минут мы должны были подняться на борт самолета. И все же я был очень доволен и смеюсь до сих пор, когда вспоминаю эту историю. Видно, законы античной поэтики объективны: добродетель вознаграждается! Ну, а кроме того, я понял уже окончательно, навсегда:
ЕСЛИ ЛЮБИШЬ МУЗЫКУ, ТО ЛЮБИ!
1962-1973
ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ ИСПОЛНЕНИЙ
Я не слышал живого Шаляпина. Да теперь уж и мало таких, кто бывал на его спектаклях, слышал его в концертах,– это уже глубокие старики. Всем остальным доступны только пластинки – десять дисков записи 1901– 1936 годов.
Когда этот комплект впервые готовился к выпуску, фирма «Мелодия» попросила меня предпослать этим записям небольшую заметку. И я слушал их все подряд – девять часов. Впечатление останется навсегда. Сравнивать его не с чем: это целый огромный мир великих страстей, гениальнейших озарений, глубочайших проникновении в суть музыки, каждой фразы ее, каждого оборота, каждого слова, образа. Сменяются в звучании пароды, эпохи, языки, судьбы, характеры. Но все, что ни воплощает в своем пении Шаляпин, обладает поистине шекспировской силой, все крупно, мощно, лепится смело, создано на весь мир, на века.
И, слушая, поражаясь, думаешь неотступно: чем объяснить, что теперь, когда уже мало вокруг современников, которым посчастливилось слышать и видеть Шаляпина, творения его не уходят в историю, не становятся достоянием немногих?! Слава растет. И все, что обнимает собой имя Шаляпина в пении, продолжает оставаться живым фактом искусства и явлением в своем совершенстве непостижимым. Ничто не устарело в его исполнении, ничто не требует исторической коррекции, снисхождения ко вкусам времени, которое его выдвинуло, ни объяснений, что техника ныне ушла далеко вперед. Нет! Все современно и все совершенно в его искусстве, поистине легендарном, ибо оно являет собою высочайшее слияние в одном лице талантов певца, музыканта, актера.
Слышу несогласную реплику:
– Об искусстве Шаляпина-певца, Шаляпина-музыканта и по пластинкам можно судить. Но актерское искусство (если не считать кинофильма о Дон-Кихоте, к тому же, как говорят, не составляющем высшего достижения Шаляпина) – актерское искусство ушло!
Да, то, что выражалось в спектаклях, в сценическом воплощении, ушло. Но Шаляпин создает и в пении характеры – в романсах и в ариях, не говоря уже о целых сценах из опер, в которых мы «слышим», как он играет, пропевая слово за словом, сотворяя могучие образы.
И хочется сразу отвергнуть распространенное мнение, будто главный секрет шаляпинского воздействия – в небывалой мощи и красоте его певучего баса. Это не совсем верно. И мировая и русская сцена знали голоса куда более мощные, чем шаляпинский. Немало было очень красивых басов. Но не было в мире голоса, который был бы наделен таким разнообразием тембров и красок. Вспоминается, что написал певец С. Ю. Левик, неоднократно выступавший в спектаклях вместе с Шаляпиным. Мощь шаляпинского голоса была не природной, а следствием его умения распределить свет и тени… (Иначе говоря – менять и разнообразить тембры.) Чисто физиологически голос Шаляпина не был феноменом, по как художественный феномен этот голос неповторим.
Только потому, что свой голос Шаляпин подчинил себе до пределов возможного, он звучал у него и мощнее, и звучнее, и шире, чем у других певцов с сильными голосами. И воспринимался как голос небывалый, неповторимый, единственный.
Школа? Да, много говорили о школе, которую он прошел в Тифлисе у своего первого и, по существу, единственного учителя Д. А. Усатова. Однако и это не может вполне объяснить вокального совершенства Шаляпина, ибо он усвоил все лучшее из того, что ему приходилось слышать, – усвоил элементы всех школ, – растворил их в «горниле своего пения» до такой степени, что они даже и не угадывались в его исполнении.
Но разве он мог бы достигнуть этого, если бы не был наделен даром гениального музыканта? Дар этот заключался в умении передавать не текст музыкальный, а заложенное внутри пего содержание. Вот почему Шаляпин говаривал, что «ноты – это простая запись» и что «нужно их сделать музыкой, как хотел композитор».
И он делал их музыкой! Готовясь к выступлению в опере «Демон», на генеральной репетиции он обратился к стоявшему за пультом Альтани с просьбой разрешить ему продирижировать всю свою партию. Альтани протянул ему палочку, и Шаляпин запел, показывая оркестру, чего он от него хочет. Когда он дошел до кульминации в заключительной арии, оркестранты пришли в столь великий восторг, что сыграли Шаляпину туш.
Замечательный дирижер Фриц Штидри, возглавлявший в 1930-х годах оркестр филармонии в Ленинграде, говорил, что плохой дирижер показывает то, что обозначено в партитуре, а хороший – то, что ему дает партитура на его свободное художническое усмотрение. Шаляпин широко пользовался этими заложенными в партитуре возможностями. Мне кажется, что оп даже не может быть назван в обычном смысле исполнителем вокальной партии потому, что каждый раз – в большей или меньшей степени – был сотворцом композитора.
И тут правомерно сопоставить его с такими художниками, как великий пианист Феруччо Бузони, который привносил свои представления в трактовку Баха, Моцарта, Бетховена, Листа, Шопена. Или со скрипачом Эженом Изаи. Или с пианистом Леопольдом Годовским. Музыковед Л. Н. Лебединский как-то сравнил граммофонную запись одной из сцен «Бориса Годунова» в исполнении Шаляпина с партитурою Мусоргского. И выяснил, что Шаляпин весьма далеко отошел от прямой передачи музыкального текста.
Об этом же рассказывал драматургу А. К. Гладкову В. Э. Мейерхольд. Шаляпину в сцене «бреда», вспоминал он, «было нужно время для замечательной актерской импровизации: он тут целый кусок играл без пения,– а музыки не хватало. Тогда он попросил повторить в этом месте так называемую музыку «курантов». Те, кто слышал и видел его в этой роли, должны признать, что получилось замечательно. Я не думаю,– продолжал Мейерхольд,– что сам Мусоргский стал бы с этим спорить. Но, разумеется, и тут нашлись знатоки партитуры, которые были возмущены…
Как-то я слушал по радио «Бориса» и поймал в сцене «бреда» те же «куранты». Значит, это стало традицией. Вот так бывает всегда. Сначала ты самоуправный новатор, а потом – убеленный сединами основатель традиции».
И действительно, многие шаляпинские открытия стали такими же каноническими, как листовские или бузониевские транскрипции музыкальной литературы. Это вовсе не значит, что каждый певец или пианист может вторгаться в авторский текст. Разумеется, нет! На это может пойти только гениально одаренный художник, завоевавший творческое право па это!
Известный советский виолончелист – профессор Виктор Львович Кубацкий – вспоминал, как в 1920 году во время сценических репетиций в Большом театре, чуть выдавалась свободная от пения минута, Шаляпин выходил на авансцену и, прикрывая ладонью глаза от острого света рампы, вслушивался в игру виолончельной группы. Будучи концертмейстером группы, Кубацкий предположил, что Шаляпин недоволен звучанием, и задал ему этот вопрос.
– Нет,– отвечал Шаляпин.– У виолончелей я учусь петь.
Такое сказать мог музыкант вдохновенный. Сам Шаляпин был глубоко убежден, что вся сила его пения заключена в точности интонации, в верной окраске слова и фразы. И вспоминал, как ощутил он это впервые, когда в молодые годы разучивал партию Мельника. Он работал упорно, а образ получался ненатуральным. Недовольный собой, он обратился к знаменитому трагику Мамонту Дальскому. Дальский велел не петь, а прочесть ему по книге пушкинский текст. И когда Шаляпин прочел – с точками, запятыми, передыханиями, – Дальский обратил внимание на интонацию.
– Ты говоришь тоном мелкого лавочника,– заметил он, обращаясь к Шаляпину,– а Мельник – степенный мужик, собственник мельницы и угодьев.
«Как иголкой, насквозь прокололо меня замечание Дальского,– вспоминает Шаляпин.– Я сразу понял всю фальшь моей интонации, покраснел от стыда, но в то же время обрадовался тому, что Дальский сказал слово, созвучное моему смутному настроению. Интонация, окраска слова – вот оно что! Значит… в правильности интонации, в окраске слова и фразы – вся сила нения».
И много раз в воспоминаниях своих Шаляпин говорит об интонации как о способе проникновения в существо роли, в никем до него не раскрытые глубины романсов и песен. «Я нашел их единственную интонацию»,– пишет он о романсах и песнях Мусоргского. «Интонация одной фразы, правильно взятая, превратила ехидную змею… в свирепого тигра»,– вспоминает он другой случай, когда Мамонтов на репетиции «Псковитянки» подсказал, чего недостает ему в характере Грозного. «Холодно и протокольно звучит самая эффектная ария,– пишет Шаляпин далее,– если в ней не разработана интонация фразы, если звук не окрашен необходимыми оттенками переживаний».
И надо сказать, что чуткие музыканты, слушавшие Шаляпина, всегда отмечали значение интонационного мастерства в общем впечатлении от его гениальных спектаклей. И еще отмечали глубокий внутренний ритм. «Мне всегда казалось,-писал композитор Б. В. Асафьев,-что источники шаляпинского ритма, как и его глубоко реалистического интонационного пения, коренятся в ритмике и образности русской народной речи, которой он владел в совершенстве».
Кажется, и в этом не было разноречия у тех, кто воспринимал искусство Шаляпина как синтез «голосового дара», интонации, ритма, слова, сценической пластики. Наиболее чуткие отмечали при этом удивительное проникновение Шаляпина в строй русского языка, шаляпинское произношение, чувство слова, присущее ему органически. «Фокус Шаляпина – в слове,– утверждал К. С. Станиславский.– Шаляпин умел петь на согласных… Мне пришлось много разговаривать с Шаляпиным в Америке. Он утверждал, что можно выделить любое слово из фразы, не теряя при этом необходимых ритмических ударений в пении… Не обладая силой звука, например, баса В. Р. Петрова, он производил несравненно большее впечатление благодаря звучности фразы».
Действительно, вокалистам известно, что Шаляпин окрашивает слога, «сжимает» и «растягивает» их, не нарушая ни словесной, ни музыкальной структуры. И мало кто из русских актеров так понимал стих, как Шаляпин. Вот он поет пушкинского «Пророка» с несколько холодноватой музыкой Римского-Корсакова и потрясает. Потрясает проникновением в библейский строй пушкинской речи, в торжественность и образность пушкинского стиха.
В чем объяснение этого удивительного воздействия?
Видимо, прежде всего в ощущении соразмерности всех элементов, важности главного слова, в умении донести рифму, окрасить в передаче каждый звук, каждый слог.
Духовной жаждою томим…-
начинает Шаляпин тихо, выделяя во всех словах полногласное «о», алчно скандируя «жаждою» и с подчеркнутой отчетливостью произнося оба «м» (томидмм»)…
В пустыне мрачной я влачился…
Долгое «ы», открытое, властное «а» – «мрачный», «влачился», в котором последнее «я» переходит в «а» («яааа влаачилсаа…»),-и действие обозначено сразу. И сразу окрашено сильно и ярко. Торжественно, мрачно, таинственно изображается это блуждание, томление… Но вот музыка подводит к словам:
И шестикрылый серафим…
И «шестикрылый» – слово длинное у Пушкина и Римского-Корсакова – Шаляпин еще более удлиняет выпеванием гласных, особенно обоих «ы» – «шестикрылый», после чего «серафим» звучит легко, бесплотно, воздушно. Шаляпин убирает голосовые краски, придает слову невесомость, как бы ощущая парение и разлет крыл явившегося ему серафима и предваряя слова «на перепутье» и «явился».
Поиски судьбы на этом жизненном перекрестке, повествование, в котором заключены переливы и блеск чистых красок,– все ощущаете вы в этой первой строфе «Пророка», торжественной и приуготовляющей вас к таким дальнейшим откровениям певца, как «прозябанье», «содроганье», «вырвал», «внемли» и «виждь».
Непостижимый, прекрасный Пушкин, фрески Рублева и древнее сказанье, непостижимое богатство русского языка, русский голос, русская традиция, русская интонация, сопряжение времен – библейского, декабристского-пушкинского, и строгого Римского-Корсакова, и Шаляпина, и нашего времени, пророк-пророк, пророк-поэт, и поэтическое слово-пророк, слово – полководец человечьей силы, и место человека среди людей, и певец, совместивший все эти скрещения лучей,– как сноп света сквозь окна купола низвергаются эти ассоциации, пока звучит этот могучий, спокойный, устрашающий, властный и гордый голос, постигший таинство поэтической речи и музыки, которая кажется теперь уже раскаленной.
Это слияние музыки с пластикой слова Шаляпин умел передать не только на русском, но и на других языках. Исполняя в Милане партию Мефистофеля в опере Бойто по-итальянски, он поразил миланскую публику не только пением, не только игрой, но и своим итальянским произношением, которое великий певец Анджело Мазини назвал произношением «дантовским». «Удивительное явление в артисте,– писал Мазини в редакцию одной из петербургских газет,– для которого итальянский язык – не родной», Во Франции пресса неоднократно отмечала тонкое владение Шаляпиным речью французской. Но и тогда, когда Шаляпин пел за границей по-русски, он потрясал самую искушенную публику.
В 1908 году Париж готовился впервые увидеть «Бориса». На генеральной репетиции, на которую были приглашены все замечательные люди французской столицы, Шаляпин пел в пиджаке – костюмы оказались нераспакованными. Исполняя сцену «бреда», после слов «Что это? Там!… В углу… Колышется!…» – он услышал вдруг страшный шум и, косо взглянув в зал, увидел, что публика поднялась с мест, а иные даже встали на стулья, чтобы посмотреть, что там такое – в углу? Не зная языка, публика угадала, что Шаляпин увидел там что-то страшное…
«Сальвини!» – кричали Шаляпину в Милане после успеха в опере Бойто, сравнивая его с одним из величайших трагических актеров XIX столетия.
Потрясающее впечатление от игры Шаляпина многим внушало мысль, что он и на драматической сцене был бы так же гениален, как и на оперной. Но когда Шаляпину предлагали сыграть Макбета в драме, он отвечал:
«Страшно!» Видимо, потому, что в драматическом театре был бы лишен тех компонентов в создании сценических образов, какими были для него неповторимый голос, выпевание слов, музыка, ритм. И, тем не менее, даже и величайшие знатоки были уверены, что для Шаляпина драматическая сцена открыта. Только очень немногие продолжали считать, что «его игра – это его пение». Но уж зато от величайших театральных авторитетов до слушателей самых неискушенных, весь мир твердо знает, что никогда еще не рождался артист, столь совершенно и гениально соединивший в себе три искусства. Утверждая, что синтеза в искусстве, особенно театральном, очень редко кто достигал, Константин Сергеевич Станиславский признался: «Я бы мог назвать одного Шаляпина…»
Слушаешь – и кажется, что время в комнате измеряется по каким-то другим законам: мало или много прошло часов – неизвестно. Из века в век следуешь за Шаляпиным, из страны в страну, из одной национальной культуры в другую. Его диапазон необъятен. Образы трагические и комические, характеры трогательные и устрашающие, благородные и коварные, лукавые и полные страсти, разгульные и степенные, величественные и трусливые, ехидные, страдающие, полные сочного юмора и неземной тоски. Борис и Варлаам. Досифей и князь Галицкий. Сусанин и Еромка. Мельник и хан Кончак. Олоферн и Фарлаф. Алеко и Сальери. Иван Грозный и Пимен. Демон и Мефистофель. Филипп и Лепорелло. Дон Базилио и Дон-Кихот.
И каждая роль – результат строжайшего беспощаднейшего отбора. Это роли, в которых, как первым отметил музыковед М. Янковский, господствует шекспировское начало, ибо почти каждая представляет собою но только неповторимо оригинальную партию, но и материал для высоких созданий сценического искусства. Их не много – ролей. Но в каждой из них открывается новая грань гениального дарования Шаляпина, каждая составляет событие принципиальное в истории мирового оперного театра. «Это все не театральные маски, а человеческие жизни, воскрешаемые на каждом спектакле русским великим артистом»,– записал в своих воспоминаниях Б. В. Асафьев.
Когда же Шаляпин поет «Ночной смотр», «Двух гренадеров», «Старого капрала», «Блоху», «Элегию» Масне или «Сомнение» Глинки, русские и украинские песни, к образам, созданным им на оперной сцене, прибавляется целая галерея новых, которые рождались в концертах без партнеров, без костюмов, без грима, без помощи декораций и театрального занавеса, одною лишь силою пения, силою слова и той игры, которая заключена в слове и в пении и которая потрясала слушателей Шаляпина нисколько не меньше, нежели его спектакли. Чем достигнуто это?
Глубочайшим перевоплощением, позволявшим ему вживаться в эпоху, в стиль автора, в образ. Каждая спетая Шаляпиным песня, каждый романс – это целая драма, в которой открываются и время, и люди, и судьбы. Слушая «Ночной смотр» Глинки, слышишь и романтическое повествование о Наполеоне, встающем из гроба «в двенадцать часов по ночам», и судьбы его солдат, которых он увлек в свое падение, и чеканные строки романтической баллады Жуковского, и гениальную музыку Глинки, и разнообразие каждой строфы – нарастание и спад этой великой исторической драмы, заключенной в ограниченные пределы вокально-драматического повествования.
А затем «Вдоль по Питерской» – и нет конца разудалому веселью, меры таланту народному, мощи и шири народной русской души. Поет Шаляпин, вкладывая в каждый куплет песни опыты своей жизни, скитания по волжским пристаням, ночевки в ямских слободах, знание народной жизни, хмельное праздничное веселье, всю удаль, весь размет жарких чувств, и перед мысленным взором встают картины России. В голосе шаляпинском, в лукавых, озорных, грозных интонациях герой этой песни вырастает до богатырских размеров. И понимаешь, что каждый раз Шаляпин сам охвачен восторгом перед этой непокоримой мощью или сам потрясен трагедией – двух гренадеров, старого капрала, смущен таинственным явлением шубертовского «Двойника». Так же потрясает его трагедия Бориса, Мельника, трагедия Дон-Кихота в опере, которую специально для него в 1910 году написал французский композитор Жюль Масне.
Гений русский, художник глубоко национальный, Шаляпин обладает чертой, возвышающей людей искусства именно русского; оставаясь русским, он умеет тончайшим образом постигать дух и характер других пародов. Недаром, воплотив лучшие образы в русских операх, он стремился создать на оперной сцене героев греческой трагедии, героев Шекспира. Мечтал сыграть короля Лира, Эдипа.
Когда заходит речь о Шаляпине, все, кто слышал его самого, стараются угадать главное, что сообщало особую силу его пению, игре, его сценическим образам. Вспоминают при этом декламационное искусство его, жест, и преображавшую его лицо мимику, и благородную фигуру, умение двигаться, и каждый раз – бесподобный грим. Все это было, но не только даром природы, а творением искусства великого и взыскательнейшего отношения решительно ко всему, что входило в создание образа. И тут Шаляпину прежде всего помогал режиссерский талант, помогало ясное ощущение, чего он хочет добиться, и одаренность в искусствах пластических. Он рисовал – отлично схватывал сходство, набрасывал автошаржи, эскизы гримов, костюмов своих! Видел себя как бы со стороны. Лепил. Впитывал в себя советы художников – Серова, Коровина, Врубеля…
От Врубеля – внешний облик Демона в опере Рубинштейна. Шаляпин сам говорил об этом. Готовясь воплотить образ Годунова на сцене, он беседовал с историком Ключевским, переселялся в воображении своем в XVII век. Из книг Шаляпина становится совершенно ясно; необыкновенных результатов своих он добивался в неустанных поисках совершенства, всегда стремясь дойти до глубины, до великого обобщения и стремясь при этом остаться предельно конкретным. Так, готовясь к выступлению в роли Дон Базилио в «Севильском цирюльнике», он потребовал от дирекции императорских театров, чтобы купили осла. Шаляпину хотелось, чтобы прежде, чем этот
сплетник выйдет на сцену, публика увидела бы его сквозь окна гостиной доктора Бартоло. Дон Базилио верхом на осле, груженном корзинами со всяческой снедью, едет с базара, тащит базарные сплетни! В воображении Шаляпина образ клеветника разрастался… Однако,– как это часто случалось, – осуществлению шаляпинского замысла помешали чиновники. Дирекция ответила, что у нее нет средств на содержание осла! И все же благодаря настойчивости, безапелляционным и резким требованиям, которые театральные ремесленники и рутинеры трактовали как необоснованные капризы и грубости, Шаляпин сумел из своих замыслов осуществить очень многое.
В истории мирового театра Шаляпин – явление уникальное не только в силу своего новаторского таланта и той реформы, которую он произвел. Он занимает в искусстве свое, особое место, это артист музыкальной драмы в высшем его выражении, до него неизвестном и не превзойденном до настоящего времени. Творчество Шаляпина – одно из самых могучих выражений русского реализма. Этому направлению он служил вдохновенно и верил в его неисчерпаемые возможности. «Никак не могу вообразить и признать возможным, – писал Шаляпин, – чтобы в театральном искусстве могла когда-нибудь одряхлеть та бессмертная традиция, которая в фокусе сцены ставит живую личность актера, душу человека и богоподобное слово».
Человек, вышедший из самых глубин народных, Шаляпин дошел до вершин мировой славы. Не учившийся в молодые годы по бедности, он только благодаря своему жадному интересу к жизни и знаниям создал шедевры, вошедшие в историю русской и мировой культуры, и означил собою в искусстве эпоху. «Ты в русском искусстве музыки первый, как в искусстве слова первый Толстой»,– писал ему Горький. И продолжал: «В русском искусстве Шаляпин – эпоха, как Пушкин». «Федор Иванов Шаляпин,– утверждал Горький в другом письме, заступаясь за честь Шаляпина,– всегда будет тем, что он есть: ослепительно ярким и радостным криком на весь мир: вот она Русь, вот каков ее народ-дорогу ему, свободу ему!» И называл Шаляпина лицом символическим.