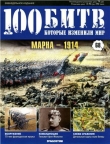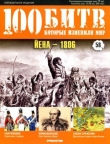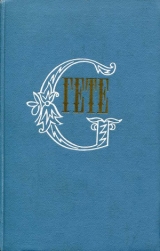
Текст книги "Кампания во Франции 1792 года"
Автор книги: Иоганн Вольфганг фон Гёте
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц)
Лагерь не разбивали, но наши раскинули большой шатер, выложив его снаружи и изнутри великолепными пшеничными снопами, – таков был наш ночлег. Луна ярко светила при полном безветрии, на небе, чуть различимые, скользили легкие облака. Все кругом было видно, почти как днем. И спящие люди, и кони, которым мешал уснуть неуталенный голод, – среди них много белых, мощно отражавших белизну лунного света, – а также белые кожухи экипажей и белые же снопы, предназначенные для ночлега – все сообщало свет и радость этой упоительной сцене. Уверен, что даже истинно великий художник был бы счастлив точно воссоздать умиротворенность этой картины.
Лишь очень поздно я вошел под сень большого шатра в надежде забыться глубоким сном. Но природа наряду с лучшими своими дарами создает и несноснейшие. Я отношу к самым подлым преступлениям против человечности привычку человека, чем глубже он погружается в сон, тем беспощаднее не давать уснуть своему ближнему богомерзким храпом. Мы лежали голова к голове, я внутри шатра, он снаружи, испуская ужасные стоны, отбивающие всякую надежду обрести вожделенный покой. Желая взглянуть на виновника моей бессонницы, я отстегнул петлю от колышка. То был один из слуг нашего герцога, славный услужливый парень. Ярко освещенный луной, он спал крепчайшим сном, не уступавшим сну божественного Эндимиона. Невозможность заснуть рядом с таким соседом толкнула меня на коварный поступок: вооружившись пшеничным колосом, я пощекотал им лоб и нос спящего. Его глубокий сон тотчас прервался, он несколько раз провел по лицу ладонью. Но стоило ему снова заснуть, как я вновь повторял свою проделку, а он и не подумал, откуда мог взяться слепень в такое время года. Своего я, однако, добился: стряхнув с себя сон, он поднялся со своего ложа. Но и у меня пропала охота уснуть. Я вышел из шатра и залюбовался мало изменившейся дивной картиной бесконечного покоя. В такие мгновения страх и надежда, печаль и успокоение сменяют друг друга с быстротою вспышек молнии. И опять меня объял страх: стоило только подумать, что враг нападет на нас в эту самую минуту и тогда отсюда и впрямь не унесешь ни спицы от колеса, ни ноги, ни руки человеческой.
Занявшийся день вновь рассеял мои тревоги. Да и было на что посмотреть: две старухи-маркитантки, накинув на себя множество пестрых шелковых платьев, повязав ими бедра, груди, а самым верхним – шею и сверх всего набросив еще и короткую мантильку, гордо расхаживали вокруг в таком смехотворном убранстве, уверяя, что раздобыли свой маскарад путем честной купли и честного обмена.
30 сентября.
Тронулся в путь наш обоз, едва забрезжило утро, но одолели мы за день лишь весьма мизерное пространство, так как устроили первый привал уже в девять часов – между Лавалем и Варжмулетом. Люди и животные в равной мере нуждались в восстановлении своих сил, лагеря не разбивали. Подоспевшая армия расположилась на пригорке. Всюду царили тишина и порядок, и только принятые меры предосторожности заставляли думать, что еще не все опасности остались позади. Разведку строго соблюдали, опрашивали встречных жителей и готовились в путь-дорогу.
1 октября.
Герцог Веймарский и на этот раз командовал авангардом, тем самым прикрывая с тылу отход нашего обоза. В эту ночь царили покой и порядок, и в столь благостной тишине утихали людские треволнения. И все же сняться с места было приказано в полночь, а значит, наш маршрут не считался вполне безопасным: внушали опасения разъезды противника, которым ничто не мешало спускаться с Аргоннских гор. Ведь если наше командование и пришло к соглашению с Дюмурье, – а полной уверенности не было и в этом, – то не так-то точно исполнялись тогда во французской армии приказания свыше, тем более отрядами, действовавшими в горах и лесах. Таковые вполне могли объявить себя полноправным войском и на свой страх и риск попытаться нас изничтожить, – никто не посмел бы их осудить за это.
Но и сегодняшний переход был все так же краток. Полководцы радели не только о том, чтобы обоз и армия всегда держались вместе, но также и о том, чтобы пруссаки и параллельно, по левую руку от них, отступавшие австрийцы и эмигранты никогда бы друг друга не опережали.
Первый привал был сделан уже в восемь часов утра, как только мы оставили позади Рувруа. Наспех раскинуты нами были только несколько палаток. День выдался чудесный, и никто нас не обеспокоил.
Не скрою, что в самый разгар этих невеселых дней я связал себя шутливым обетом: коль скоро мы спасемся и я вновь водворюсь в своем доме, никто от меня не услышит жалобы на то, что крыша соседнего дома частично скрывает широкий вид из моего окна, напротив, эта-то островерхая крыша и будет мне всего милее; далее: никогда я не стану жаловаться на скуку и потерю времени в немецком театре, где ты – господу хвала! – как-никак сидишь под спасительной крышей, чтобы там ни вытворяли на подмостках. Связал я себя еще и третьим обетом, но каким именно, право, не могу припомнить.
Довольно с нас и того, что каждый мог позаботиться о себе самом, что конь и карета, лошадь и конюх не отставали от своих подразделений и что, где бы ни делали мы привала или располагались лагерем, нас всегда ожидали накрытые столы, а также скамьи и стулья. Правда, харчи, что и говорить, не ахти какие, но с этим приходилось мириться при общей недостаче съестных товаров.
Впрочем, однажды мне выпал случай присоседиться и к более богатому пиршеству. Стемнело рано, и каждый поспешал отыскать свое логово. Уснул и я, но вскоре меня разбудило поразительно явственное сновидение: мне представилось, будто я слышу запах каких-то лакомых яств и даже уже вкушаю от них. Очнувшись от сна, я чуть приподнялся: вся палатка была наполнена дивным ароматом жареного и тушеного свиного сала, и это до крайности возбуждало мой аппетит. На лоне природы человеку простительно почитать свинопаса божественным, а ядреную свинину чуть ли не царственным блюдом. Я встал и в отдалении увидел разожженный костер. На мое счастье, он горел с наветренной стороны, почему меня и достиг тот благовонный запах. Не долго думая, я прямиком пошел «на огонек». Оказалось, что вокруг костра собрались все наши слуги. Костер догорал, но спина свиной туши была уже поджарена, а остальное разрезано и приготовлено для начинки. Все усердно трудились, набивая колбасы. Неподалеку лежали толстые бревна. На них я и уселся, поприветствовав честную компанию, и стал с интересом наблюдать за их стряпнею. Ребята ко мне благоволили, да и неудобно было бы, не накормив, отпустить голодным нежданного гостя. Словом, когда дошло до дележа, мне преподнесли здоровенный кусок жаркого, да и хлебом меня не обделили и глоточком водки, словом, всем, чем положено.
К тому же мне протянули нескупо отмеренный кус колбасы, когда мы среди ночи садились на коней; я сунул его в седельную кобуру. Так благодатно сказалось на мне дыхание ночи с наветренной стороны.
2 октября.
Подкрепившись едой и питьем, я малость утихомирил свою совесть ходячими доводами морали; но в взбаламученной душе по-прежнему чередовались надежда и забота, стыд и недовольство собою. Все мы, конечно, радовались, что покуда еще оставались в живых, но тем дружнее проклинали жизнь в таких условиях. Выступив в два часа пополуночи, мы опасливо прошли мимо леса близ местечка Во, где еще так недавно стояли лагерем, и вскоре достигли реки Эн, через которую были перекинуты два моста; по ним мы и перешли на правый берег реки и там остановились на поросшей ивняком песчаной отмели между двумя мостами, отчетливо видными отсюда. Костер весело трещал, самая нежная чечевица, какую мне довелось когда-либо есть, и красноватый длинный и замечательно вкусный картофель были скоро приготовлены, а когда нас сверх того попотчевали еще и поджаренной ветчиной, каковую добыли австрийские ездовые, но по сей день об этом помалкивали, мы и впрямь восстановили свои силы.
Обоз с его телегами и экипажами нас значительно опередил. Но тут нам вскоре открылось зрелище, столь же величавое, сколь и печальное: армия переходила через реку, пехота и артиллерия по тем двум мостам, а кавалерия вброд. У всех мрачные лица, губы, горестно сжатые, чтобы не выдать всего пережитого. Когда подходили полки, в рядах которых предполагались друзья и знакомые, мы спешили им навстречу, обнимались, заговаривали с ними. Но сколько душевной скорби в этих расспросах, сколько щемящего стыда, сколько с трудом сдерживаемых рыданий!
Однако нас отчасти утешало то, что мы, подобно маркитантам, могли потчевать великих и малых мира сего. Поначалу нам служил столом барабан сторожевой заставы, но потом солдаты понатаскали из разоренных деревень столы и стулья для себя и гостей в заботе о скромном удобстве. А гости были разные! Кронпринц и принц Луи отведали нашей чечевицы; да и не один генерал, заметив издали заманчивый дымок, приезжал к нам, надеясь подкрепиться. Но как ни значительны были наши припасы, много ли народу накормишь за один присест? Готовили во второй и в третий раз, отчего наши резервы заметно истощились.
Наш герцог делился всем, чем только мог, да и слуги его были добрыми людьми. Трудно сосчитать, сколько несчастных, сколько одиноких, больных пришельцев прикармливали его камерьер и повар.
И так каждый день! Отход наших войск предстал передо мной не как отвлеченное подобие, не как притча, а в своей непреложной реальности. Каждый новый мундир умножал и бередил сердечные раны. Финал трагедии достойно завершал ужасное целое. К мосту подъехал король со своим штабом, чуть задержался у моста, словно желая еще раз обозреть и обдумать происшедшее, и быстро проследовал тем же путем, что и его войско. У другого моста показался герцог Брауншвейгский и тоже как бы заколебался, но тут же пришпорил коня и крупной рысью выехал по мосту на правый берег.
Настала ночь, ветреная и сухая; мы провели ее на пустынной отмели, почти не сомкнув глаз.
3 октября.
Утром в шесть часов мы тронулись в путь и, перевалив через холм, направились в Гранпре, где застали нашу армию на биваках. Новые беды – новые заботы! Дворец превращен в лазарет, в нем лежало несколько сотен несчастных. Но мы не имели возможности ни помочь им, ни даже их накормить. Скрепя сердце обошли Гранпре, предоставив больных и раненых милосердию противника.
Дорогой вновь обрушился на нас свирепый ливень, сковав каждый шаг, каждый поворот колеса.
4 октября.
Сниматься с места день ото дня становилось труднее. Чтобы не погрязнуть в рытвинах дороги, мы рискнули пролагать себе путь через пахотные поля; почва здесь красноватого цвета и еще более вязкая, чем белесая меловая, – ни пройти, ни проехать. Четырем лошадкам было невмоготу везти мой легкий шез; пришлось облегчить его хотя бы на вес моей персоны. Верховые лошади опять куда-то запропастились. Но, к счастью, меня нагнала наша большая кухонная фура, влекомая шестью дюжими тяжеловозами. В нее я и забрался. Внутри лежал кой-какой провиант, а в углу притулилась насупившаяся страдалица-судомойка. Я вынул из сундука третий том «Физического лексикона» Фишера и углубился в чтение. В таких обстоятельствах, где каждый миг грозит новой задержкой, нет лучшего спутника, как такой вот словарь, где, на какой странице ты его ни откроешь, он всегда увлечет тебя полезными сведениями.
В силу вынужденных обстоятельств мы по оплошности подались на эти чуть не сплошь заболоченные пахотные поля, отливавшие зловещим багрянцем; на топкой почве может выбиться из сил и самая мощная шестерка ломовых коней. В моей диковинной колымаге я сам себе казался пародией на фараона в Чермном море, – ведь и вокруг меня погружались конные и пешие в жидкую грязь все того же чермного, то бишь мутно-багрового, цвета. С тоскою всматриваясь в окрестные холмы, я обнаружил наконец наших верховых лошадей и среди них предназначенную мне белую лошадь. Голосом и энергичными жестами я побудил коноводов привести моего коня. Но прежде, чем сесть на него, я поручил попечению несчастной и, видимо, больной судомойки третий том моего «Фишера», внушив ей сугубо внимательное обращение с этой книгой. Выбравшись из фуры, я дал себе слово не ездить до лучших времен в экипажах. Теперь я мог двигаться хотя бы самостоятельно, но нельзя сказать, чтобы лучше или быстрее.
Гранпре, о котором все отзывались как об очаге чумы и смерти, мы оставили позади без сожаления. Несколько друзей-товарищей по походу сошлись на привале вокруг костра, каждый держа под уздцы свою лошадь. По их утверждению, то был единственный раз, когда лицо мое оставалось угрюмым и я не подбадривал их серьезным словом и не веселил забавною шуткой.
4 октября.
Маршрут, которого придерживалась теперь наша армия, вел на Бюзанси, где чуть выше Дена нам предстояла переправа через Маас. Лагерем мы расположились близ Сиври, в чьей окрестности еще не было все съедено. Солдаты с ходу набросились на первые же встретившиеся им огороды и изничтожили многое, чем могли бы еще поживиться другие. Я посоветовал повару и его помощникам впредь осуществлять фуражировку, так сказать, стратегически. Обойдя всю деревню, мы обнаружили ряд почти нетронутых огородов: капуста, лук, огурцы, а также другие овощи и всевозможные коренья имелись здесь в изобилии – год был на редкость урожайный. Мы вели себя скромно и уважительно, ничего лишнего не забирали и не губили. Огород был невелик, но ухожен. Выбрались мы из него, шагнувши через низкую ограду, – калитки не было; но не это меня удивило, а то, что я так и не обнаружил двери, соединяющей приусадебный овощник с домом хозяина. На обратном пути, отягощенные богатой кухонной добычей, мы услышали великий шум со стороны стоянки нашего полка. Как выяснилось, пропала вместе с привязью лошадь, реквизированная дней двадцать тому назад в здешних местах. Пропажу вменили в вину ездившему на ней кавалеристу, требуя под угрозой наказания, чтобы он всенепременно отыскал ее.
Так как командование решило продлить наше здешнее пребывание вплоть до пятого октября включительно, нас разместили в самом Сиври. После всех перенесенных невзгод нас радовал предвидимый домашний уют и возможность внимательно понаблюдать простонародно-французские и гомеровски-идиллические обычаи и нравы местных поселян, а заодно и их бытовой уклад. В дом французских крестьян входишь не прямо с улицы, а пройдя небольшие четырехугольные и к тому же открытые сени, так как по правую руку от входящего никакой стены не имеется. Ширина этих сеней равна поперечнику двустворчатой двери, выходящей на улицу. Только через вторую, доподлинно входную дверь попадаешь в высокую просторную комнату, где в основном протекает жизнь крестьянского семейства. Пол ее вымощен кирпичом: слева у длинной стены – вмурованный в пол очаг, а над ним – вытяжная труба, встроенная в каменную стену. Поздоровавшись с хозяином и его семьей, мы с удовольствием подсели к их тесному кругу. За стол садятся, соблюдая раз и навсегда установленный порядок. Справа у огня высокий ящичек с откидной крышкой, служащей также и сиденьем, а под крышкой – запасы соли, нуждающейся в сухом хранении. Это – почетное место, и его тотчас же предложили самому почетному гостю. Прочие гости уселись на деревянные стулья вперемешку с хозяевами. Первый раз наблюдая кулинарное искусство французских поселянок, я узнаю, что такое их pot au feu: на крюке, который можно поднимать и опускать благодаря имеющимся на нем зазубринам, подвешен большой медный котел. В нем как раз варился добрый кусок мяса, и не просто в воде с солью, а с брюквой, морковью, пореем, капустой и прочей зеленью и кореньями.
За разговорами с милыми людьми мне впервые открылось, с какою архитектонической мудростью здесь размещены и подсобный столик для стряпни, и водосток, и полки с горшками и мисками; полки прибиты к стене продолговатого закута, непосредственно граничившего с открытыми сенями. Утварь расставлена на них красиво и удобно. Все изящно прибрано рукою служанки или золовки. Хозяйка сидит у очага, а у ее колен стоит сынишка, и две дочурки льнут к нежной маменьке. Стол накрыт, на него поставлен большой глиняный горшок; прекрасный белый хлеб нарезан ровными ломтиками; их бросают в горшок и заливают горячей похлебкой. Остается только пожелать друг другу доброго аппетита. Мальчики, презревшие наш солдатский черный хлеб, здесь имели бы случай показать мне, что такое bon pain и bonne soupe. Вслед за тем было подано мясо с подоспевшей овощной приправой, – кому не придется по вкусу эта простая, но отличная кухня?
Мы участливо расспрашивали хозяев, как им живется. Немало понатерпевшиеся от постоев в начале кампании, когда мы так долго стояли под Лондром, они после краткого облегчения теперь опасаются, что отступающий неприятель вконец разорит и погубит их. Мы утешали их, чем могли, говорили, что мы – последние, не считая арьергарда, и что конец невзгодам уже близок. И тут же давали им советы, как им поступать с отставшими вояками. А ураганный ветер и беспощадный дождь почти не прекращались. Почти весь день проводя под крышей, мы с горечью вспоминали прошедшее и не возлагали особых надежд на будущее. После Гранпре я не видел ни своего шеза, ни слуги, ни сундука. Проблески надежд и новые заботы мгновенно сменяли друг друга. Настала ночь и с нею час, когда детям полагается отходить ко сну. Дети пришли проститься с отцом и с матерью, целовали им руку и с примерной благовоспитанностью лепетали: «Bon soir, papa! Bon soir, mama!» [4]4
Спокойной ночи, папа! Спокойной ночи, мама! (франц.)
[Закрыть]Чуть позднее мы узнали, что опасно заболел принц Брауншвейгский. Мы осведомились о его здоровье и в ответ услышали, что он чувствует себя значительно лучше и завтра непременно тронется в путь вместе с нами. Но посещения больного были признаны врачами нежелательными.
Только мы спаслись у хозяев от возобновившегося ливня, как в дом вошел человек, которого мы – по разительному сходству – тотчас признали младшим братом хозяина. Так оно, конечно, и оказалось. Он вошел в комнату, красивый и стройный, в одежде местного поселянина и с крепким посохом в руке. Сидя у огня с суровым выражением лица, он не проронил ни единого слова, недовольный, если не гневный. Чуть пообсохши, он зашагал взад-вперед со старшим братом, а потом удалился с ним в соседнюю комнату. Разговор их был оживлен, но негромок. Брат ушел из дома под проливным дождем, и никто его не удерживал.
Но и нас заставили выйти в эту бурную ночь отчаянные крики о помощи. Дело в том, что наши солдаты под предлогом поисков припрятанного фуража начали мародерствовать, и притом наиглупейшим образом: отобрали у ткача орудия его ремесла – вещи, вовсе им ненадобные. Строгостью и разумным словом нам удалось пресечь это бесчинство, тем более что большинство солдат не примкнуло к злостным грабителям. Но дурной пример заразителен, и мог начаться такой бедлам, что сразу и не управишься.
Тут подошел к нам веймарский гусар, мясник по ремеслу, и доверительно сообщил мне, что обнаружил в одном крестьянском дворе откормленную свинью, долго рядился с хозяином, но так и не мог с ним договориться, мы-де должны его поддержать, иначе через несколько дней нам есть будет нечего. Странное дело! Только что мы пресекли грабеж, а теперь нас приглашают принять участие в сходном деянии. Но что поделаешь, голод не признает законов; мы пошли с гусаром к указанному дому, там тоже горел очаг. Вошли, поздоровались с хозяевами и подсели к ним. Тут к нам присоединился еще один гусар из веймарских, Лизёр по фамилии, ловкий малый, которому мы и поручили вести переговоры, благо он бегло говорил по-французски. Лизёр превозносил до небес добродетели регулярной армии, воздавал должное господам, приобретающим съестные припасы за наличные деньги, и, напротив, всячески хулил бродяг, обозников и маркитантов, с шумом врывающихся в дома и силком обирающих всех до последней нитки. А посему он и дает им благой совет: хорошенько обдумать его предложение; тем более что деньги легче спрятать, чем животину, а что о свинье все равно прознают эти выродки – уж будьте спокойны. Однако надо сказать, что красноречие Лизёра должного впечатления не произвело, переговоры же наши были внезапно прерваны по следующей трагикомической причине.
В дверь, прочно запертую, громко застучали. Никто не шелохнулся, впустить новых гостей ни у кого не было охоты. Но стук становился все настойчивее, и женский голос на добром немецком языке молил о помощи все жалостливей и надрывнее. Мы не выдержали и дверь приотворили. И тут же пулей влетела в комнату старая маркитантка, держа на руках нечто завернутое в тряпки; а за нею вошла молодая особа, пожалуй, даже собой недурненькая, но бледная, обессилевшая, едва державшаяся на ногах. Старуха в кратких, но избыточно смачных словах объяснила суть дела, то и дело предъявляя в их подтверждение голого младенца, каковым разрешилась молодая во время бегства. Из-за родов отстав от армии, обе они под градом насмешек грубых мужланов добрались наконец до этого жилья. У родильницы пропало молоко, у бедного ребенка от самого рождения не было во рту ни маковой росинки. Не тратя лишних слов, старуха властно потребовала муки, молока, кастрюлю, а там и холст, чтобы запеленать младенчика. По-французски она не знала, и потому мы предъявили все эти требования как бы от ее имени, властность же и порывистость старухи придавала нашим речам немало пантомимического веса: требуемое, на ее взгляд, подавали недостаточно живо, а подаваемое было не должного качества. Стоило поглядеть на то, как быстро и споро она всем распоряжалась. Бесцеремонно оттеснив нас от камина, она предоставила лучшее место родильнице, сама же широко расселась на скамье, словно одна была жилицей этого дома; в одну минуту искупала и спеленала младенца, сварила кашу, накормила новорожденного и его мать, сама довольствуясь одними поскребками, потом потребовала одежду для молодой особы, чье промокшее платьице сохло над очагом. Мы дивились ее энергии: вот как надо производить реквизиции.
Дождь поутих, и мы поспешили вернуться восвояси, куда вскорости проследовали и оба гусара с обретенной хавроньей, – уплачено было за нее изрядно, оставалось только забить ее. Так и поступили. А поскольку в смежной комнате оказался крюк, прочно ввинченный в опорную балку, то ее освежеванная туша на нем и повисла. Предстояло только разделать ее и перейти к готовке по всем правилам поварского искусства.
Меня несколько удивило, что хозяева не выражали никакого недовольства нашим поведением, а, напротив, деятельно старались помочь нам, тогда как, казалось бы, имели все основания осудить нас за нарушение их ночного покоя. Ведь в комнате, где теперь священнодействовал мясник со своим причтом, лежали их детки в своих чистеньких постельках и, разбуженные незнакомыми голосами, тишком поглядывали из-под одеял на все, что тут происходило. Свинья висела возле большой двуспальной постели, целомудренно занавешенной зеленым саржем, каковой служил живописным фоном для более ярко освещенной туши, – ночная сцена, не имеющая себе равных. Но, повторяю, хозяева и не думали осуждать нас; скорее, можно было заметить, что они не слишком расположены к дому, откуда мы извлекли откормленную животину; пожалуй, – так казалось, – они даже злорадствовали по случаю незадачи соседа. Правда, мы благодушно заранее им обещали поделиться с ними и мясом и колбасами, что немало помогло мяснику-гусару справиться со своей задачей, – ведь времени до утренних сборов оставалось в обрез. Но наш гусар был не менее скор и расторопен по своей части, чем повстречавшаяся нам старуха-маркитантка по своей, и мы уже предвкушали свиное жаркое и отменные колбасы, которые будут нам выделены. В ожидании предстоявших благ мы улеглись в хозяйской кузне и проспали до утренних сумерек на мягких пшеничных снопах. Тем временем гусар закончил свою работу, завтрак был приготовлен, а остальное увязано с выделом хозяевам обещанной доли; последнее – к вящему недовольству гусар. «С этим народом нечего миндальничать, – сказали они. – У них наверняка припрятано и мясо, и другие припасы, только мы плохо их искали».
Осмотревшись в одной из комнат позади той, где находился очаг, я обнаружил накрепко запертую дверь, которая, судя по ее местоположению в доме, должна была вести в огород. Взглянувши в маленькое оконце рядом с дверью, я убедился, что не ошибся: огород, расположенный на пригорке, был тот самый, в котором мы обогатились овощами и зеленью. Дверь снаружи была забита досками и так умело замаскирована, что ее и впрямь было нелегко обнаружить со двора. Но так уж, видно, было предрешено небесами, что мы, несмотря на всю осмотрительность хозяев, все-таки очутились в их доме.
6 октября, утром.
В такой обстановке не жди ни минуты покоя и не будь уверен, что за час твоего отсутствия ничего не изменится. Едва рассвело, все в местечке пришло в волнение: всплыла вчерашняя история с пропавшей лошадью. Кавалерист, который должен был либо разыскать свою лошадь, либо же, подвергнувшись наказанию, впредь идти пешком за своей частью, носился в отчаянии и страхе по окрестным деревням, где его, лишь бы самим избавиться от напасти, уверяли, что лошадь наверняка припрятана где-нибудь в Сиври, где столько-то дней тому назад и впрямь реквизировали вороного коня, такого, как он описывал. Оказавшись снова в Сиври, он, конечно же, убежал к себе в стойло; это звучало вполне правдоподобно. Сюда, в Сиври, кавалерист и направился в сопровождении унтер-офицера, человека сурового, но готового выручить своего солдата. Угрожая расправой всему местечку, он добился-таки разгадки приключившегося: конь и вправду бежал в Сиври, к прежнему своему хозяину. Радость встречи хозяина и всей семьи со старым их помощником и почти домочадцем была поистине неописуема. Вместе с хозяевами торжествовали и соседи. Коня хитроумно подняли на чердак и завалили сеном. Никто об этом не проболтался. И вот теперь, под стоны и вопли свидетелей, его извлекли из надежного укрытия. Печаль овладела всей общиной, когда всадник, вскочив в седло, поскакал вслед за вахмистром. В этот миг никто не помнил о собственных горестях и о судьбах Франции, по-прежнему безотрадных. Сбежавшуюся толпу только и волновала участь коня и бывшего его владельца, вторично обреченного на горькую разлуку. Все сочувствовали ему и его питомцу.
Но вот вспыхнула нежданная надежда. Подъехал кронпринц Прусский и спросил, что означает это скопище народа. Владельцы лошади, всей семьей, молили прусского престолонаследника вернуть им общего любимца. Но что он мог поделать? Законы войны могущественнее королей. Кронпринц уехал, оставив просителей в безутешном горе.
Дома мы еще и еще раз обсуждали с хозяевами, как следует поступать с одинокими отставшими солдатами, – мародерство принимало все большие размеры. Совет мой был таков: кто бы ни открывал двери, будь то хозяин или хозяйка, подмастерье или служанка, нужно стоять в сенях и разве что вынести солдатам кусок хлеба или рюмку с глотком вина, но решительно пресекать даже попытки проникнуть внутрь. Бродяги в солдатских шинелях не станут брать приступом крестьянский двор, но справиться с вторгшимся мародером не так-то просто. Добрые люди дружно просили нас подольше постоять у них. Но полк герцога Веймарского уже ушел вперед, а с ним и кронпринц, – достаточная причина и нам сняться с места.
В благоразумности такого решения мы вскоре убедились, приставши к нашей колонне. Тут мы узнали, что как только авангард французских принцев миновал пресловутый перевал Лишен-Популье и реку Эн, эмигранты подверглись нападению вооруженных крестьян между Большими и Малыми Армуазами. Лошадь под одним офицером-эмигрантом была убита, а другая пуля пробила шляпу одного из слуг полкового командира. Тут я вспомнил, что прошедшею ночью, когда вошел в наше пристанище младший брат хозяина, суровый и озлобленный малый, во мне шевельнулось предчувствие таких нежелательных сюрпризов.
Того же 6 октября.
Из самых опасных тисков мы, так или иначе, вырвались, но наш отход и теперь оставался тягостным и чреватым всякими бедами. Особенно обременял нас не в меру разросшийся обоз. И то сказать, мы везли с собой, помимо кухонной утвари, еще полную меблировку – столы, стулья, скамьи, сундуки, ящички и даже несколько жестяных печей. А между тем с каждым днем лошадей становилось все меньше; одни пали, другие вконец обессилели. Ничего не оставалось, как бросать одну телегу, чтобы сохранить остальные. Широко обсуждалось – что изо всего нам наименее необходимо? Выбор пал на телегу, доверху груженную всякой всячиной, лишь бы не жертвовать полезнейшим. Это мероприятие повторялось не однажды, и наш обоз заметно поубавился. Но, с величайшим трудом продвигаясь по низким, заболоченным берегам Мааса, мы вновь и вновь подвергали наш обоз подобным редукциям.
Что меня тогда особенно удручало и угнетало, так это то, что я уже несколько дней не видел своей кареты. Оставалось предположить, что мой слуга, обычно такой находчивый, утратив старых лошадей, не мог раздобыть им замену. Горестное воображение уже убеждало меня, что легкая карета, немало носившая меня по свету, бесценный подарок государя, увязла в грязи и валяется где-нибудь на обочине и я на своем коне и впрямь «все свое несу с собою». Чемодан с платьем, со всеми рукописями и прочими дорогими в силу привычки вещами казались мне уж навечно утраченными, рассеянными по белу свету.
Что сталось с деньгами и важными документами в моем бумажнике, а также с разными сувенирами, которые берешь с собой, разлучаясь с родными и близкими? Все эти утраты я представил себе с поразительной отчетливостью и в мельчайших подробностях; но уже мой дух поспешил извлечь меня из этой бездны воображаемых бедствий. Доверие к моему слуге пересилило все мои сомнения. Все, что я считал навек утраченным, вообразилось мне сохраненным благодаря его заботливому попечению, и я радовался вновь обретенному, точно видел его уже своими глазами.
7 октября.
Мы с трудом продвигались левым берегом Мааса, вверх по его течению, навстречу месту, где должна была состояться наша переправа и откуда рукой подать до мощеной дороги. Но только мы дошли до заливного луга, от дождей вконец заболоченного, как возвестили, что нас нагоняет герцог Брауншвейгский. Мы остановились, чтобы почтительнейше его поприветствовать. Остановился и он на близком от нас расстоянии и сказал мне: «Я, конечно, весьма огорчен, что вижу вас в столь неавантажном положении, но, смею признаться, все же радуюсь этому в том смысле, что вы, как человек разумный и пользующийся общим доверием, сможете засвидетельствовать, что мы побеждены не врагом, а стихией».