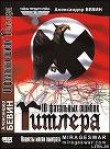Текст книги "Адольф Гитлер (Том 2)"
Автор книги: Иоахим Фест
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 30 страниц)
Феномен Гитлера следует рассматривать на этом идеологическом фоне. Иногда он даже производит впечатление вульгарного искусственного продукта всех этих взглядов, реакций и комплексов, впечатление комбинации мифологического и рационального мышления в крайнем радикализме социально отчуждённого интеллектуала. В его речах появлялись почти все известные риторические фигуры аполитичного аффекта: ненависть к партиям, к компромиссному характеру «системы», отсутствие у неё «величия»; он всегда рассматривал политику как понятие, близкое к понятию судьбы, т. е. нечто само по себе пассивное и потому нуждающееся в освобождении сильной личностью, через искусство или с помощью некоей высшей силы, обозначаемой как «провидение». В одном из своих главных выступлении периода захвата власти, прозвучавшем 21-го марта по случаю Дня Потсдама, он так сформулировал связь между политическим бессилием, мечтами как эрзацем силы и избавлением через искусство:
«Немец, рассорившийся сам с собой, непоследовательный в мыслях, с расщеплённой волей и потому бессильный в действии, теряет силу в утверждении собственной жизни. Он мечтает о праве на звёздах и теряет почву под ногами на земле… В конечном итоге немцам всегда оставался только путь внутрь себя. Будучи народом певцов, поэтов и мыслителей, немцы мечтали тогда о мире, в котором жили другие, и только когда нужда и лишения наносили этому народу бесчеловечную травму, тогда, может быть, на почве искусства произросло желание нового подъёма, нового царства, а значит и новой жизни».[370]370
Domarus M. Op. cit. S. 226 f.
[Закрыть]
Он считал себя именно такой фигурой спасителя, раз уж он в своё время расстался с мечтами об искусстве. В контексте духовной традиции он, несомненно, ощущал большую близость к «великому герою искусства», о котором писал Лангбен, чем, например, к Бисмарку, которым он, судя по разным его высказываниям, восхищался не столько как политиком, сколько как эстетическим феноменом великого человека[371]371
См. примечание 392 к кн. второй (т. 1).
[Закрыть]. Для Гитлера политика тоже означала прежде всего средство достичь величия, ни с чем не сравнимый шанс компенсации недостаточного художественного таланта в грандиозной замещающей роли. Все, чем он располагал как политик, он выучил или усвоил как временную роль; что касается его импульсивных озарений, то тут он был полностью в плену мистического, эстетического, чуждого действительности, т. е. аполитичного мышления. Он проливал слезы над произведениями искусства, свидетелем чего стал один из его современников[372]372
Свидетельство Карла Герделера согласно стенограмме, сделанной Рихардом Брайтингом, см.: Calic Op. cit. S. 171; затем: Hoffmann H. Op. cit. S. 188.
[Закрыть], но «humanities»[373]373
Гуманитарные науки – Англ.
[Закрыть] были ему, по словам его окружения, безразличны. Убедительное доказательство тому – неофициальные документы его жизни, ранние выступления, а также застольные беседы в его штаб-квартире. Возможно, что редко какая-либо похвала доставила ему большее удовольствие, чем замечание X. Ст. Чемберлена в письме от октября 1923 года, где он был назван «противоположностью политики»; Чемберлен добавлял: «Идеалом политики было бы отсутствие всякой политики; но эту не-политику, следует признать откровенно, пришлось бы навязывать миру»[374]374
См.: IUustrierter Beobachter, 1926, Nr. 2, S. 6.
[Закрыть]. В этом смысле у Гитлера действительно не было политики, её место занимала великая суггестивная идея судьбы, и осуществление этой идеи он с максимальным упорством сделал целью своей жизни.
Вальтер Беньямин назвал фашизм «эстетизацией политики», и фашизм захватил немцев – народ, чьё понимание политики всегда было пронизано эстетикой, – с особой стремительностью. Одна из причин крушения Веймарской республики заключалась в том, что, не понимая психологии немцев, она не видела в политике ничего, кроме политики.
Только Гитлер путём беспрерывного затуманивания сути дела, театральных эффектов, экстаза и сутолоки вокруг создания нового идолопоклонства вернул общественным делам издавна привычный образ. Их самым выразительным символом стали «огненные соборы» – стены из волшебства и света, отделяющие от мрачного, угрожающего внешнего мира. Даже если немцы и не разделяли голод Гитлера по пространству, его антисемитизм, присущие ему черты вульгарности и грубости, они поддержали его и пошли за ним, потому что он снова привнёс в политику мощное звучание темы судьбы, смешанное с элементом страха и трепета.
В соответствии с идеологией аполитичного «государства красоты» Гитлер не отделял своих представлений художника от представлений политика, а свой режим охотно восхвалял как наконец-то состоявшееся примирение искусства с политикой[375]375
Speer A. Op. cit. S. 134.
[Закрыть]. Он считал, что идёт по стопам Перикла, и любил проводить соответствующие параллели; по свидетельству Альберта Шпеера автобаны были для него его Парфеноном[376]376
Из записки Шпеера для автора; об отклонении кандидатур Гесса и Гиммлера в качестве преемников см.: Speer A. Op. cit. S. 152.
[Закрыть]. Совершенно всерьёз он заявлял, что «как люди, которым недоступно наслаждение искусством», ни рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, ни Рудольф Гесс по сути своей не способны стать в будущем его преемниками. Зато Шпеер сумел забраться так высоко и иногда даже считался предрешённым преемником фюрера не в последнюю очередь потому, что по мнению Гитлера был «человеком, понимающим искусство», «артистом», «гением». Характерно, что в начале войны Гитлер освободил от военной службы людей искусства, но не учёных и техников. Даже когда ему демонстрировали новый вид оружия, он редко не обращал внимания на его эстетическое оформление и мог, например, похвалить «элегантность» орудийного ствола. Вне искусства для него не было ничего, и даже полководец, говаривал он, может одерживать победы, только будучи человеком с художественным вкусом[377]377
Ziegler H. S. Op. cit. S. 75; Speer A. Op. cit. S. 249. Научно-технические работники были освобождены от воинской службы в 1942 году по инициативе Шпеера; проблему освобождения от воинской повинности творческих работников Гитлер решил, как сообщил автору Шпеер, приказав взять их дела из управлений военно-призывных районов и тут же уничтожить.
[Закрыть]. Поэтому после победы над Францией он предпочёл посетить Париж не как завоеватель, а скорее как любитель музеев. По этим же причинам он довольно рано, а со временем все раздражительнее стал тосковать по прошлым годам: «Я стал политиком поневоле», – так или почти так говорил он снова и снова, «политика для меня – только средство для достижения цели. Есть люди, думающие, что мне станет очень трудно, если я когда-нибудь прекращу свою теперешнюю деятельность. Нет! Это будет самый прекрасный день моей жизни, если я уйду из политической жизни и оставлю далеко позади все заботы, муки и неприятности… Войны приходят и проходят. Остаются только культурные ценности». Ханс Франк видел в таких настроениях даже тенденцию эпохи, заключающуюся в том, чтобы «снова изгнать все, что связано с государствами, войной, политикой и т. д., и суметь поставить над этим высокий идеал творения искусства»[378]378
Frank H. Friedrich Nietzsche, цит. по: Klessmann Ch. Op. cit. S. 256, Hitlers Tischgespraeche, S. 167 f.; Speer A. Op. cit. S. 38.
[Закрыть]. Примечательно в этой связи, что в национал-социалистической верхушке была непропорционально высока доля людей, не сумевших стать людьми искусства, не состоявшихся в творчестве. Сюда кроме самого Гитлера можно отнести Дитриха Эккарта; Геббельс безуспешно пытался писать романы, Розенберг начинал как архитектор, фон Ширах и Ханс Франк пописывали когда-то стихи, а Функ был музыкантом. Сюда же относится и Шпеер с его тягой к аполитичной изоляции, а также вообще тот тип интеллигента, мыслящего одновременно расплывчато и непреклонно, который, испытывая эстетскую слабость к государственным переворотам, сопровождал и поощрял подъем национал-социализма.
Искажение понятия действительности у социально отчуждённых интеллектуалов позже наложило отпечаток и на весь мир идей Гитлера. Многие современники констатировали его склонность во время разговора забираться «в высшие сферы», из которых его снова и снова приходилось «стаскивать на почву фактов», как писал один из них[379]379
Таково одно из высказываний Шляйхера, см.: Conze W. Zum Sturz Bruenings. In: VJHfZ, 1953, H. 2, S. 261 ff. Hitlers Tischgespraeche, S. 167 f.; Speer A. Op. cit. S. 38.
[Закрыть]. Примечательно, что Гитлер любил предаваться своим смутным размышлениям в Оберзальцберге или же в «Орлином гнезде», которое он приказал соорудить выше «Бергхофа» на Кельштайне, на высоте 2 тыс. метров. Здесь, в разреженном воздухе, в роковых декорациях окружающих скал, он обдумывал свои проекты и, как он однажды заметил, принимал все свои важнейшие решения[380]380
См.: Hillgruber A. Hitlers Strategic S. 216.
[Закрыть]. Но фантастические мечты о гигантской империи вплоть до Урала, геополитические замыслы в масштабах великих пространств и передела миров, генетические видения массового истребления целых народов и рас, грёзы о сверхчеловеке и фантасмагории на тему чистоты крови и святого Грааля, да и, наконец, вся эта задуманная в масштабах континента система шоссейных дорог, военных сооружений и укреплённых поселений – все это, по сути, отнюдь не было «немецким», а брало своё начало из близких или очень отдалённых источников. Немецкой тут была только интеллектуальная, непомерная логика и последовательность, с которой он в мыслях складывал эту мозаику, и немецким же был несгибаемый ригоризм, не отступающий ни перед какими последствиями. Жёсткость Гитлера была связана несомненно с предпосылками, заложенными в его чудовищном характере; в его радикальности тоже всегда присутствовал элемент экстремизма и бесшабашности маргинала. Но помимо прочего она демонстрировала ту аполитичную, враждебную действительности позицию по отношению к миру, которая принадлежит к духовным традициям страны. В точке схода немецкой истории он находится не из-за своих расистских концепций или экспансионистских целей, но как один из тех интеллектуалов, которые будучи исполнены веры в теории, высокомерно подчиняли реальность собственным категорическим принципам. От ему подобных Гитлера отличала способность занять политическую позицию: он был исключением, интеллектуалом с практическим пониманием власти. В текстах его предшественников, вплоть до массовой макулатуры, вышедшей из-под пера «фелькише», нетрудно найти постулаты и порадикальней, чем у Гитлера. И в немецкой, и в европейской культуре есть гораздо более яркие свидетельства страха перед настоящим и эстетствующего отрицания действительности. Так, Маринетти жаждал избавления от «подлой действительности» и в Манифесте 1920 года потребовал предоставить «всю власть людям искусства» (так брошюра и называлась), ибо власть должна принадлежать «широко понимаемому пролетариату гениев». Но и эти, и им подобные выступления только упоённо кокетничают бессилием интеллектуалов и наслаждаются им. Характерно, что Маринетти свои заклинания против действительности обращал к «мстящему морю»[381]381
Цит. по: Joll J. Three Intellectuals in Politics, P. 135, 174.
[Закрыть]. Здесь Гитлер опять-таки был исключением – в силу своей готовности принимать собственные интеллектуальные фикции за чистую монету и только что не питаться фразами, рождёнными вековой экзальтацией мысли.
Тут он был единственным в своём роде. Если тиран Писистрат захватил афинян врасплох на пиру, то о Гитлере и немцах этого не скажешь. Как и все остальные, они могли бы быть настороже, так как Гитлер многократно излагал свои намерения открыто, без всякой интеллектуальной сдержанности. Но традиционное разделение придуманной и социальной реальности уже давно создало представление о том, что слова не стоят ничего, а его слова казались и вовсе дешёвкой. Только этим можно объяснить ту сугубо неверную оценку Гитлера, которая одновременно была и неверной оценкой этого времени. Рудольф Брайтшайд, председатель фракции СДПГ в рейхстаге, окончивший свои дни в концентрационном лагере Бухенвальд, радостно зааплодировал, узнав о назначении Гитлера рейхсканцлером, и сказал, что наконец-то Гитлер сам себя погубит. Другие, произведя предварительные расчёты, полагали, что Гитлер всегда будет в меньшинстве и ни за что не получит большинства в две трети, необходимого для изменения конституции. Юлиус Лебер, другой ведущий социал-демократ, снисходительно заметил, что подобно всем остальным хотел бы, наконец, что-либо «узнать о духовной базе этого движения».[382]382
Как заявляет Герхард Риттер, большинству немцев мысль о том, что они оказались в руках бессовестного авантюриста, показалась бы «прямо-таки гротескной». См.: Ritter G. Carl Goerdeler, S. 109. Мнение Рудольфа Брайтшайда передаёт Фабиан фон Шлабрендорф: Schlabrendorff F. V. Offiziere gegen Hitler, S. 12; об отсутствии духовной базы Юлиус Лебер писал в одной из своих дневниковых записей, см.: Leber J. Ein Mann geht seinen Weg. Berlin, 1952, S. 123 f. Многие социал-демократы втайне надеялись, что Гитлер очень быстро начнёт конфликтовать с Папеном и Гинденбургом, так что они смогут появиться на сцене в качестве радующегося третьего «и тут-то мы и сведём с ними счёты, не то что в 1918 году», – пригрозил бывший статс-секретарь Пруссии Абегг в беседе с графом Кеслером, как говорится в «Дневниках» последнего, см.: Kessler H. Tagebuecher, S. 708.
[Закрыть]
Кажется, никто не понимал, кем Гитлер был на самом деле. Только географическая отдалённость сделала кое-кого проницательней. Правда, ожидаемых санкций заграницы не последовало – столицы, не меньше самой Германии попавшие в сеть ослепления, надежд на укрощение и слабость, готовились к соглашениям и пактам будущих лет. И всё же отдельные тревожные предчувствия высказывались, хотя и в них проскальзывала странная зачарованность. Так, немецкий наблюдатель в Париже отмечал, что французы испытывают «такое чувство, словно в непосредственной близости от них началось извержение вулкана, которое в любой день может опустошить их поля и города и за малейшими движениями которого они следят поэтому с изумлением и страхом. Явление природы, перед которым они почти бессильны. Германия ныне – снова международная звезда первой величины, притягивающая к себе внимание масс в каждой газете, в каждом кинотеатре и вызывающая страх и непонимание, смешанные с невольным восхищением, не лишённым, однако, доли злорадства; великая трагическая, жуткая, опасная страна-авантюрист».[383]383
Kessler H., Graf, Op. cit. S. 684 f.
[Закрыть]
Почти ни одна из идей, под знаком которых страна пустилась в свою авантюру, не принадлежала ей одной; но немецкой была та бесчеловечная серьёзность, с которой она отринула своё существование в области воображения. Описанные здесь тенденции и аффекты, усиленные уже нестерпимой напряжённостью между многовековой революционной мыслью и статичностью общественных отношений, придали этому выступлению небывалый вес и экстремистский характер запоздалой реакции: немецкий гром, наконец, достиг цели. В его раскатах потонула отчаянная попытка отрицания реальности под знаком ретроспективной утопии.
Однако отрицание действительности во имя радикально идеализированных представлений довольно трудно подавить; оно имеет дело со стихией фантазии и дерзостью мысли. Политическая проблематика тут налицо. Но тем, что такое он был, немецкий дух не в последнюю очередь обязан своей позицией отказа от реальности, и вопреки бытующему мнению, не все его развитие тупо ведёт только к Освенциму.
Книга пятая
Захват власти
Глава I
Легальная революция
Это не было победой, ибо отсутствовали противники.
Освальд Шпенглер, 1933 г.
Первые шаги. – Перед генералами. – Преемственность целей. – Концепция захвата власти. – Первые чрезвычайные распоряжения. – И опять предвыборная борьба. – Перед предпринимателями. – Пожар рейхстага. – Основной закон «третьего рейха». – Выборы 5 марта. – Революция, устроенная СА. – «Национальное восстание». – День Потсдама. – Закон о чрезвычайных полномочиях. – Самоотречение Гинденбурга. – Революция на открытой сцене. – Бесславные закаты. – Внутреннее расставание с Веймарской республикой.
В ходе продолжавшегося всего лишь несколько месяцев бурного процесса Гитлер не только завоевал власть, но и добился осуществления части своих далеко идущих революционных планов. Комментарии, касающиеся его прихода к власти, носили сплошь пренебрежительный характер: Гитлера если и не называли «пленником» Гугенберга – по своеобразному совпадению такие иллюзии разделял целый спектр сил – от центра до СДПГ и коммунистов, то оценивали его шансы невысоко, полагая, что продержится он недолго[384]384
«Пусть перебесится» – сказал фон Нойрат, который сам был членом кабинета Гитлера; см.: Rauschning Н. Gespraeche, S. 141.
[Закрыть]. Однако все скептические прогнозы, которые предрекали крушение Гитлера в силу мощи консервативных партнёров по коалиции, Гинденбурга и рейхсвера, сопротивления масс, в особенности левых партий и профсоюзов, многочисленности и тяжести экономических проблем, вмешательства заграницы или же, наконец, его собственного, ставшего очевидным дилетантства – все они были опровергнуты впечатляющим процессом захвата власти, который вряд ли имеет себе аналог в истории. Да, ход событий отнюдь не был так тонко рассчитан в деталях, как это порой представляется в исторической ретроспективе, но тем не менее каждый момент Гитлер имел перед глазами одну цель: взять всю власть в свои руки до ожидавшейся смерти восьмидесятипятилетнего президента страны, и он знал, какая тактика необходима для этого: модифицированная страхом и чувством неуверенности практика легальных действий, которую он так успешно опробовал в предшествующие годы. Средством ему служил атакующий динамизм, который удар за ударом прорывал одну за другой позиции противника, не давая возможности обескураженным силам последнего, пытавшимся оказать сопротивление, сформироваться; в то время как ему на руку играли случайности, появлявшиеся возможности и всякий раз краешек плаща Провидения, орудием которого он себя провозглашал, и этот уголок плаща он учился схватывать все более уверенно.
Уже 2 февраля Гитлер посвятил заседание кабинета главным образом подготовке новых выборов, согласие на которые он выжал незадолго до приведения к присяге 30 января из сопротивлявшегося Гугенберга и необходимость которых он затем лицемерно оправдывал быстрым провалом проводившихся для видимости переговоров с партией Центра. Доступ ко всем государственным средствам давал не только возможность выправить положение, сложившееся после поражения в ноябре, но и с первых же шагов выйти из-под контроля партнёра – Немецкой национальной народной партии. Хотя предложение Фрика предоставить правительству миллион марок на предвыборную борьбу было отклонено после возражения министра финансов Шверина фон Крозига, чтобы совершить тот «шедевр агитации», который предсказывал Геббельс в одной из своих дневниковых записей, без таких подпорок можно было и обойтись, имея за спиной государственную власть.[385]385
Goebbels J. Kaiserhof, S. 256.
[Закрыть]
Как это отвечало склонности Гитлера фиксировать внимание на одном вопросе, с этого момента все мысли, каждый тактический ход были поставлены на службу широкой кампании подготовки к назначенным 5 марта выборам. Он сам дал сигнал её начала «Воззванием к немецкому народу», с которым выступил по радио поздно вечером 1 февраля. Гитлер как нельзя быстро вжился в свою новую роль и ту манеру поведения, которой она требовала. Хотя присутствовавший при зачтении воззвания Яльмар Шахт мог наблюдать возбуждение Гитлера и то, как он в отдельные моменты «дрожал и дёргался всем телом»[386]386
Schacht H. Abrechnung mit Hitler, S. 31; само «Воззвание» опубликовано в кн. Domarus M. Op. cit. S. 191 ff.
[Закрыть], сам документ, предварительно представленный на одобрение всем членам кабинета, был выдержан в ровном тоне заявления государственного мужа. Он соединял в себе критику прошлого и разрыв с ним с патетическими заверениями в преданности национальным, консервативным и христианским ценностям: с дней предательства в ноябре 1918 года, начал Гитлер выступление: «Всевышний лишил наш народ своего благословения». Грызня между кучей партий, ненависть и хаос подменили единство нации «клубком политико-эгоистических противоречий», Германия являет собой «картину разобщённости, при виде которой сердце обливается кровью». Вынося обобщающие вердикты прошлому, он клеймил внутренний разлад, а также нищету, голод, утрату собственного достоинства и катастрофы последних лет и рисовал страшную картину конца двухтысячелетней культуры под широким натиском штурма опирающегося на «волю и насилие» коммунизма:
«Эта способная лишь на отрицание, всеразрушающая идея не пощадила ничего – начиная с семьи и всех понятий чести и верности, народа и Отечества, культуры и хозяйства вплоть до вечных основ нашей морали и нашей веры. 14 лет марксизма разорили Германию. Один год большевизма Германию бы уничтожил. Районы, относящиеся сегодня к самым богатым и прекрасным культурным областям мира, были бы повергнуты в хаос и превратились бы в руины. Даже страдания последних полутора десятилетий нельзя было бы сравнить с бедствиями Европы, в центре которой взвился бы красный флаг уничтожения».
В качестве задачи нового правительства Гитлер назвал восстановление «единства духа и воли нашего народа», он обещал взять под защиту «христианство как основу всей нашей морали, семью как основную ячейку нашего народного и государственного организма», преодолеть классовую борьбу и вернуть традициям подобающее им почётное место. Восстановление экономики должно было быть обеспечено при помощи двух широкомасштабных четырехлетних планов, принцип которых он вновь заимствовал у своих противников – марксистов, загранице было твёрдо указано на жизненные права Германии, но в тоже время её успокаивали смягчающими тон фразами о наличии воли к примирению. За четыре года, – завершал Гитлер своё обращение, – его правительство постарается «загладить вину 14 лет», правда, при этом, прежде чем благоговейно просить благословения у Бога, он ясно дал понять, что правительство отбросит в сторону все конституционные контрольные механизмы: «Оно не может просить одобрения на восстановительный труд у тех, кто виновен в развале. У партий, приверженных марксизму, и их попутчиков было 14 лет, чтобы доказать на что они способны. Результат налицо – груда развалин…»
Тактическую сдержанность, которую несмотря на все угрожающие революционные нотки всё-таки в целом сохраняло это воззвание, Гитлер отбросил, когда он всего лишь двумя днями позже имел беседу в служебной квартире командующего сухопутными войсками генерала фон Хаммерштайна с верхушкой рейхсвера. Примечательная быстрота, с которой он стремился провести эту встречу, несмотря на множество требовавших его неотложного участия дел, была связана не только с ключевой позицией военных в его концепции завоевания власти – в упоении и на волне подъёма тех дней ему, несмотря на всю скрытность, не терпелось посвятить в свои грандиозные планы новых людей. Вряд ли что-либо так ясно подчёркивает это нетерпение, как тот факт, что Гитлер раскрыл перед командующими свою самую сокровенную, центральную идею.[387]387
См. в этой связи: Kluke P. Nationalsozialistische Europaideologie. In: VJHfZ, H. 3, S. 244. П. Клуке придерживается той точки зрения, что поведение Гитлера «объяснялось лишь чувством триумфа непосредственно в час окончательного захвата власти»; см. затем также: Gisevius Н. В. Adolf Hitler, S. 175.
Полный текст этого выступления не сохранился, однако имеется несколько подробных и взаимодополняющих свидетельств участников встречи. См., напр., записи Хорста фон Меллентина, бывшего в то время вторым адъютантом фон Хаммерштайна: Mellenthin H. Zeugenschrifttum des IfZ Muenchen, Nr. 105, S. 1 ff.; ему же принадлежит и цитируемое в следующем абзаце описание этой встречи; см., кроме того, сделанные во время выступления записи генерала Либмана среди документов, собранных Тило Фогельзангом: Vogelsang Th. VJHfZ, 1954, Н. 2, S. 434 f., a также показания Редера в Нюрнберге: IMT, Bd. XIV, S. 28; правда, Редер утверждает, что «ни о каких военных намерениях, воинственных намерениях и речи не было». Однако другие свидетельства противоречат этому. И утверждение Редера, будто высказывания Гитлера «были с удовлетворением» восприняты всеми слушателями, также оспаривается многими, например, генералом фон дём Буше. См. также: Hammerstein К. v. Spaehtrupp, S. 64. Гитлер сам якобы заявил Бломбергу, что это выступление было «одной из его самых трудных речей, поскольку он всё время говорил, словно обращаясь к стене»; см.: Foertsch H. Schuld und Verhaengnis, S. 33.
[Закрыть]
Хаммерштайн, как описывает один из участников встречи, «несколько покровительственно», свысока, представил «господина рейхсканцлера», фаланга генералов с холодной вежливостью поприветствовала его, Гитлер скромно, угловато со всеми раскланялся и пребывал в состоянии смущения до тех пор, пока после трапезы он не получил за столом возможность для продолжительного выступления. Гитлер обещал вермахту как единственному носителю оружия в стране главное развитие, а в начале своей почти двухчасовой речи он, как и в дюссельдорфском клубе промышленников коснулся мысли о примате внутренней политики: самая первоочередная цель нового правительства – вновь сосредоточить власть в своих руках посредством «полного преобразования нынешних внутриполитических условий», не останавливающегося ни перед чем искоренения марксизма и пацифизма, а также создания широкой готовности к борьбе и обороне за счёт «жёсткого авторитарного государственного руководства»; только последнее даёт гарантию возможности сперва начать борьбу с Версалем при помощи осторожно действующей внешней политики, чтобы затем, собрав силы, перейти к «завоеванию нового жизненного пространства на Востоке и его беспощадной германизации». Непреложную необходимость экспансии, он между тем, обосновывал не только геостратегическими аргументами и требованием обеспечить страну продовольствием, но и ссылкой на экономический кризис: и его причина, и его решение заключаются-де в «жизненном пространстве». При анализе положения ему представляются проблематичными только годы скрытого военно-политического восстановления, в этот период станет видно, имеются ли во Франции государственные деятели: «Если да, она не даст нам времени, а нападёт на нас, вероятно, с восточными сателлитами», – записал один из участников встречи.
В этом выступлении примечательно не только то, что оно с новой стороны высветило построенную на идее насилия структуру мышления Гитлера: буквально каждое явление он воспринимал лишь как дополнительное подтверждение уже давно закрепившихся в уме идей, хотя и при этом настолько неверно оценивал сущность явлений – как в случае с экономическим кризисом, что это напоминало прямо-таки гротеск; и, по-прежнему, единственным решением, вообще понятным ему, было насилие. Рассуждения в этой речи одновременно свидетельствуют о преемственности мира идей Гитлера и опровергают все теории, согласно которым влияние лёгшей на его плечи ответственности сделало его более умеренным, а позже (обычно называют 1938 год), когда он впал в старые агрессивные комплексы ненависти или же, как утверждает другая версия, оказался под воздействием новой системы маниакальных идей, его сущность изменилась.
Гитлеровская концепция завоевания власти, которая несмотря на все заимствования из апробированной практики большевистских и прежде всего фашистских государственных переворотов относится к числу действительно самостоятельно разработанных, оригинальных элементов его взлёта, все ещё остаётся по своему сценарию классической моделью тоталитарного преодоления демократических институтов изнутри, т. е. при помощи государственной власти, а не в схватке с ней. Он с незаурядной находчивостью, не стеснённой в выборе средств, пускал в ход методы последних месяцев, приспосабливая их к новому положению. В продуманном взаимодействии с коричневыми вспомогательными формированиями все новые дерзкие революционные акции так сочетались с юридически санкционированными актами, что возникала, если брать каждый отдельный случай, хотя часто сомнительная, но в целом убедительная кулиса легальности, прикрывавшая противозаконность режима. В ту же линию вписывалось и то, что во многом сохранялись старые институциональные фасады: тем беспрепятственнее можно было в их тени осуществлять глубинное преобразование всех отношений – пока люди безнадёжно запутывались в своих оценках законности или незаконности системы, необходимости лояльности или сопротивления; парадоксальное понятие легальной революции – это было нечто гораздо «большее, чем пропагандистский приём», его значение для успеха процесса захвата власти невозможно переоценить[388]388
Так считает К. Д. Брахер, см.: Bracher К. D. Diktatur, S. 210.
[Закрыть]. Гитлер сам объяснял позже, что Германия в то время хотела порядка, в силу чего ему пришлось отказаться от открытого применения силы; в один из последних дней жизни, когда его охватывали настроения отчаяния, он, подводя итог ошибок и упущений прошлого, возлагал на любовь немцев к порядку, их манию законопослушания и глубокое неприятие хаоса, которые придали нерешительный характер уже революции 1918 года, сорвали и его акцию у «Фельдхеррнхалле», ответственность за всю половинчатость, компромиссы и роковой отказ от внезапной кровавой расправы: «Иначе тогда были бы ликвидированы тысячи… Только потом начинаешь жалеть, что был таким добрым».[389]389
См. последнее застенографированное обсуждение обстановки 27 апреля 1945 года: Der Spiegel, 10.01.1966. Геббельс добавил – и это весьма примечательно, – что и в 1938 году, в ходе аншлюсса Австрии, «было бы лучше, если бы Вена оказала сопротивление, и мы смогли бы все разделать под орех». Затем: Hitlers Tischgespraeche, S. 364, 366.
[Закрыть]
В тот же момент тактика лавинообразно развёртывающейся революции, прикрытой атрибутами легальности, представлялась, однако, чрезвычайно успешной. По сути дела, всё было предопределено уже в течение февраля тремя декретами, законность которых, как казалось, в равной степени обеспечивали буржуазные авторитеты, находившиеся рядом с Гитлером, подпись Гинденбурга и сопровождавший все это туман национальных лозунгов. Уже 4 февраля вышел декрет «О защите немецкого народа», который предоставлял правительству права запрещать политические мероприятия, газеты и печатные издания конкурирующих партий на самых неопределённых основаниях. Тут же последовали драконовские меры, направленные против отличающихся политических воззрений любого направления, был прерван даже вскоре после его начала конгресс левых интеллектуалов и деятелей искусств в опере Кролля из-за якобы атеистических высказываний. Двумя днями позже, следующим чрезвычайным декретом, своего рода вторым государственным переворотом, был распущен прусский ландтаг, после того, как соответствующая попытка добиться этого парламентским путём потерпела провал. Спустя ещё два дня Гитлер обосновал перед ведущими немецкими журналистами чрезвычайный декрет от 4 февраля, обратив при этом их внимание на ошибочные суждения газет о Рихарде Вагнере и заявив, что «хочет уберечь нынешнюю печать от подобных промахов». Одновременно он пригрозил самыми решительными мерами тем, «кто сознательно хочет вредить Германии»[390]390
Domarus M. Op. cit. S. 202 f, S. 200.
[Закрыть]. В комплексе маловразумительных сообщений, эффектно скомпонованных с угрозами и актами насилия, скупо поступали сведения о Гитлере как о человеке. 5 февраля бюро НСДАП по связям с печатью известило, что Адольф Гитлер, «который очень привязан к Мюнхену», сохраняет там свою квартиру и что он, между прочим, отказался от оклада рейхсканцлера.
Тем временем национал-социалисты глубоко проникают в управленческий аппарат. При распределении ролей актёров легальной революции Герингу, чья дородность придавала ей столь жизнелюбивый оттенок, досталась задача не знающего удержу неистового преобразователя. Хотя новый чрезвычайный декрет передавал все правительственные полномочия в Пруссии Папену, реальная власть была у Геринга. Пока вице-канцлер надеялся на свою «воспитательную работу внутри кабинета»[391]391
Papen F. v. Op. cit. S. 294.
[Закрыть], соратник Гитлера направил в прусское МВД несколько так называемых почётных комиссаров, таких, как оберфюрер СС Курт Далюге, которые тут же закрепились в крупнейшем управленческом ведомстве Германии и стали, проводя обширную перетряску кадров, отдавать распоряжения об увольнениях и назначениях новых людей, так что, как говорилось в свидетельстве очевидца, «чинуши старой системы вылетали штабелями. Эта беспощадная чистка затронула всех – от оберпрезидента до вахмистра».[392]392
Gritzbach E. Herman Goering. Werk und Mensch, S. 31; см. также: Horkenbach С Op. cit. S. 66. Некоторое представление о размахе этих мер даёт тот факт, что, например, из 32 полковников охранной полиции были уволены 22. «Сотни офицеров и тысячи вахмистров разделили ту же участь в последующие месяцы. Привлекались новые силы, и повсюду эти силы черпались из огромного резервуара С А и СС», – так писал Геринг, см.: Aufbau einer Nation, S. 84.
[Закрыть]
Особое внимание Геринга было направлено на управления полиции, руководство которых он за короткое время укомплектовал командирами СА высокого ранга. 17 февраля он обязал полицию своим приказом «установить отношения наилучшего взаимодействия с национальными формированиями (СА, СС, „Стальной шлем“), а в отношении же левых „применять в случае необходимости оружие без малейших колебаний“: „Каждая пуля, – так предельно откровенно он подтвердил это распоряжение в произнесённой позже речи, – которая будет выпущена из ствола полицейского пистолета, выпущена мной. Если это называть убийством, то считайте, что это убийство совершил я, все это приказано мною, это я беру на себя“. Из невзрачного второразрядного ведомства в берлинском управлении полиции, которое занималось надзором за антиконституционными действиями, начало формироваться гестапо (государственная тайная полиция), аппарат которого уже четырьмя годами позже имел бюджет в сорок раз больше прежнего и располагал только в Берлине четырьмя тысячами чиновников[393]393
Bracher К. D. Machtergreifung, S. 73; затем: Crankshaw E. Die Gestapo, S. 35 ff., где даётся картина этого роста. Высказывание Геринга см.: Aufbau einer Nation, S. 86 f.
[Закрыть]. 22 февраля «для разгрузки линейных подразделений полиции при особых ситуациях» Геринг отдал распоряжение об образовании насчитывающей около 50 тысяч вспомогательной полиции, прежде всего за счёт личного состава СА и СС, открыто покончив с фикцией нейтральной полиции и заменив её выполнением функций террора в интересах одной партии. Белая повязка на рукаве, резиновая дубинка и пистолет отныне делали законными дикие аресты и произвол партийной армии, возводя их в ранг правомочных действий на службе государству. «Мои меры, – заверял Геринг в одном из своих заявлений тех дней, в которых витает дух упоения насилием, – не будут страдать боязнью нарушить в чём-то юридические нормы. Мои меры не будут страдать болезнью какой-либо бюрократии. Моё дело здесь – не блюсти справедливость, а уничтожать и истреблять – и баста».[394]394
Из выступления на митинге НСДАП во Франкфурте-на-Майне 3. 03. 1933 г.: Goering H. Reden und Aufsaetze. Muenchen, 1930, S. 27.
[Закрыть]
Тем самым объявлялась война прежде всего коммунистам, которые были не только принципиальными противниками, но и определяли формирование большинства в будущем рейхстаге. Уже спустя три дня после создания правительства Геринг запретил в Пруссии все митинги коммунистов, после того как КПГ призвала к всеобщей забастовке и демонстрациям. Тихая гражданская война тем не менее продолжалась, только в первые дни февраля в результате столкновений пятнадцать человек погибло и примерно в десять раз больше было ранено. 24 февраля полиция в ходе рассчитанной на внешний эффект акции захватила здание ЦК КПГ, дом Карла Либкнехта на Бюловплац в Берлине, которое, правда, руководство компартии давно покинуло. И уже на следующий день печать и радио сообщали о сенсационной находке «многих сотен центнеров материала, свидетельствовавшего о замышлявшейся государственной измене», что позволило снабдить национал-социалистических агитаторов написанными леденящими душу красками жуткими картинами коммунистической революции. Сам материал, правда никогда не был опубликован: «террористические акты против отдельных вождей народа и руководителей государства, выведение из строя жизненно важных предприятий и публичных зданий, отравление целых групп лиц, которых они особенно боялись, захват заложников, жён и детей выдающихся деятелей должны были запугать народ, приведя его в ужас», – говорилось в докладе полиции. Тем не менее КПГ не запрещали, чтобы не толкнуть её избирателей в объятия СДПГ.