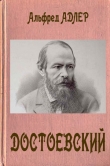Текст книги "Достоевский"
Автор книги: Иннокентий Анненский
Жанр:
Критика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 1 страниц)
Иннокентий Анненский
Достоевский
Я помню Достоевского в его последние годы. Много народу бегало к нему тогда в Кузнечный переулок, точь-в-точь как еще недавно досужие велосипедисты разыскивали на Аутке Чехова, как ездят и теперь то в Ясную Поляну, то к Кронштадтскому протоиерею. По недостатку литературного честолюбия я избежал в свое время соблазна смотреть на обои великих людей, и мне удалось сберечь иллюзию поэта-звезды, хотя, верно, уж я так и умру, не узнав, ни припадал ли Достоевский на ногу, ни как он пожимал руку, ни громко ли он сморкался. Я видел Достоевского только с эстрады и потом в гробу. Но зато я его слышал. В последние годы он охотно читал обоих «Пророков», особенно пушкинского. Помню, как Достоевский поспешно выходил на сцену артистического клуба. При этом он не добирался даже до середины эстрады, где ожидал чтеца стакан воды, столь же, кажется, традиционный, как и тот, в котором должна купаться душа покойника первые девять дней своих загробных скитаний.
Достоевский останавливался у самого края, шага этак за три от входа, – как сейчас вижу его мешковатый сюртук, сутулую фигуру и скуластое лицо с редкой и светлой бородой и глубокими глазницами, – и голосом, которому самая осиплость придавала нутряной и зловещий оттенок, читал, немножко торопясь и как бы про себя, знаменитую оду.
Я не удержал памятью в передаче Достоевского всех деталей того жестокого акта, которым вводился в новую жизнь древний иудей, будущая жертва деревянной пилы. Помню только, что в заключительном стихе
«Глаголом жги сердца людей»
Достоевский не забирал вверх, как делали иные чтецы, а даже как-то опадал, так что у него получался не приказ, а скорее предсказание, и притом невеселое.
А мы-то тогда, в двадцать лет, представляли себе пророков чуть что не социалистами. Пророки выходили у нас готовенькими прямо из лаборатории, чтобы немедленно же приступить к самому настоящему делу, – так что этот новый, осужденный жечь сердца людей и при этом твердо знающий, что уголь в сердце прежде всего мучительная вещь, – признаюсь, немало-таки нас смущал. Главное, мы никак не могли примирить его с образом писателя, который за 30 лет перед тем сам пострадал за интерес к фаланстере. Получалась какая-то двойственность.
Теперь, правда, через много лет пророк Достоевского для меня яснее. Мало того, самое пушкинское стихотворение освещает мне теперь его творчество.
Пророк Достоевского отнюдь не проповедник и не учитель, всего менее в нем уж, конечно, мессианизма. Это скорее сновидец и мученик, это эпилептик, до которого действительность доходит лишь болезненно-острыми уколами. Если он берет на себя грехи мира, этот пророк, то вовсе не потому, чтобы этого хотел или чтобы ему так жаль было этого скорбного человечества, а лишь потому, что не может не бремениться его муками, как не может обращенная к солнцу луна не вбирать в себя солнечных лучей.
Вот одна из иллюстраций к моей мысли. Еще до катастрофы, фурьеристом, Достоевский написал «Прохарчина», вещь непонятую тогда и забытую потом. В этой повести изображена была душа, выскобленная и выветренная жизнью почти до полного идиотизма и одичания. Прохарчин растерял даже все свои слова, но зато перед смертью, в горячечном сне он делается на миг обладателем целого удивительно яркого мира обездоленных, вопиющих и надорванно-грозящих ему созданий: на миг он видит свое же я, только внезапно вспыхнувшее и бессчетно дробимое в мучительных кристаллах осевших паров безумия, – таков был первый абрис пророка в поэзии Достоевского. Пророк был для Достоевского скудельным сосудом божества, т. е. созданием прежде всего отмеченным и опустошенным, из которого вынули его смертный язык, сердце, глаза, вынули все, что могло служить целям обихода и давать счастье по нашей мерке. Пророк Достоевского был человеком трагически одиноким, и если слова его еще теперь еще иногда просветляют ваше сознание или даже зажигают ваше сердце, так. вовсе не потому, чтобы сам-то пророк когда-нибудь об этом думал. Пророк Достоевского не только не деятель, но самое яркое отрицание деятельности, само перерождение человека а пророка не имеет ничего общего с аскезой сектанта или революционера. Весь пророк в случайности, в наитии, он весь в переработке воспринятого извне, столь же мало зависящей от него, как зависит от матери развитие носимого ею плода. Пророк говорит нам лишь об исконной подчиненности и роковой пассивности нашей натуры, тогда как деятель, наоборот, героизирует в ней мужское начало протеста и дерзания.
Пророк Достоевского ближе всего, по-моему, подходит к нашим представлениям о поэзии. Я нисколько не хочу этими словами отрицать идей служения пророка-поэта. Теория искусства для искусства – давно и всеми покинутая глупость.
Если поэт не маньяк и не профессионал, то он непременно служит идее или идеям, точнее, отдается им во власть, тем более что и сама-то поэзия уж очень тонкая эссенция, и едва ли она могла бы даже отлиться в форму индивидуальности.
Да и что в мире и когда могло избегнуть необходимости служить? Если только подумать, что в течение целого ряда веков все политические комбинации эллинов должны были проходить через бледную женщину-медиума с ядовитой травиной между побелевших губ (6), не говоря уже о том, что сами боги не брезгали служить в почтальонах и даже по кузнечной части.
Связь поэзии Достоевского с представлением о пророке интересует меня вот с какой стороны. Как известно, древность дала нам два прототипа поэтов, если не две героизированных теории творчества.
Первая– эллинская, с преобладанием активного момента. Это был похититель огня, платоновский посредник между богами и людьми. Поэт, гений, по теории этой, был демоном, а поэзия – оказывалась чем – то вроде божественной игры (8). Второй прототип сохранился Библией. Это была пассивная форма гения, и здесь поэт являлся одержимым. Это был пророк, т. е. сосуд со скрытым в нем и вечно бодрым пламенем, и этого сосуда волнами расходились среди людей их же, только просветленные страдания, их же, только обостренные сомнения.
Гете, Пушкин, Гейне, парнасцы говорили нам не раз о первом поэте и звали за ним в прохладные сады Академа; но, читая Достоевского, Эдгара По, Гоголя, Толстого или Бодлера, мы чаще думали о втором, там, на выжженных берегах Мертвого моря.
В связи с тем, что только что сказано, легко определить в творчестве Достоевского его характерный принцип. Над Достоевским тяготела одна власть. Он был поэтом нашей совести.
Оттого именно он так болезненно близок читателю и притом не только на своих патетических страницах, но даже в «скверных анекдотах», и это вовсе не тот интерес, которым захватывает нас Уэллс, а что-то гораздо более интимное, но что иногда кажется поистине страшным.
Вместе с поэтом мы покорно переживаем молчаливые муки честного вора, умирающего на своем промасленном тюфячишке, вместе с ним страдаем с героем записок из подполья, от предательского пятна на его пьедестале и от всей его мизерной, замухрыщатой фигурки; мы не можем не мучиться трауром на серой шляпе Павла Павловича Трусоцкого; и вместе со штатским генералом Пралинским, сквозь его отравленные водкой грезы, нас бесконечно тревожит именно вот это нелепое золотое кольцо над пологом оскверненного им ложа. А эти праздничные вечера в остроге? А «омбрелька» Сонечки вечером у постели умирающего отца; а закатные сны Раскольникова или еще эта холодная телятина, шаркающие туфли коридорного и зигзаги призрачной мыши на трактирной постели Свидригайлова в ночь перед его вояжем. Если поэзия Достоевского так насыщена страданием, и притом непременно самым заправским и подлинным, то причину, конечно, надо искать именно в том, что это была поэзия совести. Совесть и сама любит рисовать, только произведения ее редко в красках, скорей это художница по части blanc et noir[1]1
Белого и черного (фр.).
[Закрыть] и больше всего она заботится об отчетливости линий; масштабы тоже любит побольше.
Достоевский реалист. Все, что он пишет, не только принадлежит действительности, но страшно обыденно. Совесть, видите ли, не любит тешить себя арабскими сказками. Она угрюма. Все эти распивочные, бессовестные Дуклиды, чахлые трактирные садики, писаришки с кривыми носами, яичная скорлупа и жухлая масляная краска на лестницах, лакейская песня краснощекого ребенка, чихающая утопленница, комната у портного Капернаумова с одним тупым и другим странно острым углом, канцелярия со скверным запахом и слепые желтые домишки Петербургской стороны в мокрое осеннее утро-все это, конечно, было бы бессмысленно в своем нагромождении, если бы не две больные совести, которым была мучительно нужна и грязь, и убожество, и даже бесстыдство обстановки.
Я различаю в романах Достоевского два типа совести. Первый– это совесть Раскольникова, совесть активная: она действует бурно, ищет выхода, бросает вызовы, но мало-помалу смиряется и начинает залечивать свои раны. Другая, и Достоевский особенно любит ее рисовать, – это совесть пассивная, свидригайловская: эта растет молча, незаметно, пухнет, как злокачественный нарост, бессильно осаждаемая призраками (помните, что у Свидригайлова и самые призраки-то были не только обыденны, но склонялись даже в комическую сторону), и человек гибнет наконец от задушения в кругу, который роковым образом оцепляет его все уже и уже. Таковы были у Достоевского Ставрогин, Смердяков, Крафт.
Один из критиков назвал талант Достоевского жестоким – это некардинальный признак его поэии; но все же она несомненно жестока, потому что жестока и безжалостна прежде всего человеческая совесть. Одна Катерина Ивановна Мармеладова чего стоит? Сколько надо было на в сердце неумолимых упреков совести – своих ли или воспринятых извне, – все равно, – для этого эшафодажа бессмысленных и до комизма нагроможденных мук.
Кстати, Достоевского упрекают в сгущении красок, в плеоназмах и нагромождениях – но пусть каждый проверит себя в минуты насторожившейся или властно упрекающей совести-и он ответит на это обвинение сам. Нагромождение стало бы не художественным, откройся в нем хотя одна черта не подлинного мелодраматического ужаса, но кто и когда мог поставить на счет своей заговорившей совести ее многоречие или преувеличения.
На фоне творческой совести – у нас, обыкновенных людей, она говорит, много что вопиет, у Достоевского ж она творила и рисовала, – вырастали в романах Достоевского целые образы: таковы сестра закладчицы Лизавета, Сонечка Мармеладова, жена Ставрогина, Кроткая и Илюшечка Снегирев. Этим я хочу сказать, что были в его поэзии лица художественно подчиненныедругим, необходимые не столько сами по себе, сколько для полноты и яркости переживаемых другими, часто незримых драм.
Сопоставьте только всю ненужную риторичность Раскольникова, когда он, нагнувшись к ногам Сонечки Мармеладовой и целуя их, поклоняется всему человеческому страданию, сопоставьте этот ораторский жест с тем милым движением, которым та же Сонечка после панихиды по Катерине Ивановне нежно прижимается к Раскольникову, будто ища его мужской защиты, а про себя инстинктивно желая влить хоть немножко бодрости в это изнемогающее от муки сердце, – сопоставьте, и вы поймете, что должен был испытывать, оставаясь один, убийца Лизаветы…
А Илюшечка? Бедность, обида опозоренного отца, болезнь и эта полоумная мать с ее тяжелым запахом… Зачем, кажется, нужны были еще эти краснощекие товарищи с их пушечкой и булавка, проглоченная Жучкой? Зачем, если не для окончательного надрыва Дмитрия, или, может быть, для безумия Ивана Карамазова?
А разве эта Лебядкина с ее наивным миром и хроменькой ножкой, страшно худая и гладко причесанная, с ее старой колодой карт и тихими разговорами с Шатушкой, с ее мечтами о принце и внезапно вспыхивающей ядовитой злобой на самозванца, – разве она не вся в том жирно намыленном шнуре, на котором повис гражданин кантона Ури?
В «Слабом сердце» Достоевский выполнил удивительную художественную задачу. Писарек Вася Шумков гибнет там у него от упреков совести: он, видите ли, не успел перебелить для своего благодетеля каких-то пять толстейших и глупейших и при этом вовсе даже не нужных тому тетрадей. Тут не столько страх, сколько совесть, так как его превосходительство добрый и даже не без великодушия. Но нам этот несчастный писарек, сошедший с ума на том, будто ему забрили лоб, предстоит воплощенным упреком уже нашей совести.
Когда Достоевский изображал Лужиных и Ракитиных, которым совесть не нужна, которые против нее приняли даже зависящие меры, – изображение выходило у него грубым и страшным. Решительно ни черточки нет в том же Лужине забавной. Поэту совести был вполне чужд смягчающий и расплывчатый юмор Писемского или Гончарова. Как я, мол, буду судить того, в ком часть меня же самого, Адуева что ли какого-нибудь или Калиновича? Как судить? Да если это ты, то его не судить, его распинать надо.
Самый страшный из бессовестных Достоевского это, несомненно, Петр Степанович Верховенский, только какая близорукость – сводить его чуть ли не целиком на политическую сатиру, и даже на полемику с нигилистами. Петр Верховенский – это живой и больной упрек, стоящий перед самим Достоевским, т. е. перед поколением Степана Трофимовича Верховенского. И разве могла реакция против фразистости и сентиментальной жестокости 40-х годов не выйти столь безоглядной и грубо-циничной. Поэзия совести сказалась и на самой структуре произведений Достоевского. Сочтите дни в «Преступлении и наказании» и особенно в «Идиоте». Как их мало! Как сгущено действие и нагромождены эпизоды! Точно мысли, которым тесно в голове, измученной совестью, а все же они боятся выйти оттуда, эти мысли, и еще ближе жмутся друг к другу.
А стиль Достоевского? Эти плеоназмы, эти гиперболы, эта захлебывающаяся речь… Но вдумайтесь только в эту странную форму, и вы откроете в ней значительность: таков и должен быть язык взбудораженной совести, который сгущает, мозжит, твердит, захлебывается и при этом все еще боится доверять густоте своих красок, силе своего изображения.
В языке Достоевского есть особая, ему лишь свойственная и надобная точность, есть и резкая отчетливость, когда это нужно.
Но он презирает всякую украсу, все звучные слова и метафоры, если они не лиричны и все только «живописные сравнения». Вы не найдете у него черного излома белоствольной березы, ни камней, которые в сырую ночь сползлись на холмике, точно на совещание. Но это люди у него опадают от страха, сердце стучит, точно с крючка сорвалось, и глаза приклеиваются к лицу собеседника.
Говорят, что поэзия Достоевского воспитывает в нас веру в людей. Может быть. Но в ней-то самой было несомненно уж слишком много боли, так что наше воспитание обошлось не дешево.
Право, мне кажется, что я понимаю, почему падал голос декламатора на стихе
«Глаголом жги сердца людей».