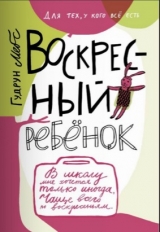
Текст книги "Воскресный ребенок"
Автор книги: Ингмар Бергман
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 7 страниц)
– Не думала, что служитель Божий имеет право носить в себе столько ненависти.
– Я не способен простить того, кто хочет меня уничтожить.
– Это чудовищно.
– Вот как, чудовищно?
– Да, чудовищно. Ты сейчас говоришь прямо как твоя бедная мать. Ты говоришь как маньяк.
– Я не способен простить человека, который ненавидит меня за то, что я вообще существую на свете.
– Ты говоришь точно как тетя Альма!
– Мы были не такие благородные. Вот именно. Не такие благородные. Разумеется.
– Послушал бы ты свой тон.
– А ты бы послушала свой, когда говоришь «твоя бедная мать».
– Чем мы, собственно, занимаемся?
– Мы не имели возможности ходить в театры и ездить в Италию и в Мессеберг, и у нас не было денег, чтобы покупать новейшие романы.
– Помолчи лучше, тебе мои деньги доставляли не меньше удовольствия, чем мне и детям.
– Верно.
– Поэтому ты не смеешь так говорить.
– Верно.
– Ужасно, когда ты так говоришь.
– Может, и ужасно. Но это не я настаивал, чтобы мы поселились в этой дорогой квартире на Виллагатан. Нам было хорошо и на Шеппаргатан.
– Там не было солнца, и дети стали хворать.
– Твоя обычная отговорка.
– Доктор Фюрстенберг сказал…
– Я знаю, что сказал доктор Фюрстенберг.
Мать собралась было ответить, но передумала. Она начинает грызть ноготь, ее переполняет бешенство. Она молчит, накачивает себя. Пу видит, что отец, собственно, уже сдался, искоса глядя на жену, он становится у белого письменного стола, его фигура четко вырисовывается на фоне белого прямоугольника роликовой шторы. Тишина разбухает, внушая все больший страх. Теперь у отца другой голос.
– Ты молчишь?
– По-твоему, я должна что-то сказать?
– Ну можешь хотя бы сказать, о чем ты думаешь. Отец испуган, это заметно.
– Значит, я должна сказать, о чем я думаю? – с расстановкой произносит мать.
Отец молчит, мать тоже. Когда она начинает говорить, голос ее спокоен, как снег. Пу чувствует, как у него заныли ноги, желудок свело, на глазах невольно выступили слезы. Он не желает слышать то, что намерена сказать мать, но не в силах сдвинуться с места, ноги не слушаются, и он вынужден стоять и слушать.
Итак, мать заговорила. Голос ее спокоен, она разглядывает указательный палец с содранным заусенцем, на нем выступила капля крови.
– Ты хочешь знать, о чем я думаю? Так вот, я думаю о том, что часто приходило мне в голову в этот последний год. Или, если быть откровенной до конца, с того времени, когда родилась Малышка.
– Может, я не хочу, – слабым голосом произносит отец.
– Зато теперь хочу я, и ты мне вряд ли помешаешь.
– Я уйду.
– Ну-ну, не смущайся. Пора, наверное, хоть раз поговорить откровенно. Полезно, наверное, наконец-то узнать истинное положение вещей.
Мать смотрит на него с легкой улыбкой.
– Я уже давно собиралась забрать детей и уехать от тебя на какое-то время. – Тишина. Фигура у окна замерла в неподвижности. Мать, повернув голову, не спускает с отца глаз. – Я хочу переехать в Уппсалу, там на верхнем этаже в нашем доме есть свободная пятикомнатная квартира, которую я могу снять за небольшую плату. Окна выходят во двор, квартира тихая, солнечная, только что после ремонта, с ванной и со всеми удобствами. Дагу и Пу до школы совсем близко, только улицу перейти. И Май наверняка согласится перебраться в Уппсалу, за Малышкой присматривать будет. А я намерена поступить на работу. Я уже написала сестре Элисабет, и она ответила, что мне будут рады. И потом, я буду ближе к брату Эрнсту, и к маме, и к моим друзьям… не спрашивая… без твоего… без… ревности… и я получу немножко свободы… я… свободы…
За роликовой шторой на березах затрещали утренние сороки, подул ветер, штора выгибается. Отец, опустив голову, что-то чертит пальцем на бюварной бумаге столешницы. Пу окаменел, напуганный до смертной тишины.
– Значит, ты хочешь сказать, что мы разводимся?
– Этого я не говорила.
– Ты хочешь развестись и ты намерена бросить меня?
– Эрик! Успокойся и постарайся услышать, что я…
– Ты уходишь и забираешь с собой детей.
– Я никогда не имела в виду развод…
– Это Торстен напичкал тебя такими идеями?
– Нет, не Торстен.
– Но ты говорила с ним.
– Конечно, говорила.
– Говорила о нас с посторонним.
– Но он наш лучший друг, Эрик! И желает нам добра.
– И разумеется, с мамочкой, и, конечно же, с Эрнстом, твоим высокоуважаемым братом, и еще с сестрой Элисабет! С кем ты не говорила? Ах, какой стыд, какой стыд. Ты говоришь со всеми, но только не со мной. Потому что, как мне кажется, у тебя слабость слушать посторонних, а меня ты слушать отказываешься.
Пронизанная горечью нерешительность. Пу по-прежнему не в состоянии сдвинуться с места, вот то, чего он боялся больше всего на свете, конец без помилования, наказание без прощения, вышвырнутый во мрак, он падает в яму, набитую острыми камнями, и никто не пойдет его искать, никто не вытащит его из мрака.
– Ну, как бы там ни было, а теперь ты знаешь, чего я хочу, – говорит мать, после затяжного молчания. – Ты спросил и теперь знаешь.
– А если бы я не спросил?
– Не знаю, Эрик. Не знаю. Я ждала случая, но была не уверена.
– А сейчас, насколько я понимаю, уверена вполне.
– Эрик, пожалуйста, иди сюда, сядь рядом на кровать. Ты так далеко, а нам ведь надо попытаться распутать этот узел. Вместе. Я не хочу причинять тебе боль.
– Вот как, не хочешь.
Голос пастора звучит скорее печально, чем иронично. Он тяжело садится в изножье кровати, подальше от жены. Она пытается дотянуться до его руки, но безуспешно.
– Как тяжко, Эрик. Я не хочу причинять тебе боль.
– Ты уже говорила.
– Когда ты приезжаешь сюда, то не находишь себе места, все время мечешься. А у нас масса дел по дому. И ты всегда так нервничаешь перед своими проповедями, и у нас вечно не хватает времени куда-нибудь поехать, а если в кои веки мы и выбираемся, то на мои деньги, и ты из-за этого злишься и дуешься. А еще у меня приходские обязанности, и домашнее хозяйство, и дети, и мне бывает порой очень тяжело.
Отец закрывает рукой лицо и коротко всхлипывает. Зрелище непривычное и страшное. Мать встает на колени, чтобы дотянуться до его щеки, погладить, но он уклоняется и встает.
– Ты уходишь? – потерянно спрашивает мать.
– Пойду прогуляюсь. Мне сейчас не помешает.
– Сейчас, ночью?
– Сию минуту.
– Я пойду с тобой.
Мать собирает в узел пышные волосы, готовясь спрыгнуть с кровати. Босая ступня изящна, с высоким подъемом.
– Я иду с тобой.
– Нет, спасибо, Карин. Мне необходимо побыть одному.
– Ты не можешь уйти вот так.
– Не тебе решать, что мне делать.
– Не уходи. Хуже нет, когда ты вот так уходишь.
Отец, направившийся уже было к двери, останавливается и оборачивается. Голос его спокоен и ясен.
– Одну вещь ты должна твердо усвоить, Карин. Ты в последний раз угрожала бросить меня и забрать детей. В последний раз, Карин! Ты и твоя мать. С меня довольно унижений.
– Это была не угроза.
– Тем хуже. Значит, мы теперь все друг про друга знаем.
– Очевидно.
– Я всегда был одинок. А теперь наступает настоящее одиночество.
Отец выходит, и Пу беззвучно скрывается за дверью детской, отец спускается по скрипучей лестнице, прихватив по дороге свою одежду, которая лежит на стуле возле гардеробной. Пу раздумывает, не пойти ли ему за утешением к матери. Мог бы, например, сказать, что у него болит живот и поэтому он не в состоянии заснуть, это срабатывает, когда мать в нужном настроении. Но что-то ему говорит, что вряд ли он дождется утешения именно сейчас. Пу украдкой заглядывает в комнату. Мать сидит, выпрямившись, на кровати, босая ступня на полу, она всхлипывает без слез и рукой проводит по щеке и лбу, словно снимая невидимую паутину. Всхлипывает еще раз и еще, потом глубоко вздыхает: да, тяжко.
Наперебой закричали деревенские петухи, один живет у Берглюндов, другой – у садовника Тернквиста.
Пу долго стоит в раздумье и наконец принимает решение. Да, так он и сделает, именно так. Все равно уже нет никакого смысла возвращаться в постель и натягивать одеяло на голову, как будто ничего не случилось, теперь, когда привычный мир раскололся вдребезги прямо у тебя на глазах. Пу прокрадывается в детскую и быстро одевается: вылинявшая рубаха, обрезанные трусы, шорты и фуфайка, сандалии в руке. Проскользнуть вниз по лестнице, стараясь не на-ступать на скрипучие ступеньки. В животе свербит от усталости и возбуждения, что-то ужасное сжимает его тощую грудную клетку, но он не плачет, плакать нельзя, прощения больше нет, обращаться с мольбами и слезами к Богу бессмысленно, Богу явно наплевать на Пу. Пу это давно подозревал. Ангелы-хранители улетели, размахивая крыльями, а Бог про него забыл. Может, Богато и нет вовсе. Кстати, это было бы на Него похоже. Небесный свод бел и безоблачен, солнце, громыхая, выкатывает свое исполинское колесо прямо под утесом Юрму. Река, прежде черная, превратилась в расплавленное серебро, уже почти день, в фуфайке жарко. В деревьях шумит ветер, неуверенно пробуют крылья птенцы ласточки.
Пу сразу же видит отца. Тот сидит на шаткой садовой скамейке под верандой. На нем рубашка без воротника и поношенные летние брюки, на ногах – тапочки, на плечи наброшена старая кожаная куртка. Он курит трубку. Трава покрыта росой, ноги у Пу становятся мокрыми. Он подходит к скамейке и присаживается.
Отец удивленно смотрит на сына.
– В такой час и на ногах?
– Хотел сходить в лес.
– Вот как? И можно спросить зачем?
– Посмотреть, не встречу ли привидение.
– Привидение?
– Призрак.
– И где?
– На месте самоубийства.
– Часовщика?
– Я ведь воскресный ребенок.
– Ты и правда веришь в привидения?
– Лалла и Май говорят, что они существуют. – Ну, раз так…
Разговор иссякает. Отцовская трубка булькает. Когда она гаснет совсем, он разжигает ее вновь, и Пу втягивает в себя запах, который он любит.
– Трубочный дым хорош от комаров, – говорит отец.
– Да, так рано, а комарья-то вон сколько, – вежливо отзывается Пу.
И вновь воцаряется молчание. Солнце вывалилось на горную гряду, уже белое и неистовое, Пу закрывает глаза, под веками жжет.
– Поедешь со мной в Гронес? До Юроса доберемся на поезде, а оттуда на велосипеде километров десять.
Отец, повернув свое большое лицо к Пу, смотрит на него голубыми глазами и, вынув изо рта трубку, повторяет вопрос. Пу молчит, он попал в практически безвыходное положение – у отца тяжело на сердце, он хочет, чтобы Пу поехал с ним. Пу не может ответить отказом.
– Я вообще-то собирался заняться железной дорогой, уложить рельсы, начиная прямо от уборной, где у меня будет конечная станция, до березы – там я установлю стрелки и поворотный круг. Йонте хотел прийти поиграть со мной, он обещал.
– Понятно. Можешь не отвечать прямо сейчас. Подумай.
Ласково улыбаясь, отец выбивает трубку о скамейку. На палец Пу села божья коровка. Тяжесть в груди не проходит.
– Мы поедем на этом маленьком товарном поезде, который отходит из Дуфнеса в девять утра по воскресеньям, в нем только вагоны для перевозки леса и один старый пассажирский. Прихватим что-нибудь поесть, а по дороге купим «Поммак". (Яблочный напиток.) Они сидят на расстоянии метров двух друг от друга. Роса испарилась, над рекой полоса тумана, день будет жаркий.
Теперь на минуту бросим взгляд в будущее. Год 1968-й. Отцу исполнилось восемьдесят два, он недавно овдовел. Живет в пятикомнатной квартире на Эстермальме. Хозяйство ведет сестра Эдит. Она сестра милосердия церковной общины, ей пятьдесят восемь, статная женщина в расцвете женственности, с теплыми карими глазами, опушенными длинными ресницами. Крупный, охотно, смеющийся рот, широкие, сухие ладони. Сестра Эдит когда-то проходила конфирмацию у отца и стала другом семьи. Говорит она на четком хельсингландском диалекте.
Отец был тяжелый инвалид, он страдал наследственной атрофией мышц, ходил в ортопедических ботинках, опираясь на палку, его красивые руки с длинными пальцами усохли. Между отцом и сестрой Эдит установились безмолвные, но проникнутые любовью отношения. Им явно было хорошо вместе.
Я поднимался вверх по южной стороне Гревтурегатан. Стояли последние дни зимы, шел дождь со снегом, на тающие сугробы и плохо посыпанный песком обледенелый тротуар падал резкий, но не прямой свет. Вот уж год, как мы с отцом жили во внешнем примирении и вежливом взаимопонимании. Но это отнюдь не означало, что ради этого мы копались в осложнениях, неприятии, недоразумениях и ненависти прошлого. Мы никогда не говорили с ним о наших ссорах длиною в человеческую жизнь. Но внешне наше ожесточение испарилось. Для меня ненависть к отцу была редкостной болезнью, которая когда-то давным-давно поразила кого-то другого, не меня. Теперь я помогал отцу в его денежных и некоторых других практических делах – задача не слишком обременительная. Я навещал его и сестру Эдит каждую субботу во второй половине дня, проводя у них по нескольку часов. Вот об одном таком визите я и расскажу.
Я сел в лифт, который со скрипучим эстермальмским достоинством поднял меня на последний этаж. Позвонил в дверь – два коротких звонка. Сестра Эдит открыла сразу же. Приложив указательный палец к губам, она прошептала, что нам надо быть потише: отец на час продлил свой послеобеденный отдых, ночь прошла беспокойно, мучили боли в бедре и спине. Я, тоже шепотом, предложил сестре Эдит поговорить о делах. Хорошая мысль, согласилась она и спросила, не хочу ли кофе или чаю, она как раз испекла булочки. Нет, спасибо, я прямо от стола, обедал с руководителями скандинавских театров, нет, спасибо. Сняв пальто и промокшие зимние ботинки, я сунул ноги в одни из отцовских тапочек, и мы расположились в комнате сестры Эдит. Комната, окна которой выходили на улицу, была не очень большая, но уютная: светлые обои, красивые картины и репродукции пастельных тонов, легкие занавески, уставленные книгами полки, небольшой двухместный диван и кресло, часы с маятником, украшенные искусными резными гирляндами. Кровать застлана широким, вязанным крючком покрывалом желтых тонов. У окна – белый письменный стол и два стула. Мы сели за стол. Эдит вынула папку и показала мне для порядка оплаченные счета, квитанцию о снятии денег с банковского счета и письмо от домовладельца о повышении с первого июля квартплаты. Прочитав письмо, Эдит вздохнула.
– Хуже всего, Ингмар, что Эрик постоянно беспокоится о своем финансовом положении. Хотя я его уверяю, что у нас все в порядке.
– Я поговорю с отцом.
– Пожалуйста, Ингмар, скажи ему еще раз, что я не собираюсь его бросать, и самое главное, что ты не намерен отдавать его в больницу для хроников.
– Вот как. Так-так. Он это утверждает?
– Он считает, что мы хотим забрать у него квартиру.
– Квартиру?
– Он иногда говорит, будто мне и тебе, Ингмар, нужна его квартира. И это только вопрос времени, когда мы заставим его лечь в больницу для хроников. И от этого он приходит в ужасное отчаяние, и ничего не помогает.
– А как ты, Эдит, себя чувствуешь?
– Я почти всегда хорошо себя чувствую. Меня беспокоит лишь одно – что твой отец, Ингмар, пребывает в таком горе. И что он живет в полной изоляции. Он страшно мучается, а я, хоть и рядом, ничем не могу помочь. И потом еще Смерть.
– Смерть?
– Честно говоря, мне кажется, что твой отец, Ингмар, боится смерти. Он прямо не говорит, но я знаю мысли Эрика. А поскольку он не желает показывать своего страха, то и тут остается в одиночестве. И делается раздражительным, бранится по мелочам. Ну, мне-то все равно. Пусть ворчит и бранится. Он же ничего плохого не имеет в виду. А иногда, уж слишком распалившись по поводу какой-нибудь ерунды, уходит из дома и возвращается с цветами для меня. Так что, как там ни говори, а нам с ним хорошо вместе. Но вот Смерть – это, пожалуй, тяжело. В этом я не могу ему помочь, и я не понимаю его страха. Ведь он все-таки священник и должен был бы верить в милосердие Христа. Но по-моему, он потерял веру. Бедный Эрик, какой опорой он был для стольких людей, и для меня тоже, для меня в первую очередь. У него была сильная и чистая вера, да ты сам знаешь, Ингмар, порой он прямо-таки светился верой и убеждением. Год спустя после смерти Карин мы часто беседовали о чуде воссоединения. Он был убежден, что они с Карин встретятся в мире ином, очищенные и просветленные. В наших разговорах присутствовала неподдельная радость, и я думала, как милосерден Господь, поддерживая в старом человеке такую уверенность в собственном воскресении. Не знаю, Ингмар. Я вот всплакнула, но ты не обращай внимания. Просто мне жалко твоего отца, Ингмар, он такой хороший человек. За что ему выпало такое, такое опустошение? Это жестоко, и я не понимаю смысла. Он мне очень дорог, и я действительно хочу сделать все, чтобы он обрел хоть немного покоя и радости в последние годы своей жизни.
Сестра Эдит высморкалась с негромким трубным звуком. Она определенно принадлежала к тем редким людям, которые становятся красивее, когда плачут. Она вытерла нос и смахнула с глаз слезы. И засмеялась.
– Я тоже малость чокнулась, разнюнилась как девчонка. Ты правда не хочешь чаю, Ингмар? Уже четыре. Может, мне все-таки пойти разбудить настоятеля? Ты спешишь, Ингмар? Погоди-ка! По-моему, я слышу его шаги. Да, он идет! Пока не забыла, я получила копию твоего денежного перевода, будет лучше, если ты возьмешь ее, Ингмар.
Сестра Эдит встала с той живостью в движениях, которая проистекает от твердости души и самоочевидной радости. В коридоре раздались гулкие шаги отца. Он шел, тяжело переставляя ноги в ортопедических ботинках, постукивала палка. Он постучался, Эдит крикнула «входите», и отец открыл дверь. Я уже было приподнялся, чтобы пойти ему навстречу, но что-то меня остановило. Стоя на пороге комнаты, он смотрел на нас отсутствующим взглядом. Жидкие волосы растрепаны, одно ухо – багровое. Он был в своем старом темно-зеленом халате, пропахшем сигарами, ладонь с синими прожилками судорожно вцепилась в ручку палки.
– Я только хотел узнать, не вернулась ли Карин, – пробормотал он, глядя на нас с Эдит, но не узнавая. – Карин уже вернулась?
В ту же секунду лицо его изменилось.
С болезненной стремительностью он осознал, где он и какова реальность: Карин умерла, а он опростоволосился. Улыбнувшись жуткой улыбкой, он извинился – простите, я еще не совсем проснулся.
– Здравствуй, сын, зайдешь ко мне ненадолго?
Он повернулся и зашаркал по темному коридору в свою комнату. Эдит застыла с папкой в руках.
– Ничего страшного! Не бойся, Ингмар. Эрику иногда кажется, что Карин где-то здесь, рядом. Он страшно огорчается, обнаружив свою ошибку: из-за того, что Карин мертва, а еще больше из-за того, что он опростоволосился. Я сейчас пойду к нему. А ты приходи через четверть часа.
Отец наклоняется к Пу: «По-моему, ты засыпаешь. Не пойти ли тебе лечь? Еще только пять. Три часа вполне можешь поспать». Пу мотает головой, молча: нет, спасибо, я хочу остаться здесь и смотреть на солнце. Я хочу быть рядом с отцом. Не спускать с него глаз, чтобы он, чего доброго, не испарился. Меня клонит в сон, но мне грустно. Нет, я не намерен ложиться и нюхать утреннюю канонаду и дерьмо моего братца, я, кстати, всегда проигрываю, когда мы соревйуемся. Пу широко зевает и мгновенно, как будто повернули выключатель, засыпает. Голова его свесилась на грудь, раскрытые ладони лежат на досках скамейки. Волосенки на затылке стоят дыбом, солнце припекает щеку. Отец, застыв, наблюдает за сыном. Трубка погасла.
Во сне Пу идет по лесу – знакомому и в то же время незнакомому. Журчит и плещется ручей. Над головой бегают солнечные зайчики. Он в тени, но все равно душно. Он движется вперед против собственной воли. Но вот он останавливается и озирается, это, без сомнения, место самоубийства, ждать недолго. Ручей журчит, а вообще кругом тихо, беззвучно снуют муравьи в муравейнике и на тропинке. Здесь уже нет разгорающегося солнечного света, здесь серая тень и удушливая жара, но тем не менее холодно. Пу замерз, он садится на корточки. За раздвоенной елью какое-то движение, Пу видит спину Часовщика. Тот стоит сгорбившись, жидкие волосы рассыпались по грязному воротнику. Вот он оборачивается и смотрит на Пу пустыми выпученными глазами без 5 зрачков, черный от запекшейся крови рот раскрыт, брови настолько светлые, что их почти незаметно, лоб чересчур высокий, серый, весь в пятнах. Не хочу, 2 это неправда, не хочу видеть этого, я не могу заплакать и не могу убежать, Часовщик высосал у меня все силы, чтобы явиться передо мной, я об этом где-то слышал, наверное, Лалла говорила: привидения пользуются жизненной силой людей, чтобы сделаться видимыми, поэтому человек и коченеет, теперь я попался, я сейчас задохнусь. Пу говорит что-то, клацая зубами: прошу прощения, я вообще-то не хотел приходить сюда, но я все равно здесь. Со мной что-то не в порядке, если я делаю такие вещи. Я не помню, как сюда попал – а вдруг это сон? Вдруг на свете так устроено, что я вижу сон, я сплю и больше никогда не проснусь.
Страх омывает Пу горячей струей, все его тело терзает неудержимая боль. Часовщик стоит лицом к Пу. Ветка частично скрывает привидение. Фигура покачивается, поднимая ветер, хотя кругом безветренно. Воскресный ребенок, стало быть, день Преображения Господня, стало быть. Теперь надо спросить. И Пу спрашивает, а не получив ответа, повторяет вопрос: Когда я умру? Часовщик задумывается, а потом Пу кажется, будто он слышит шепот, невнятный, неразборчивый из-за крови во рту и онемевших губ: Всегда. Ответ на вопрос: Всегда.
Слабое дуновение пробегает по лесу, где-то кричит галка. Часовщик покачивается на ветру, голова его отделяется от плеч и шеи, она приближается, и Пу почти не сомневается, что пробил его последний час, только вот интересно, куда голова вопьется зубами – в его голые руки или в колени. Черты лица расплываются, но выражение злобное. Тут ветер меняет направление, и лицо расползается, глаза повисли под ветвями ели, они гаснут, все привидение словно бы гаснет, руки всасываются в землю, сначала правая, кулаки разжимаются, и черные ногти падают как гнилые яблоки. Часовщик складывается пополам, и Пу видит красный след от веревки и кости, торчащие из горла. Все происходит внезапно, очень быстро, вот он исчез, остался лишь запах, запах плесени, точно под линолеумом в детской.
Пу с усилием стряхивает с себя сон и широко раскрывает глаза, чтобы его хитростью не заманили обратно в иной мир. Отец набивает трубку. Рядом с ним Марианн, она пришла с реки, с купания. Черные коротко остриженные волосы плотно облепили голову, лицо обращено к солнцу. На ней брюки и тонкая майка, сквозь ткань проступают очертания груди. Она босая. Отец говорит, что, мол, скоро семь и пора бриться. Марианн рассказывает, как было здорово искупаться там, у плота, хотя бревна прорвали ограждение и беспорядочной кучей застряли в береговом иле. Но все равно здорово, она была одна и могла купаться голой. Вода жутко холодная, градусов двенадцать-тринадцать, не больше, но говорят, в этом году река особенно холодная. «Слава Богу, есть шхеры, – говорит отец, зажигая трубку. – Там не утонешь в прибрежном иле».
– Пу едет в Гронес?
– Не знаю. Я спрашивал, но он, похоже, особого энтузиазма не испытывает.
– Я могу поехать, – предлагает Марианн.
– Разве ты не останешься с Карин?
– Я с удовольствием совершу велосипедную прогулку.
– Так, так, – с серьезным видом кивает отец.
– С тобой.
– Пу, наверное, будет рад, если ему не придется ехать.
– Мы могли бы поехать все втроем.
– Он собирался строить железную дорогу между уборной и песочной кучей. И Йонте обещал прийти помочь.
– Ну так как? Что скажешь? – спрашивает Марианн.
– Было бы неплохо, – отвечает отец с сомнением в голосе.
Пу потягивается и громко зевает.
– Я еду с тобой в Гронес, – говорит он решительно.
Отец и Марианн немного удивленно смотрят на Пу: так ты. значит, не спишь, вот это да. «Не сплю, – говорит Пу, – но сейчас пойду лягу и высплюсь. А в Гронес я поеду». Он поднимается, со слипающимися глазами трусцой заворачивает за угол, поднимается по лестнице в детскую, скидывает с себя одежду и сандалии, бухается в жалобно заскрипевшую кровать и зарывается головой в подушку. Он спит, не успев заснуть.
Без десяти восемь, Май безжалостно его тормошит. Даг, уже успевший одеться, приносит из материной комнаты графин и обливает брата. «Перестань,
– кричит Пу, Даг хохочет. – Дерьмо чертово», – кричит Пу защищаясь. Даг, отступив, кидает в брата сандалию. Май, дабы конфликт не кончился братоубийством, встает между ними.
Пу вынужден претерпеть еще кое-какие неприятные испытания. Май заставляет его почистить зубы, вымыть уши и постричь ногти. Кроме того, приходится надеть на себя чистую одежду: свежую майку, от которой чешется кожа, свежую рубашку, которая ему длинна, и чистые трусы. «Черт, до чего от тебя всегда воняет мочой, – враждебно говорит Даг, – ты что, не расстегиваешь ширинку, когда писаешь?» Из гардеробной приносят воскресные штаны – синие шорты с жесткими стрелками и идиотскими помочами. Пу протестует, но Май неумолима и готова, если потребуется, прибегнуть к насилию. «Высморкайся! – приказывает она, держа чистый носовой платок перед носом Пу. – Не понимаю, откуда у тебя столько козюлей в носу?»
– Это потому, что Пу все время ковыряет в носу пальцем, – поясняет Даг, присутствующий при унизительном одевании. – Ежели чего найдешь, поделимся, ладно? – И Даг с грохотом скатывается с лестницы. Пу садится на кровать, на него наваливается свинцовая сонливость. Май выходит из гардеробной, «Что случилось?»– спрашивает она участливо. «Меня тошнит», – бормочет Пу. «Поешь, и сразу станет лучше. Пошли, Пу!»
Кишки ворочаются и дрожат, твердая какашка давит на задний проход, просясь наружу. «Мне надо по-большому, – несчастным голосом говорит Пу, – очень надо». «Сходишь после завтрака», – постановляет Май. «Нет, мне надо сейчас», – шепчет он, чуть не плача. «Тогда поскорее беги в уборную!» «Мне надо сейчас», – повторяет Пу. «Бери ведро», – говорит Май, подталкивая ногой эмалированное ведро, наполовину заполненное грязной водой после умывания. Она помогает Пу с помочами и стаскивает с него шорты и трусы. Еще минута, и было бы поздно. «Живот болит, чертовски болит», – жалуется Пу. Май садится на край кровати и берет его руку. «Через несколько минут пройдет», – утешает она.
С лестницы кричит Мэрта: «Пу там? Пора завтракать. Пу там? Эй! Май!» – «У Пу болит живот, – кричит Май в ответ, не выпуская его руки. – Придем, когда придем».
«У Пу болит живот», – передает Мэрта матери. Обе стоят на лестнице. «Сильно болит?» – спрашивает мать. «Ничего страшного, мы уже почти закончили», – успокаивает Май. В столовой разговоры и возня, звон посуды и столовых приборов. «Ну, значит, скоро придете», – говорит мать спускаясь.
Лоб у Пу в испарине, сквозь загар проступила бледность. Глаза совсем ввалились, губы пересохли. Май гладит его по лбу. «Во всяком случае, температуры у тебя нет, значит, ничего серьезного, правда? Фу, какая вонища, может, ты чего не то съел?» Пу мотает головой, и еще одна волна спазмов сотрясает его тело. «Черт, дьявол, дерьмо, – выдавливает он сгибаясь. – Черт. Дьявол. Дьявольщина». «Тебя что-то заботит?»-спрашивает Май. «Чего?»-разевает рот Пу. На секунду спазмы отпускают. «Ты чем-то расстроен?» – «Не-е». – «Чего-нибудь боишься?» – «Не-е».
Приступ прошел, щеки Пу приняли свой обычный цвет, дыхание восстановилось. «Мне надо подтереться». «Можно вырвать лист из альбома для рисования, – предлагает Май. – Хотя бумага слишком плотная, пожалуй. Возьмем вот эту красную шелковку». «Нет, черт побери, – говорит Пу, – это же шелковка Дагге, он обычно заворачивает в нее свои самолеты, если мы ее возьмем, он меня пришьет». «Я знаю, – решительно говорит Май, – возьмем фланельку для умывания, ничего не поделаешь. Я постираю ее потом. Поднимай попу, Пу. Вот так, теперь славно, да?»
За завтраком мизансцена приблизительно та же, что и за обедом. Единственное различие – более строгие костюмы, ведь сегодня воскресенье, воскресенье двадцать девятого июля и, как уже говорилось, Преображение Господне. Обеденный стол накрыт не белой скатертью, а желтой узорчатой клеенкой. С люстры свисает медный ковш с полевыми цветами.
Воскресное утро, восемь часов. В бергмановской семье царят обычаи воинства Карла XII. В будни завтрак в половине восьмого, по воскресеньям на полчаса позже – вялая уступка матери, которая любит немного поваляться в постели по утрам.
Отец же, напротив, утром бодр, он уже успел искупаться в реке, побриться и перечитать свою проповедь. Предстоящая поездка привела его в состояние прямо-таки веселого возбуждения. Пу вместо обычной овсянки дали тарелку горячей размазни. Ароматной нежной размазни и ломоть белого хлеба с сыром. Приготовленных собственноручно Лаллой. Возражать никто не осмеливается, хотя и владыки-родители, и еще кое-кто из присутствующих считают, что размазня – это каприз Пу, а любые виды капризов способствуют зарождению и развитию всяческих грехов. Но никто не осмеливается протестовать против размазни, приготовленной Лаллой, – ни мать, ни отец, никто другой. Пу хлебает, он весьма доволен, но молчит. Боль улеглась, уступив место приятному оцепенению. Лаллина размазня заполняет сосущую пустоту, согревает изнутри – ведь от желудочных колик весь леденеешь.
Дверь в прихожую и дверь на крыльцо распахнуты настежь. Песчаная площадка сверкает в ярком свете.
– Сегодня будет жарко, – говорит мать. – Уж не грозы ли нам ждать.
– Каждый высказывается по поводу возможной грозы. Тетя Эмма совершенно уверена, ее колени предсказывают непогоду уже несколько дней. Лалла говорит, что простокваша в погребе осеклась, впервые за это лето. Мэрта утверждает, что тяжело дышать, у нее красные круги под глазами, на верхней губе капельки пота, наверное, температура. Отец весело замечает, что небольшая гроза не повредит, крестьянам нужен дождь. «Если пойдет дождь, будет хороший клев, – вставляет Даг, злорадно ухмыляясь. – Выдержит ли дождь мой бедный братишка? А уж как он грома боится, просто жуть».
Разговоры продолжаются. Мы разговариваем, а жизнь проходит, где-то сказал Чехов, и так оно, наверное, и есть. Проем двери на крыльцо внезапно заполняет круглая, чуть пошатывающаяся фигура. Это дядя Карл с небольшим чемоданом в руке. Он смущенно улыбается. «Ой, привет, Карл! – кричит отец.
– Заходи съешь чего-нибудь, и выпить найдется. У тебя, клянусь, вид такой, будто ты масло продал, а деньги потерял!» «Входи и садись, милый Карл, – говорит мать. В ее голосе сердечности несколько меньше, чем у отца. – Что-нибудь случилось, почему ты с чемоданом?» «Подать прибор?» – спрашивает Мэрта, приподнимаясь со стула. «Нет, нет, не беспокойся, – бормочет Карл, вытирая пот грязным носовым платком. – Можно я посижу немного?»








