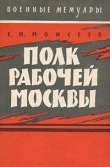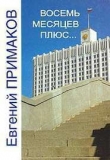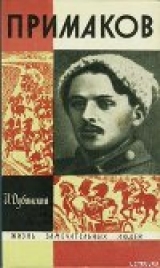
Текст книги "Примаков"
Автор книги: Илья Дубинский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц)
2. История и география
Уходил в прошлое богатый событиями XIX век. Среди сказочных просторов Черниговского Полесья затерялось забытое богом и людьми захудалое село Шуманы. Невесело там встречали приближение Нового года. Невесело, как и в соседнем селе Выхвостове, которое позже вместе с грозной «Fata morgana» Михаила Коцюбинского войдет в бессмертие.
А на восточной окраине Шуманов, отмеченной гигантскими осокорями, в добротном хуторе местного учителя веселились вовсю. Там шумные рождественские дни совпали с крестинами. У хозяина хутора родился ребенок. И не дочь, не казачка, а голосистый казак.
Изрядно подвыпивший батюшка полнозвучно чмокал счастливого учителя и все порывался облобызать «драгоценнейшие персты» красавицы учительши.
– Святая купель совпала со святым рождеством… Се воля всевышнего… Только вскормите его, высокомудрая матушка наша Варвара Николаевна, а там… В духовной семинарии у меня благотворствующая длань…
– Нет, батюшка, – млела от счастья молодая мать, – мы нашего Витюшу отдадим в гимназию…
– И то благо, – басило шумановское духовенство, – и там, то бишь в гимназиях, готовят достойных слуг государевых. Как и господу богу, и царю-батюшке також потребны добрые слуги…
Поп не зря низкопоклонствовал. Ломились, переполненные добром, просторные каморы хозяина. От своего отца, смекалистого панского приказчика, Марко Григорьевич унаследовал приличный надел. Круглый год не пустовали засеки шумановского учителя, и круглый год звенели в его хате голоса сыновей-казаков. Именно из таких вот сугубо благополучных хат позже, когда разгорелось пламя гражданской войны, и шли хлопцы под жовто-блакитные знамена лжеборцов за Украину. Одни рвались туда, горя священной ненавистью к таким, как Марко Гуща и Гафийка. А другие – одурманенные высокопарными призывами лжепророков и «курносых Мефистофелей»…
А вот хлопцы, все парни из крепкого хутора Примаковых, пошли совсем по иному пути. Сбылась мечта учительши из Шуманов – ее первенец попал в казенную гимназию. Но, вопреки мнению шумановского батюшки, гимназии готовили не только царевых слуг, но и его могильщиков…
Стал царским могильщиком и первенец Примаковых. Не царским слугой, а именно царским могильщиком. С самых юных лет он посвятил себя борьбе с неправдой. Может, и не сознавая своей роли, молодая Варвара Николаевна готовила почву для этого. Именно – не отец, а мать. Отец оставался учителем, и только. Хотя он потом и станет одной из первых жертв разгоревшихся вокруг страстей… Добрая душа, Варвара Николаевна не кичилась своими достатками, не сторонилась людей. Сердобольная женщина не закрывала глаза на человеческое горе. Этому она учила и всех своих детей.
С шумной шумановской детворой Виталий углублялся в загадочные чащи лесов, надрывал свой звонкий голос на зеркальных просторах Днепра, по которому его дед Гриць гонял плоты для панских строек. С шумановскими мальчишками первенец учителя пас лошадей и коров, обжигался у полевых костров ароматной, только что извлеченной из горячей золы картошкой, там же слушал волнующие рассказы о братьях-разбойниках и о героических походах бесстрашных запорожцев.
Искал он и заколдованные клады в далеких урочищах и, откликаясь на глухо доносившиеся с Дальнего Востока вести, самозабвенно играл с ребятишками в русско-японскую войну.
Юная душа зрела под влиянием материнской чуткости, людской отзывчивости, чистоты детской дружбы. С высокими думами о красоте родного края, о его пышных лесах, широких заливных лугах, о его трепетных рассветах и неповторимых закатах, о поросших камышами серебряных озерах, о голосистых птицах, с которыми состязались голоса шумановских девчат-полешанок, Виталий, не без душевной тревоги, покинул отчий дом.
Его практическое знакомство с географией началось в 1909 году с Чернигова – этого старинного города. А там, на окраине Северянской улицы, как и дома на окраине Шуманов, приютилась заслоненная высокими осокорями усадьба. Пламенные сердца ее обитателей, как и чуткое сердце горячо любящей матери, будут постоянно направлять молодого Виталия на стезю истины и добра, которая в ту пору могла стать для него лишь стезей борца. И не только борца…
Итак, первая географическая точка – Чернигов. Это и было пределом мечтаний непритязательных родителей бойкого и пытливого шумановского паренька. Ну, а прочие точки на географической карте? Прочие намечала сама жизнь…
Своим крутым нравом Виталий пошел не в отца и, конечно, не в мать. Мягкая, в сущности, его душа не терпела несправедливости. Против нее он бросался в бой сломя голову. В минуту мгновенных вспышек отступало благоразумие, разгоралась ярость. И тогда только мать с ее природной мягкостью творила волшебство. Она одна умела вернуть сыну душевное равновесие. В школе легко воспламенявшегося Виталия прозвали «Печенегом».
Пробовали его «укротить» гимназические начальники по методике тех недоброй памяти времен, но от крутой руки он делался еще круче. Вот тут творила чудеса лучший друг юности Оксана. И без слов. Она садилась за рояль. И ничто так не смягчало юношу, как исполняемая ею песня Шопена «Если б я солнышком…».
«Воспитывался до 8 лет дома, – позже, по просьбе армейских историков, писал о себе Примаков. – Рано, под руководством отца-казака, жившего на хуторе и учительствовавшего в народной школе, научился ездить верхом и стрелять из ружья. В 10 лет получил от отца подарок – двуствольное охотничье ружье и с тех пор уже считался взрослым.
Рос под большим влиянием деда – потомка запорожского казака…
Благодаря тому, что семья состояла из одних мужчин, – женщин, кроме матери и прислуги, в доме не было, – мы все, пять братьев, воспитаны были довольно сурово.
Одна лишь мать, кроткая и религиозная женщина, смягчала наши характеры своим влиянием».
3. Украинский «Буревестник»
Необычно хорош был октябрь 1911 года. Вернулось лето, «бабье лето», с ласковым солнцем и благодатным теплом.
Но об осени, о неминуемой поре увядания, всеми цветами радуги возвещали густые леса и перелески, рощи и кустарники, со всех сторон окружавшие тихий Чернигов.
Склоны Болдиной горы давно уже вырядились в пестрый праздничный убор, отмеченный легким золотом пирамидальных тополей и тяжелой багрово-рыжей медью красного дуба. В эту яркую палитру вкраплялись лимонные тона акаций, густая охра вязов, бураковые отливы дикой груши, кумач осин, оранжево-шафранная раскраска боярышника и табачные оттенки татарского клена.
Мягкий октябрьский закат обволакивал мерцающим сиянием тонкие березы – чудесные шандалы из чеканного серебра, щедро увешанные золотыми жетонами.
Скромная усадьба, приютившаяся на тенистой улице сонного городка – Северянской, позолоченная лучами заходящего солнца, оглашалась радостным визгом детворы.
Но вот скрипнула калитка – вернулся с Болдиной горы хозяин. Прежде чем вступить во двор, оглянулся, снял шляпу. Вдали, как обычно, маячил спутник, полицейский агент – «топтун», не спускавший всевидящих глаз с «опасного сочинителя».
Угрюмое лицо Михаила Михайловича, еще издали услышавшего детские голоса, вмиг посветлело. Писатель любил всех этих и крикливых, и застенчивых, и боязливых, и порывистых малышей, приходивших к его детям. Он на них смотрел как на самое счастливое поколение, которому дано будет совершить все не совершенное доныне.
А молодежь, заприметив отца, с радостным криком «тат-ко!» кинулась ему навстречу. Опередил всех самый младший, недавно вернувшийся с отцом из Крыма болезненного вида Роман. [3]3
В 1921 году Роман Коцюбинский вступил в червонное казачество.
[Закрыть]Взял из рук отца светлую шляпу и инкрустированную серебром палку – память Капри.
Поднявшись на широкую веранду, густо обвитую диким виноградом, Михаил Михайлович расстегнул верхнюю пуговицу серого пальто-реглана.
Усевшись в плетеное кресло, носовым платком он вытер вспотевший лоб, а затем и пышные, аккуратно расчесанные темные усы.
Ежегодные поездки к Средиземному морю не поправили здоровья писателя. Но его неодолимо тянуло в ту далекую страну.
О чем-то оживленно споря, к веранде приблизились старший сын писателя Юрий и его друг Виталий Примаков.
Не по годам вытянувшийся, голубоглазый, как и мать, Юрий тонким станом походил на отца. Виталий, моложе Юрия на год, был значительно ниже его. Но, сызмальства втянутый в физический труд, Виталий выгодно отличался от своего товарища ладным телосложением. Крепыш, умевший пускать в ход и бойкое слово и бойкий кулак, с широкими плечами и развитой грудью, не дававший спуску гимназическим верзилам – любителям притеснять малышей, он пользовался заслуженными симпатиями всего класса.
– Здоровеньки булы, хлопцы! Как успехи, бравые мушкетеры? – справившись уже с одышкой, спросил Михаил Михайлович. – Небось опять досадили наставникам, хранящим юность вашу?
– Да, сегодня педелям было жарко! – с плохо скрываемой радостью выпалил Юрий.
С малых лет юноша привык видеть в отце старшего друга, к которому можно в любое время прийти и со всеми печалями и со всеми радостями.
– А что случилось, Юрко? – поинтересовался Коцюбинский, пристально всматриваясь в озорное лицо сына.
– Крамола, татко, крамола! И где? На стенах актового зала!
– Прокламация? – с тревогой и радостью в голосе спросил писатель. – Что, опять «Долой царя!»?
– Нет, только несколько строк: «Буря! Скоро грянет буря!»
А Виталий, чуть волнуясь, с горячностью продекламировал:
– Это смелый Буревестник гордо реет между молний…
– Вот и все! – поправив форменную рубаху и чуть передвинув вверх лакированный гимназический ремень, сказал Юрий. – О царе ни слова. А переполоху!..
Скрипнула дверь, и на веранде, с мензуркой в руках, появилась Оксана. Широкоплечая, плотная, в коричневой юбке и кофточке из теплой шотландки, с вьющимися, повязанными темно-вишневой лентой каштановыми волосами, она, чем-то озабоченная, казалась старше своих тринадцати лет. Тепло улыбнувшись отцу, Оксана заставила его выпить лекарство. Тряхнув локонами, ушла в дом.
Необычная молчаливость и замкнутость словоохотливой и по-мальчишески бойкой Оксаны удивили Михаила Михайловича.
– Что случилось? – спросил он, пряча в карман носовой платок. – Ив женской гимназии тревожно?
– Нет, у них тишь и гладь да божья благодать! – ответил Юрий и, посмотрев на дверь, за которой скрылась сестра, перевел встревоженный взгляд на друга. Виталий, насупившись, уселся на приступку, подпер сжатым кулаком подбородок. – Зато у нас потрясли сегодня старшеклассников. И с особым пристрастием Ионю Туровского, Ивана Варлыгу, Николая Григоренко.
– Их таскали к Еленевскому и к Зинину, – угрюмо подтвердил Виталий. – Эта пара вороных поработала сегодня на славу!
Коцюбинский поморщился. Недоброй славой пользовался в городе директор гимназии – действительный статский советник Еленевский, атлетического сложения красавец, кумир светских дам и верная опора самодержавия. Под стать ему был и инспектор, гроза гимназистов, – статский советник Зинин, латинист, истязавший учеников двойками, холостяк, посещавший по субботам дома платной «любви». От «пары вороных» не отставала и «пара гнедых» – математик Булыга и учитель закона божия поп Величьовский, все эти наставники, «хранившие юность» черниговских гимназистов.
А таких, как классный наставник Буров, не дававший в обиду учеников, звавший их к истине и добру, Еленевский долго в гимназии не держал.
– Что ж, – потирая руки, улыбнулся Михаил Михайлович, – наша молодежь видит знамение времени не в «Ключах счастья» Вербицкой, не в «Санине» Арцыбашева, а в «Буревестнике»… Расчудесно!..
За своего первенца Михаил Михайлович был спокоен. Его не пугала мысль о том, что дети, пренебрегши родительским воспитанием, вырастут эгоистами-себялюбцами, для которых собственное благополучие может стать превыше гражданского долга. И он и мать Юрия – Вера Иустиновна, оба занятые большим общественным делом, внимательно следили за ростом и развитием детей, пристально изучали и их наклонности и их друзей. Они радовались в душе, обнаружив, что, начиная с первого класса гимназии, Юрий искал товарищей не среди избалованных сынков черниговской знати. Он тянулся к серьезным, вдумчивым мальчикам.
Юрий и его ближайший друг Виталий не долго увлекались Жюлем Верном и Вальтером Скоттом. Отдав юношескую дань этим авторам, они рано стали интересоваться книгами о восстаниях Спартака, Гарибальди, Емельяна Пугачева, Степана Разина. В тринадцать лет они прочли почти всего Пушкина, Шевченко, Гоголя, Тургенева.
Как и вся передовая молодежь того времени, Юрий и Виталий почитали писателя-бунтаря Максима Горького. Оба хранили широко распространенный литографический снимок автора «Буревестника» – аскетически худого, с волевым блеском умных глаз, с падающими до плеч волосами, в длинной косоворотке, подпоясанной витым шнурком.
И Юрий и его друзья радовались вместе с Оксаной, когда она получила с острова Капри фотокарточку писателя с теплым автографом. В какой-то степени отцовское дарование перешло к дочери. Оксана сама начала писать рассказы, стихи. Автор «Буревестника», ознакомившись с творчеством старшей дочери Коцюбинского, прислал ей на память одну из своих книг и ожерелье из дымчатых темно-сиреневых аметистов.
– Таскали к начальству и нас, подростков, – сорвав золотисто-багровый листок дикого винограда, продолжал Юрий. – Меня, Виталия, Имшенецкого, Муринсона. [4]4
Оба погибли во время гражданской войны.
[Закрыть]Учинили допрос похлеще, чем по делу Добычина…
– Что ж им нужно было от вас – юнцов? – с негодованием в голосе спросил Михаил Михайлович.
– Зинин стучал кулаком по столу: «Знаем, откуда ползет зараза – этот дух „Буревестника“!» Забыл, дьявол, как Добычин накрыл его шинелью в раздевалке…
– На меня директор не кричал, – сказал Виталий и затем довольно точно изобразил, как Еленевский картинно расчесывает руками окладистую бороду снизу вверх и вправо-налево. – «Вот твой отец, – внушал он мне, – хороший человек. Всеми уважаемый. И мы его почитаем. А ты юноша…» – Виталий вдруг осекся.
– Продолжай, хлопче, – подбодрил его Коцюбинский. – Советовал не дружить с Юрием, не ходить в наш дом?..
– Наплевать на все его слова! – порывисто вскочил юноша с приступки и, широко раздувая ноздри, как-то по-взрослому выпалил: – А на что у меня голова на плечах, Михайло Михайлович? Но сегодня этот педель, Зинин, все тюфяки вспорет в интернате…
– Голова на плечах… Это не такая уж плохая штука, – усмехнулся Коцюбинский, неторопливо расстегивая и застегивая тонкими пальцами пуговицы светлого пиджака. – Садись, садись, Виталий. Не горячись, дружище. Вот, дети мои. На нашу долю, долю нашего поколения, выпала очень серьезная эпоха. Но вас ждут еще более интересные времена… времена крепких бурь и великих потрясений…
4. Под знаменем истины и добра
Юрий и Виталий, усевшись на ступеньки крылечка, тесно прильнули друг к другу. Это была не первая задушевная, от сердца к сердцу, беседа, которую вел писатель со старшим сыном и его другом. Затишье, наступившее после революционной бури 1905 года, было непрочным, предгрозовым. Михаил Михайлович с тревогой думал об испытаниях, ожидавших молодежь.
Борьба за дело народа, которая не угасала ни на миг, ждала борцов и вожаков, и их на смену «павшим, в борьбе уставшим» должно было выдвинуть юное, подраставшее поколение. Еще свежи были в памяти людей грозные события 1905 года. Вспышки народного гнева, эти зарницы грядущей грозы, возникали и в самых глухих уголках царской России. Герои Коцюбинского теперь уже не на страницах «Fata morgana», а на суровой арене жизни, вооружившись косами, вилами и топорами, двинулись на штурм дворянских гнезд.
Гимназисты через соучеников-провинциалов узнавали и иное – о разгуле карателей в Конотопе, Клинцах, Шостке, Глухове и в других уголках их крестьянской губернии. Тяжелые события того грозного времени – и восстания угнетенных и жестокая расправа с народом – оставили горький, тяжелый осадок в сердцах юношества. А тут черная сотня из «Руси», «Колокола» и «Киевлянина» подняла шум, что им «нужна Великая Россия, а не великие потрясения», и, оплевывая нарождавшееся братство по духу, взывала хранить и крепить братство по крови.
Опасность, угрожавшую молодежи, ее нравственным принципам, Михаил Михайлович ощущал не только как честный, связанный навеки с народом художник, но и как отец.
Обращаясь к юношам, писатель сказал:
– Царю нужны верные слуги. Но, вопреки воле начальства, гимназии воспитывают и слуг народа. И они, эти слуги народа, обязаны знать более, чем слуги царя. К чему я это говорю? К тому, чтобы напомнить вам, что ваша пора – это пора ученья… Знаем мы о ваших тайных кружках. Знаем, что каждый выучил назубок гневные речи Демосфена и Сен-Жюста. Знаем, что ваши юные сердца, жаждущие подвигов, полны стремления «глаголом жечь сердца людей». Но всему свое время. Придет и для вас святая пора борьбы… Она не за горами…
– Татко! – порывисто вскочил на ноги Юрий. – Тебя жандармы хватали? Сколько тебе было?
– Восемнадцать!
– А нам по пятнадцать! – с гордостью заявил молодой Примаков, хотя ему и оставалось полных два месяца до четырнадцати. Пятнадцать было одному Юрию.
– Три года разницы, – мягко улыбнулся Михаил Михайлович, поеживаясь от вечерней сырости. – А три года теперь кое-что значат. За один год может произойти то, что в иное время не случится и в десять. В одном я уверен, дети мои, вам не придется повторять: «Суждены нам благие порывы, а свершить ничего не дано»…
Слова Коцюбинского оказались пророческими.
Пройдет каких-нибудь семь лет, и один из юношей по воле партии станет командующим советских войск Украины, а другой – строителем и вожаком ее боевой конницы – червонного казачества.
– Отец, а что ты скажешь о генерале Раевском? Под Бородином кто повел под огонь своих мальчиков? – Юрий с укором в больших голубых глазах посмотрел на отца. – А ты? Ты жалеешь нас?
– Что ж, Юрко, генералу Раевскому честь и хвала! Не зря его славил и Пушкин. Но мы же пока не на поле боя. Голубь не вытолкнет из гнезда птенцов с неокрепшими крылышками. Жизнь – это непрерывный поток. Сейчас пора одних, а спустя немного подхватят эстафету другие.
– А мы, Михайло Михайлович, и не знаем даже, кто это преподнес пилюлю начальству! – насупив брови и метнув лукавый взгляд на своего друга, сказал, возвращаясь к прежней теме, необычно хмурый Виталий. – Досадно! Мы можем только догадываться!
– Не побоялись допросов, исключения, а может, и Сибири, – в голосе Юрия явно прозвучали нотки восхищения.
Дети из таких очагов, каким был семейный очаг Коцюбинских, росли в атмосфере революционной романтики. Росли они в то тяжелое время, когда несправедливости, вопиющей кривды, «великой скорби народной» было больше чем достаточно.
Из разговоров старших, из рассказов сверстников юноши узнавали многое. Приезжавшие на каникулы молодые большевики, студенты-питерцы рассказывали о той борьбе, которую вел рабочий класс России.
Много было разговоров о ссыльном студенте-большевике Владимире Селюке. И он и питерские студенты – Короткий, Гриневич, Присядько – создали в Чернигове несколько революционных кружков.
– А проповедь директора и законоучителя! – продолжал Виталий. – Батюшка Величковский говорил: «Буревестники – это антихристы. О них надо сообщать исповеднику». Директор пел свое: «Если вас, малороссов, так уж волнует прошлое, то читайте „Тараса Бульбу“ Гоголя…»
Писатель, внимательно слушавший юного гимназиста, с артистическим талантом подражавшего всем интонациям директорской речи, усмехнулся и рассказал детям, что канцелярия губернатора тоже советовала интересоваться «Тарасом Буль-бой» и запрещала читать «Мертвые души» того же Гоголя, «Каменяров» Франка, «Мать» Горького. А в самой «Просвите» [5]5
«Просвита» – легальные культурнические организации, возникшие на Украине в 1906 году.
[Закрыть]ее верховоды, панки и полупанки, охотно рядятся в широкие штаны Тараса Бульбы и не желают проникнуться его широким, народным духом. Самостийная держава сытых хуторян – так им представлялась высшая заповедь национального и социального освобождения. Меж тем раздавались и тогда трезвые голоса, заявлявшие, что нельзя даже широкими, как Черное море, шароварами Тараса Бульбы заслониться от екатеринославских сталеваров и юзовских шахтеров. Но самостийники пели одно: «На нашем возу сидят, наш хлеб едят, нехай нашу песню поют. Работала мастеровщина на москалей, нехай поработает и на нашу державу».
Но это все были шуточки. Не обижались на писателя просвитянские воеводы, когда он им говорил, что нельзя туманить мозги молодежи розовым прошлым, отворачиваясь от современности. Но они сопротивлялись, когда он требовал вычеркнуть из просвитянских программ Винниченко и включить Горького. Коцюбинский пытался сделать из «Просвиты» средство просвещения, а панки превратили ее в орудие оболванивания. Он, стоявший под знаменем истины и добра, звал людей вперед, а они – очумелые хуторяне – тянули их назад.
Но восстали они против писателя по-настоящему, когда он, под одобрительные возгласы многих рядовых просвитянцев, всерьез заявил, что украинский народ завоюет национальное освобождение не под главенством хуторян, а под руководством шахтеров, молотобойцев, кузнецов. Это было сказано и в «Fata morgana» образом Марка Гущи. Ведь не зря Горький еще в 1909 году обратил внимание украинского друга на статью «Лев Толстой, как зеркало русской революции». О ее авторе, вскрывавшем философию непротивления злу, Алексей Максимович говорил с особой теплотой.
По доносу хуторян, считавших себя «щирыми украинцами», губернатор выгнал Коцюбинского из «Просвиты»…