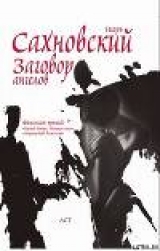
Текст книги "Заговор ангелов"
Автор книги: Игорь Сахновский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Глава пятая ЛОГИКА БЕЗУМИЯ
Фотография была убийственно резкой, с чудовищным тройным увеличением голого лица – на всю обложечную полосу бульварной цветной газеты. Зоной оккупации хроникёров стали нежные рытвины, поры, морщины, залитые слезами, как траншеи дождевой водой. Личное горе в ловушке длинного фокуса.
После такого снимка даже скупое официальное извещение, набранное ниже «таймсом», казалось болтливой чрезмерностью: «По просьбе Её Величества Елизаветы II Букингемский дворец сообщает, что Её возлюбленная мать, королева Елизавета, скончалась во сне в субботу во второй половине дня в королевской резиденции в Виндзоре».
Это было то самое лицо из неба саванны, из ажурного коронованного овала, которым я когда-то любовался на колониальной африканской марке. Миллионные людские легионы, целые поколения видели это лицо настолько часто – на монетах, купюрах, марках, – что уже привыкли воспринимать его просто как человекообразный трёхмерный символ. А тут – застигнутая фотографом усталая старая женщина вся в слезах, потому что у неё умерла мама.
Весной 2002-го, в первых числах апреля, я сидел в людном кафе неподалёку от вокзала Кингз-Кросс, разглядывая эту жестокую газету с сообщением о кончине королевы-матери. Две разгорячённые пивные компании за соседними столами создавали столь мощный стереоэффект синхронного хохота, что любой наивный иностранец мог бы сразу выбросить из головы все мифы об английской чопорности. Сидящая наискосок от меня привокзальная профессионалка лет сорока с готическим макияжем и длиннющими ногами в коротковатых чёрных чулках достала кисет, блокнотик сигаретной бумаги и, не прячась ни от кого, слепила пахучую самокрутку. Я попробовал изменить оптику, взглянув на всё это глазами провинциальной англоманки Лиды, моей королевы-матери с тихим чужбинным взглядом. Почему она не дожила, не дотерпела до открытых границ, до моей самостоятельности, когда бы я легко и свободно привёз её сюда? Что бы она сейчас делала за этим столом? Скорей всего, заказала бы фиш энд чипс: не из пристрастия к дешевизне, а из любопытства и доверия к знакомой классике. С голодным девочковым простодушием обрадовалась бы огромной порции рыбного филе, выпирающего за края тарелки, и пузатенькому, золотисто поджаренному картофелю. Пиво она бы не стала заказывать. Ну, может, раза два отхлебнула бы моего лагера. Тут профессионалка состроила мне глазки и закинула ногу на ногу, давая возможность оценить по достоинству сиреневатый кусок бедра между юбкой и чулком. «Красивая девушка, – сказала бы королева-мать с полным ртом. – Её бы только умыть хорошенько. И почему у неё ногти чёрные?»
В эту минуту мне позвонила Дороти и спросила о ближайших планах. Планы были проще простого: допить свой согревшийся лагер, дойти до вокзала и сесть на поезд, уходящий в сторону Эдинбурга.
Дороти жила в графстве Хэмпшир и говорила на очень внятном английском, что выгодно (а иногда невыгодно) отличало её от большинства знакомых мне лондонцев. Чуть ли не половину всех фраз Дороти начинала со своей любимой присказки: «To be honest…»[5]5
естно говоря (англ.).
[Закрыть] При этом она специально ради меня замедляла речь, словно опасалась, как бы я случайно не спутал её правильную возвышенную честность с чьейнибудь неправильной лживой задницей.
– Честно говоря, я сейчас в Портсмуте. Поэтому не успеваю приехать. Абсолютно. Прости! Мне так жаль… А тебе?
Честно говоря, мне и так было ясно, что в этот раз мы с Дороти не увидимся. И до того момента, как она позвонила, я даже не успел о ней подумать. To be honest.
– Ну, значит, в следующий раз. Теперь уже летом.
– Да! И вот… Я же обещала снова тебя свозить на Тот Свет. Помнишь?
Ещё бы я не помнил. Мы с ней однажды там почти побывали. И, само собой, ещё побываем – куда мы денемся?
К концу разговора я подумал по-русски: «Блин, Дороти, если ты напоследок снова скажешь мне какое-нибудь идиотское „bye-bye“, то я просто не знаю, что я с тобой сделаю!»
Нет, говорит: «Целую». И на том спасибо.
Я оставил чужую газету с той потрясающей фотографией на столе кафе, хотя меня так и подмывало уворовать её на память. А в середине апреля мне попадётся на глаза очередной выпуск того же цветного таблоида, где с неменьшим трагизмом на обложке будет изображён правый полузащитник Дэвид Бекхэм, покидающий футбольный газон на костылях с травмой ноги. Подозреваю, что стонов на эту тему по всей Англии было гораздо больше.
Мне кажется, прямо на наших глазах в конце девяностых – начале нулевых в мире случилось окончательное обнуление драгоценного древнего мифа о божественной породе и особой прелести всего королевского. Слабеющую мистическую ауру траванули напоследок дихлофосом массового вкуса. Предпоследним актом трагедии была даже не гибель Дианы Спенсер, милой, вполне заурядной девушки с мужским подбородком и неуклюжей судьбой, а успешно прокрученная кампания рекламной скорби, похабная атака на стареющую королеву, которая до последней минуты отказывалась участвовать во всенародном аттракционе под девизом «На миру и смерть красна!», но в результате уступила. Как водится, ум платит пошлину глупости «за то, что та глупа», и пошлость в очередной раз доказывает свою непобедимость.
Называя королевский миф драгоценным, я неизбежно подразумеваю бессчётное количество девочек со всего мира, которые упорно воображали себя королевнами; наших мам, сестёр, будущих возлюбленных и жён, рисовавших в детских тетрадях или на бумажных огрызках немыслимо дивных принцесс и королей разного калибра. Понятно, что это не было торжеством монархической воли – это ясноглазый ребёнок по своему хотению присягал блистательному идеалу женственности и мужественности, который теперь, судя по многим признакам, уходит насовсем. Законы карточной игры позволяют хитроумному плебеистому джокеру подменять собой хоть даму, хоть короля.
Сейчас я заметил, что непроизвольно оттягиваю приближение моего рассказа к той чёрной сквозящей дыре, которую оставила после себя женщина по имени Хуана Безумная. Не слишком соблазнительная тема для историков и ценителей костюмной романтики. Разве что – пища для умствований психопатологов, умеющих найти во всякой душевной аномалии срамную и уголовную этиологию, зловещую тайну родом из младенчества, а заодно и собственные неоперабельные комплексы, – но только не запредельную концентрацию нормы, которая, в сущности, была и остаётся самой большой тайной.
Пресловутое безумие Хуаны Первой становится чуть более доступным для понимания, если иметь в виду, что ей, попросту говоря, уготовили участь новогодней ёлки: угнанной, как невольница, из родимого леса, разряженной и осыпанной блёстками по самую макушку, облюбованной и воспетой хороводом гостей, а затем лежащей на помойке, возле мусорных баков, при свете заблёванного пасмурного утра.
Вот так она лежала однажды целые сутки в одной и той же позе, отказываясь от еды и от жизни, у запертых крепостных ворот замка Медины-дель-Кампо, откуда ей не позволяли бежать во Фландрию к любимому мужу. А ему, как известно, эта любовь успела надоесть хуже горькой редьки.
Место у ворот давно стало обжитым отстойником для человеческих отбросов, чем-то вроде тамбура, где толклись юродивые и попрошайки. Неистребимо пахло собачьей и людской мочой. В тот день стража отогнала всех прочь от тяжеленных ворот, потому что к ним соизволила припасть Хуана, дочь королевы Изабеллы. Изгои смешались с порядочной публикой в одну потрясённую толпу. Распластанная в пыли полоумная инфанта – это был невиданный спектакль для кучи ротозеев. Смотрелось довольно диковато. Стражники устали стоять и досадливо отворачивались. Люди осуждающе молчали. Собственно, любящий человек в глазах нелюбящих всегда выглядит избыточно и диковато.
Хуану отдали замуж в семнадцать лет: бросили, как сахарную кость, в политическую псарню. Кость досталась видному влиятельному кобелю – Филиппу Красивому, эрцгерцогу Австрийскому, повелителю Бургундии, Фландрии, Люксембурга, Брабанта и прочих феодов.
Когда в августе 1496-го инфанта Хуана по воле родителей отправилась во Фландрию в качестве невесты, её терзал всего один человеческий вопрос: «А вдруг я не смогу его полюбить?»
Когда же спустя несколько лет её воля станет решающей для целой империи, Хуана по-прежнему будет задаваться ничтожными человеческими вопросами вроде «любит или уже разлюбил?» и «почему вообще люди разлюбляют?». Как тут не заподозрить безумие?
Прибыв ко двору Филиппа, умытая страхом невеста вручила ему торжественное родительское послание, которое жених только пробежал глазами, поскольку ему не терпелось сграбастать эту худосочную, зато свежую кастильскую девицу и унести в спальню. Там он приказал гостье раздеться, неожиданно ладонью скомкал её лицо, сдавил горловой хрящ и жёстко, стремительно изнасиловал. Пахнуло почему-то горелым мясом. Полузадушенной Хуане почудилось, что он выжег у неё внутри продолговатое клеймо, и это неутихающее жжение она будет потом ощущать годами. Через восемь дней Филипп и Хуана сочетались браком с высочайшего благословения Папы и святой церкви.
Высочайшее благословение, однако, не помешало молодожёну уже на ближайших дворцовых пирах заставлять придворных дам соревноваться в показе, у кого ярче накрашены соски, а юной супруге – обнюхивать простыни в комнате Филиппа, умирая от стыда. После монашеских строгостей испанского двора Хуана чувствовала себя так, словно угодила в дом свиданий. Это плохо сочеталось с той чистой радостью, какую способно причинить девушке самое начало её главной, пожизненной любви. Она полностью доверилась неписаному сердечному закону, впустила глубоко в себя, как некий природный договор: я принадлежу только ему, он принадлежит только мне, и одна лишь смерть способна разлучить нас.
Поразительная гибкость для гордой наследницы кастильских монархов – ей вдруг понравилось быть покорной, стелиться нежным шёлком, удовлетворяя прихоти мужа. Будь он в тысячу раз более сложной натурой, она бы сумела прильнуть к его изломам и граням, повторить форму близкой души. Но никакими особыми сложностями натура Филиппа не страдала, и прихоти его были короткими и прямыми, как одноименная кишка: лишь бы в подходящий момент легла и раздвинула бёдра. Ложилась и раздвигала. Служанки находили утеху в том, чтобы замирать под дверями спальни, подслушивая, как кричит их госпожа – беспомощно и пронзительно.
Очень скоро Хуана обнаружила, что Филипп изменяет ей с новенькой пухлой фрейлиной. Худоба жены больше не прельщала его новизной. Влюблённость и преданность стали неотличимы от назойливости.
Она крикнула ему в лицо: «Предатель!» – крикнула так, что услыхала вся Фландрия. Он ударил её с размаху по виску, не снимая охотничьей перчатки. И тут же испугался, что убил: ещё утром у его ног лежала мёртвая косуля. Когда Хуана слабо пошевелилась, он отвернулся и пошёл к выходу, но что-то заставило его оглянуться. Она лежала на спине с поднятым до груди подолом, разведя в стороны голые тонкие ноги, и молча упрашивала: вернись.
К двадцати одному году она была матерью девочки и мальчика, которых выкормила своим молоком. Всего же Хуана подарит Филиппу пятерых детей, а шестой ребёнок станет подарком от мертвеца.
В начале декабря 1504-го взмыленный гонец принёс плохую весть из Испании: умерла королева Изабелла. Это означало, что Хуана становится обладательницей короны и единственной наследницей кастильского престола.
Между тем в завещании Изабеллы сквозил опасный зазор: мать особо оговаривала, что в случае недееспособности дочери править от её имени будет отец, Фердинанд Арагонский. Зять Филипп в завещании не упоминался вовсе, и, разумеется, это его не порадовало. Вся власть досталась юной измученной женщине, сходящей с ума от любви к мужу.
Спрашивается, кто первым рискнул прилепить к её имени прозвище la Loca?[6]6
Сумасшедшая, безумная (исп.).
[Закрыть] И кто посмел бы сказать такое за её спиной, а потом в глаза, кроме обожаемого супруга? Авторство и первенство не вызывают никаких сомнений, это придумал Филипп Красивый. Умысел прозрачнее дырявого решета: как можно чаще и грубее возбуждать ревность Хуаны, доводя её до отчаянья. Пусть она сама докажет своё умопомешательство. После чего останется официально объявить королеву невменяемой и столковаться со стареющим тестем – по-хорошему или по-плохому.
Интрига почти удалась. Во всяком случае, миру был явлен едва ли не первый в истории прецедент, когда страсть и ревность юридически квалифицировались как изобличительные признаки безумия.
Вечерние увеселения во дворце стремительно перетекали в ночные оргии. Факельный чад и женские визги, телесные и винные испарения достигали таких концентраций, при которых просто слух и просто дыхание, казалось, были уже несовместимы с жизнью. Хуану, главную зрительницу этих потных празднеств, преследовало ощущение, будто она очутилась в чреве громадного ненасытного животного, где скользко ворочаются пахучие внутренности, где груды безвольных мятых плодов, истекающих соком, смешаны в кишечной тесноте с волосяным салом и бледными потрохами.
Вина Хуаны Безумной в том, что она не скрывала рвотного рефлекса. Для чуть большей сдержанности ей потребовалось бы в триста раз больше равнодушия.
В 1506-м, на последнем году супружества, муж всё чаще одаривал её побоями, называл бешеной сукой и запирал на ночь за стеной, пропускающей бодрые звуки из его спальни. Бешеная сука не переставала оправдывать своё прозвище.
В июне произошло событие, которое Филипп отпразднует как самую сладкую победу в своей жизни. На пьяных родственных посиделках он сумел спеться с Фердинандом – и в результате был подписан договор, фактически отнимающий власть у неразумной жены в пользу разумного мужа.
Лучше бы он ничего не праздновал.
Трудно отделаться от впечатления, что, сместив Хуану и забрав кастильскую корону, этот двадцативосьмилетний красавец сам себя приговорил. Лето 1506 года стало для него последним.
Смерть, которая случилась 25 сентября, была настолько молниеносной, что никто ничего не успел понять. Рассказывают, что 21-го или 22-го Филипп играл в мяч, потом, разгорячённый, изволил выпить ледяной воды. В итоге только это и было записано в хрониках. Менее достоверные источники намекают: на теле несчастного обнаружили свежие кровоточащие язвы. Версия убийства, в частности отравления, – не более чем версия. Тот факт, что Фердинанд Арагонский получил наибольшую политическую выгоду от смерти зятя, вернув себе регентство, ещё ничего не доказывает.
Так или иначе, Филипп умер – и теперь его тело полностью принадлежало вдове. Она вдруг взяла на себя роль собаки, стерегущей труп хозяина. Нормальная человеческая потребность как можно скорее похоронить мертвеца (из почтения, страха или брезгливости) у неё отсутствовала. Отныне Хуана будет твёрдо и последовательно удостоверять свой изгойский статус Безумной.
Кто-то пустил слух, что согласно тайному предсказанию Филипп должен воскреснуть через 14 лет. Вряд ли сама Хуана в это верила. Однако высокочтимый архиепископ Молинарский счёл нужным предупредить вдову: ни о каком воскрешении речи быть не может. Тем более что при вскрытии и бальзамировании у покойника вырезали сердце.
Хуана ответила холодно:
– А разве оно у него было?
Первый раз она приказала открыть гроб, когда тело находилось во временном склепе в Бургосе, спустя пять недель после кончины. Траурное свидание проходило без свидетелей.
Через шесть часов Хуана вышла к людям и объявила, что они с Филиппом отправляются в Торквемаду. (Можно было надеяться, что хотя бы таким путём прах постепенно доберётся до королевской усыпальницы в Гранаде.)
Пока свита готовилась к этому странному путешествию, Хуана Безумная снова изъявила желание увидеться с мужем. Гроб открыли второй раз. Второе свидание было менее продолжительным, и в тот же день королева зачем-то известила приближённых, что она снова беременна.
Процессия тронулась в путь ночью – и впоследствии передвигалась только по ночам, как того требовала Хуана. В хрониках сохранились её слова: «Бедной вдове, утратившей солнце своей души, незачем показываться людям при свете дня».
Ехали и шли по темноте изнурительно долго и медленно.
В дневное время траурный кортеж просто стоял под безучастным небом. Иногда устраивали привалы в монастырях, причем, по настоянию Хуаны, только в мужских. Один раз по ошибке вошли в женскую обитель, но тут же сбежали от святых сестёр как от чумы. К слову сказать, участники процессии, тихо проклинавшие свою умалишённую королеву, позднее благодарили её как спасительницу: сама того не ведая, она увела их от чумы, которая в те месяцы свирепствовала в Бургосе. Кто-то заявил даже: рука Божья отвела их от гибели с помощью Хуаны.
Иногда на дневных стоянках она приказывала музыкантам играть звонкую танцевальную музыку, чтобы порадовать душу усопшего. Гроб приоткрывали, стараясь окружить его тенью, но любознательные мухи садились на саван, замаранный сохлой сукровицей.
Заход солнца служил сигналом к продолжению пути. У историков нет общего мнения о том, сколько времени тянулись эти бесконечные похороны. Кое-кто утверждает, что Хуана владела телом супруга и возила его по стране около трёх лет. Но по крайней мере не позже января 1507-го, на четвёртом месяце траура экспедиция доползла до селения Торквемада, где Хуана родила от мертвеца девочку – будущую королеву Португалии Екатерину Австрийскую.
Гроб открыли в очередной раз, поскольку мать пожелала познакомить отца с новорождённой. С того дня Хуана будет жадно вслушиваться в лепет своей малышки, пытаясь в нём уловить загробные сообщения от мужа.
Короткий период душевного затишья, включая месяцы, прожитые в Торквемаде, стал для неё последним огрызком свободы, которую она вскоре потеряет навсегда. К этому времени относится не очень отчётливое на первый взгляд, но поразительное по сути своей признание, сделанное Хуаной в исповедальном разговоре с архиепископом Молинарским.
Вот что она сказала: «Мы оба виноваты с моим несчастным Филиппом. Мы слишком сильно прикасались друг к другу. Люди не должны касаться друг друга так сильно».
Видимо, предчувствуя необозримо долгую, одинокую неволю, она в последний раз приказала открыть гроб и напоследок нашептала мужу всё, что считала нужным.
В 1509 году заботливый регент Фердинанд упрячет свою тридцатилетнюю дочь Хуану в крепость Тордесильяс, где она, формально сохраняя за собой корону, проведёт взаперти всю оставшуюся жизнь – сорок шесть лет. Потасканный и залюбленный прах Филиппа наконец захоронят в Гранаде.
Через семь лет, когда не стало Фердинанда, навестить узницу приехал её старший сын Карлос вместе с сестрой Элеонорой. Он чуть не наступил на хлеб и сыр, оставленные стражей на каменном полу, словно корм для собаки, посмотрел в горькие беспомощные глаза родившей его женщины и, с облегчением выйдя наружу, на свежий воздух, сказал: «Я думаю, лучше сделать так, чтобы никто не мог её увидеть».
Его, стало быть, волновало – кто что увидит, а вид у матери был удручающе непрезентабельный.
Между прочим замечу, что этот славный отпрыск, будущий Карл Пятый, герцог Бургундии, король единой Испании, Балеарских островов, Сардинии, Сицилии, Неаполя, Нидерландов и прямо даже повелитель Священной Римской Империи, в пятьдесят пять лет махнёт рукой на всю прорву власти, отречётся и, сидя в пыльном уголке, будет до самой смерти с удовольствием копаться в часовых механизмах.
Из всех времён, доступных языку, самое полное право на реальность имеет настоящее время. Не прошлое, как может почудиться, а сегодняшний день умеет служить хранилищем, досье, живой копилкой того, что случилось, а значит, уже никуда не уйдёт.
В сущности, ничто никуда не уходит. Вчерашние и позавчерашние события кричат, дымятся, плачут, истекают кровью сегодня – прямо сейчас. Дочь гостит у родителей, вдали от мужа, и тужит, не находя себе места: вдруг он меня разлюбил или встретил другую?.. Невозможно ведь, когда любишь, терпеть разлуку, невыносимо. Надо ехать! И мать говорит ей: терпи. Перед мужчиной нельзя выворачиваться наизнанку, они этого не прощают. Нужна выдержанность. И тут ещё война с французами, опасно ехать через французские земли. Не отпущу, даже не думай!.. Но какая здесь может быть выдержанность, какие французы? Коса налетает на камень, металл пишет свою металлическую волю по стеклу. Плохая дочь, полоумная инфанта лежит у запертых ворот крепости Медины-дель-Кампо – и не встанет, пока не отпустят. Люди смотрят на неё осуждающе.








