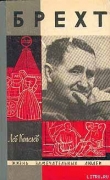Текст книги "Творческий путь Брехта-драматурга"
Автор книги: Игорь Фрадкин
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
Обе пьесы изобиловали "эффектами отчуждения", носили подчеркнуто условный, исключающий иллюзию характер и довольно последовательно воплощали принципы "эпического" театра. Но, выдвигая свои теоретические положения, Брехт не сопровождал их никакими монополистическими притязаниями или нигилистически высокомерным отрицанием других форм реалистического искусства. Он не отвергал их даже в пределах собственной творческой практики, и, например, написанные им в те же годы одноактная пьеса "Винтовки Тересы Каррар" (1937) и сцены "Страх и нищета в Третьей империи" (1935-1938) были выдержаны вполне в духе "драматического" ("аристотелевского") театра, в духе бытового и психологического "жизнеподобного" реализма.
Антифашистская, связанная с актуальными событиями гражданской войны в Испании пьеса "Винтовки Тересы Каррар" была развитием той линии, которая ранее наметилась в инсценировке горьковской "Матери". Образ революционного пролетария, сознательного борца Педро Хакуэроса, идейный перелом, происходящий в сознании главной героини, которая освобождается от пагубных иллюзий нейтрализма и аполитичности и познает суровую необходимость классовой борьбы, – все это заставляет вспомнить о пьесе "Мать". Но "Винтовки Тересы Каррар" уже выгодно от нее отличаются глубиной психологического анализа, убедительностью мотивировок, объясняющих духовную эволюцию персонажей, отсутствием назидательного схематизма.
В двадцати четырех сценах "Страх и нищета в Третьей империи" Брехт развернул широкую панораму жизни рабочих, крестьян, интеллигенции, мелкой буржуазии – различных слоев населения гитлеровской Германии. С необычайным мастерством вскрыл он фальшь и двусмысленность, которые проникли во все поры общественного и приватного быта граждан фашистского государства. В империи страха и лицемерия слова, произносимые вслух, далеко не всегда выражали действительные мысли и чувства людей, их подлинное душевное состояние. Детальный анализ таких, например, сцен, как "Правосудие", "Жена-еврейка"; "Шпион", "Меловой крест" и др., несомненно продемонстрировал бы высокое совершенство, достигнутое Брехтом в искусстве диалога, лаконичного, точного и в то же время бесконечно богатого различными оттенками мысли, косвенными и привходящими значениями, тонким и выразительным подтекстом. Он показал бы то филигранное мастерство, с которым писатель корректирует прямой смысл произносимых слов переосмысляющими их обстоятельствами сценического действия и сюжетных ситуаций. "Страх и нищета в Третьей империи", как образчик "аристотелевской" драматургии, является в творчестве Брехта равноправной вершиной, достигающей высоты лучших творений его "эпического" театра.
Эти лучшие творения Брехта следуют вереницей, начиная с его пьесы "Жизнь Галилея". Впоследствии печатному изданию этой пьесы писатель предпослал следующую заметку: "Драма "Жизнь Галилея" была написана в эмиграции, в Дании, в 1938-1939 гг. Газеты опубликовали сообщение о расщеплении атома урана, произведенном немецкими физиками". При всей лаконичности этой заметки она указывала на определенную связь исторических фактов и проливала свет на философский замысел произведения.
Не случайно перед лицом великой революции в науке, таящей в себе и могучие созидательные и страшные разрушительные возможности, писатель, охваченный тревогой за человечество (спустя шесть лет взрыв атомной бомбы над Хиросимой подтвердил законность этой тревоги), обратился к вопросу об общественном поведении ученого. И хотя герой пьесы – Галилей, а не, скажем, Альберт Эйнштейн (кстати, в последние годы своей жизни Брехт работал над пьесой об Эйнштейне), и действие ее происходит не в наши дни, а в эпоху Возрождения, также эпоху великих социальных и научных революций, и, наконец, в пьесе нет ни малейшей модернизации и попытки подменить Италию XVII века исторически костюмированной современностью, все же читатель обязательно увидит в конфликте Галилея с верховной властью поразительное сходство с моральными проблемами, возникающими перед многими современными учеными капиталистического мира. Ибо пьеса Брехта заставит задуматься над вопросами о долге и ответственности ученого перед человечеством, о полезном употреблении и опасном злоупотреблении плодами "чистой мысли", о взаимной связи интеллектуального и морального начал в науке, об общественном, гражданском лице ученого.
Галилей – каким его изображает Брехт – человек Возрождения, его плоть и дух освободились от власяницы средневекового аскетизма, он по-язычески влюблен в земную жизнь и небесную стремится постичь уже не через священные тексты, а через телескоп. Но вскоре читатель начинает замечать оборотную сторону жизнелюбия Галилея. Жизнь для него тождественна наслаждению, и моральный закон, гласящий, что во имя жизни нужно иногда уметь поступаться удовольствиями, что долг выше удовольствия, с его точки зрения, абсурден. В этом заключена страшная опасность: пройдут годы – и поставленный перед неумолимым выбором Галилей пожертвует высокими радостями творческой мысли ради низменных плотских удовольствий и бытового комфорта.
"Как ученые, мы не должны спрашивать себя, куда может повести истина!" – восклицает Галилей и впоследствии, возможно, сожалеет о том, что он своевременно не поставил перед собой такого вопроса. Вряд ли он поднял бы руку на птоломеевскую систему мира, если бы с самого начала отдавал себе отчет в том, на какой опасный путь он вступает, на чьи кровные интересы он посягает своим учением и какие силы он восстанавливает против себя. Но, окрыленный ощущением прихода нового времени, Галилей уверен, что ему легко удастся рассеять мрак невежества и суеверий и, подвергая людей "искушению доказательств", убедить их в своей правоте доводами разума, неопровержимыми фактами и опытами. Но происходит неожиданное: усилия врагов Галилея, во всяком случае наиболее умных, направлены вовсе не на то, чтобы его опровергнуть, а на то, чтобы заставить его замолчать, ибо они сомневаются не в правильности его учения, а в выгодности его для себя и заинтересованы не в истине, а в сохранении своих социальных привилегий.
Учение Галилея становится фактором жестокой классовой борьбы. Господа его преследуют, ибо оно противоречит Библии, а они прекрасно знают, к чему ведет подрыв авторитета Священного писания, которое "обосновывало необходимость пота, терпения, голода, покорности...". Зато на рыночных площадях славят "Галилео – разрушителя Библии". Народ переносит принципы передовой астрономии с неба на землю: в открытиях Галилея, который перевернул всю почитаемую веками иерархию мироздания, он видит сигнал к перевороту в общественной иерархии. Простые люди чтят Галилея как своего друга и союзника и ненавидят его врагов, которые "приказывают земле стоять неподвижно, чтобы их замки не свалились". А сам Галилей лишь постепенно, после того как это понял народ и поняли князья, помещики и монахи, начинает понимать, что его учение является могучей революционной силой не только в сфере научной мысли, но и в области общественных отношений.
И тем более пагубно предательство со стороны человека, который всегда проповедовал народность науки и мечтал о времени, когда "об астрономии будут разговаривать на рынках". И вот, дожив до этого времени, завоевав доверие и поддержку широких масс, имея возможность превратить науку в рычаг народного благоденствия, Галилей, поддавшись своим плотским слабостям, изменил народу, науке, делу своей жизни, самому себе...
В предпоследней картине любимый ученик Галилея Андреа Сарти, узнав, что тот все эти годы тайно продолжал свои исследования, легко поддается соблазну понять и оправдать его поведение. Он готов увидеть разумный смысл во всех поступках Галилея: и в том, что тот продал "венецианскому сенату подзорную трубу, изобретенную другим", и в его сервильном подобострастии перед великим герцогом Флоренции, и, наконец, в акте отречения, которым было выиграно время для совершения других великих открытий. Андреа оправдывает Галилея, но сам Галилей и вместе с ним Брехт не знают ему оправдания. Когда-то на робкий вопрос маленького монаха: "А не думаете ли вы, что истина – если это истина – выйдет наружу и без нас?" – Галилей ответил со страстью и гневом: "Нет, нет и нет! Наружу выходит ровно столько истины, сколько мы выводим. Победа разума может быть только победой разумных". Галилей понимал, что научный прогресс невозможен без мужества и активности людей науки. И, капитулировав перед темными силами, он не только нанес поражение делу разума, но и совершил роковой по своим историческим последствиям акт разорвал тесные узы между наукой и народом. Осуждая себя за это и предвидя, на какой уродливый и опасный путь может ступить наука, не считающая для себя высшим законом служение народу, Галилей пророчески восклицает: "Пропасть между вами и человечеством может в один прекрасный день быть настолько огромной, что на ваши крики торжества по поводу какого-нибудь нового открытия вам ответит всеобщий вопль ужаса".
"Жизнь Галилея" писалась в преддверии второй мировой войны. Перед мысленным взором писателя уже вырисовывались зловещие очертания надвигающейся катастрофы. Поэтому он и обратился со словом предостережения к совести и разуму человечества, и прежде всего интеллигенции, то есть людей, чьи знания могут стать источником великого блага или великого бедствия. Таким же предостережением была и знаменитая историческая драма Брехта "Мамаша Кураж и ее дети" (1939). Она прозвучала призывом к немецкому народу не обольщаться посулами, не рассчитывать на выгоды, не связывать себя с гитлеровской кликой узами круговой поруки, узами совместных преступлений и совместной ответственности и расплаты.
Анна Фирлинг, по прозвищу "Мамаша Кураж", – маркитантка времен Тридцатилетней войны. Она и ее дети – сыновья Эйлиф и Швейцарец и немая дочь Катрин – с фургоном, груженным ходовыми товарами, отправляются в поход вслед за Вторым финляндским полком, чтобы наживаться на войне, обогащаться среди всеобщего разорения и гибели. Фельдфебель провожает фургон зловещей репликой:
"Войною думает прожить.
За это надобно платить".
Проходит двенадцать лет – следуя по дорогам Тридцатилетней войны, фургон мамаши Кураж исколесил Польшу, Моравию, Баварию, Италию, Саксонию... И вот он появляется в последний раз. Его влачит, низко согнувшись в непосильном напряжении, немощная одинокая старуха, неузнаваемо изменившаяся под тяжестью перенесенных страданий, не разбогатевшая, а, напротив, обнищавшая, заплатившая войне дань жизнью всех своих детей. Они погибли жертвами войны, которая была бы невозможна без участия, поддержки, самоубийственной заинтересованности в ней сотен и тысяч таких, как Кураж. Прочь иллюзии и тщетные надежды, война не для маленьких людей, им она несет не обогащение, а лишь бесконечные страдания и гибель.
Мамаша Кураж, как это часто бывает с несознательными и политически непросвещенными людьми (так ведь было и во время второй мировой войны с десятками и сотнями тысяч немцев, одурманенных фашистской пропагандой), ничему не научилась, не извлекла уроков из трагической судьбы своей семьи. Она даже не понимает, что сама является виновницей гибели своих детей. Если в шестой картине в порыве горького разочарования она восклицает: "Будь проклята война!" – то уже в следующей картине, находясь на вершине временного делового успеха, она снова уверенной походкой шагает за своим фургоном и поет "Песню о войне – великом кормильце". И даже в последней картине, после всех ударов судьбы, мамаша Кураж все еще верна себе, из последних сил она тянет фургон за уходящим полком.
Такая трактовка образа Кураж иногда вызывала нарекания по адресу Брехта. Но своим оппонентам, которые хотели бы, чтобы Кураж осознала свои заблуждения и подвергла их развернутой критике, Брехт мог бы ответить словами Маяковского: "Надо, чтобы не таскались с идеями по сцене, а чтобы с идеями уходили из театра". Приблизительно ту же мысль высказывал и сам Брехт: "Зрители иной раз напрасно ожидают, что жертвы катастрофы обязательно извлекают из этого урок... Драматургу важно не то, чтобы Кураж в конце прозрела... Ему важно, чтобы зритель все ясно видел". Кураж ничему не научилась, из ее уст зритель не услышит полезного назидания, но ее трагическая история, разыгрывающаяся перед глазами зрителя, просвещает и учит его, учит распознавать и ненавидеть грабительские войны. Слепота Кураж делает зрителя зорким.
И еще одна глубокая философская идея заключена в пьесе. Детей мамаши Кураж приводят к гибели их положительные задатки, их хорошие человеческие свойства. Правда, эти положительные задатки по-разному развились в каждом из них, но в той или иной форме они присущи всем троим. Эйлиф погибает жертвой своей неутолимой жажды подвигов, своей (извращенной в условиях разбойничьей войны) храбрости. Швейцарец расплачивается жизнью за свою – правда, наивную и недалекую – честность. Катрин, совершив героический подвиг, умирает из-за своей доброты и жертвенной любви к детям. Так логика сценического повествования приводит зрителя к революционному выводу о глубокой порочности и бесчеловечности такого общественного строя, при котором лишь подлость обеспечивает успех и процветание, а добродетели ведут к гибели. В этом выводе заключен беспощадный приговор жестокому миру насилия и корысти.
Эта мысль о диалектике добра и зла, об органической враждебности всего жизненного уклада буржуазного общества добрым ("продуктивным", как их называет Брехт) началам человеческой натуры с большой поэтической силой была выражена в следующей пьесе писателя – "Добрый человек из Сычуани" (1938-1940). Брехт нашел удивительную форму, условно сказочную и одновременно конкретно чувственную, для воплощения, казалось бы, отвлеченной философской идеи. Взаимно враждебные и друг друга исключающие действия "доброй" Шень Дэ и "злого" Шой Да оказываются взаимно связанными и друг друга обусловливающими, да и сами "добрая" Шень Дэ и "злой" Шой Да, как выясняется, – вовсе не два человека, а один, "добро-злой", Так через необычный, своеобразный сюжет Брехт раскрывает противоестественное и парадоксальное состояние общества, в котором добро ведет к злу и лишь ценой зла достигается добро.
Но пьеса "Добрый человек из Сычуани" не ограничивается констатацией и анализом этого уродливого социального феномена. Постно-филантропической позиции трех богов, которые требуют, чтобы человек был добр, и при этом ханжески закрывают глаза на общественные условия, мешающие ему быть таковым, – этой позиции писатель противопоставляет революционное требование изменения мира.
Вслед за "Добрым человеком из Сычуани" Брехт временно покидает почву условно сказочного сюжета и создает классические образчики социальной комедии, во многом воспроизводящей национальный колорит и историческую обстановку, но в то же время последовательно выдержанной в духе "эпического театра". К комедиям такого типа относились "Господин Пунтила и его слуга Матти" (1940-1941) и "Швейк во второй мировой войне" (1941-1944).
Действие первой из этих пьес развертывается в Финляндии. Брехт разоблачает паразитическую, эксплуататорскую сущность помещика Пунтилы и в его лице помещичьего класса вообще. Можно было бы, конечно, вывести на сцену помещика в его наиболее обычном и привычном виде, ставшем уже традиционным, то есть хама, невежду, деспота, самодура, стяжателя... и только. Но такой помещик – заурядное явление, которое зрителем уже не будет восприниматься остро и интенсивно, не вызовет у него новых мыслей, не обогатит его общественный опыт и, следовательно, не будет способствовать глубокому и всестороннему познанию им классовой природы помещика. Поэтому на помощь приходит "эффект отчуждения": автор находит такой ракурс, такой угол зрения на предмет, при котором истинная сущность явления раскрывается глубоко и по-новому, проливая на это явление новый свет и активизируя критическую мысль зрителя.
Помещик Пунтила – это именно такой "отчужденный помещик". Он страдает мучительной болезнью, существо которой излагает своему шоферу Матти следующим образом: "Это со мной бывает раза четыре в год. Просыпаюсь – и вдруг чувствую: трезвый, как стелька!.. Обычно я совсем нормальный, вот такой, как ты меня видишь. В здравом уме и твердой памяти, вполне владею собой. И вдруг начинается припадок. Сначала что-то делается со зрением. Вместо двух вилок (показывает одну вилку) я вижу только одну!.. Да, я вижу только половину всего мира. А потом еще хуже: как накатит на меня этот самый припадок трезвости, я становлюсь совершенной скотиной".
Болезнь, как видно, нешуточная, ибо дело здесь не только в том, что двоятся вилки, но и в раздвоении личности самого Пунтилы. Этот человек живет как бы в двух мирах: почти всю жизнь он проводит в состоянии нормального опьянения, но изредка впадает в состояние патологической трезвости. Пьяный Пунтила – самый пылкий народолюбец, полный возвышенных, благородных чувств. Он готов заключить в объятия своих слуг, ратует за свободу, равенство и братство, проповедует любовь к людям, проливает слезы умиления по поводу красот родной финской природы. Но наступает неизбежный "припадок", и трезвый Пунтила – это уже совсем другой человек, в котором его классовая сущность сказывается в самой прямой и грубой форме: он выжимает последние соки из своих батраков, помыкает бесправными людьми как скотиной, пышет злобой против "красных" и прочих смутьянов.
Частые и быстрые переходы Пунтилы из одного состояния в другое приводят к многочисленным комическим положениям и блестящим по остроумию эффектам. Вот перед нами Пунтила трезвый, Пунтила-зверь. Стакан водки в глотку, и почти мгновенно происходит чудесное преображение: перед нами Пунтила пьяный, Пунтила-человек. Ведро холодной воды на голову, и снова происходит превращение: черты лица каменеют, возникает злая маска, перед нами снова Пунтила трезвый. Так сатирический характер переходит в юмористический и юмористический снова в сатирический.
Но не в этом главная ценность данного "эффекта отчуждения": через двуплановость образа Пунтилы ярче и острее постигается его социальная сущность. Дело в том, что и пьяный Пунтила – все равно помещик. Его велеречивое благородство и порывы к социальному братанию носят сугубо платонический характер, ибо он и во хмелю себе на уме и никогда не теряет рассудка настолько, чтобы в пьяном виде подписывать контракты, нанимать батраков и вообще заниматься практическими делами. Это он откладывает до очередного "припадка", и тогда, в состоянии трезвости, жестоко борется за свои классовые интересы. А если он что и "напутает" в пьяном виде, то обязательно "исправит" в трезвом. Пьяный же Пунтила – самодур и тиран особого рода, донимающий своих подчиненных принудительной лаской, к которой те относятся с законным недоверием.
Пьяному Пунтиле противостоят люди трезвые не только физически, но и в смысле своего классового сознания. Это прежде всего шофер Матти. Он знает цену своему хозяину, понимает простые истины классовой борьбы и глух к проповедям народной общности и братства эксплуататоров и эксплуатируемых. И как бы Пунтила ни заговаривал ему зубы, он твердо знает, что хозяин есть хозяин, а рабочий есть рабочий, что один восхищается благами жизни, потому что владеет ими, а другой, чтобы восхищаться ими, должен сначала ими завладеть. Пьяный Пунтила, расчувствовавшись до слез, декламирует: "Будь благословен, Тавастланд, – твое небо и озера, твой народ и твои леса! (К Матти.) Признайся, что у тебя сердце замирает, когда ты видишь наши леса!" И трезвый Матти "покорно" отвечает: "У меня замирает сердце, когда я вижу ваши леса, господин Пунтила!"
Так Брехт создает образ эксплуататора, немного необычный, но реалистический, полнокровный образ, абсолютно лишенный черт сухой, рассудочной схематизации. Этот объективный, жизненный, внешне нисколько не дидактический образ неизбежно приводит мысли зрителя – в значительной мере благодаря тому, что Брехт называет "эффектом отчуждения", – к выводу, что капиталисты и помещики, поскольку они таковыми являются, не могут быть "добрыми" и что, следовательно, нелепы и несбыточны всякие планы преобразовать общество, опираясь на моральные и интеллектуальные качества "лучших" представителей господствующих классов, обращаясь к их сердцу и разуму.
Другим примером "эффекта отчуждения", воплощенного в центральном мотиве всей пьесы, может служить (написанная в сотрудничестве с Лионом Фейхтвангером) драма "Сны Симоны Машар" (1941-1943). Как и комедия о Швейке, она уже тесно связана с событиями второй мировой войны. Действие ее происходит в июне 1940 года в маленьком французском городке Сен-Мартен, во дворе отеля "Смена лошадей", в обстановке немецко-фашистского вторжения и народного бедствия, предельно обнажившего противоречия между миром собственников, предателей Франции, и миром тружеников. На этом фоне и разыгрывается трагедия Симоны Машар, девочки с наивной детской психологией и чистой, полной жертвенной готовности любовью к родине. Она совершает самоотверженный патриотический поступок – уничтожает склад с горючим, чтобы им не завладели немцы, – и, погибая, пробуждает сознание долга у своих соотечественников.
При изображении Симоны Машар Брехт вводит своеобразный "эффект отчуждения". Склонившись над корзиной с бельем, Симона с упоением читает книгу о Жанне д'Арк, простой крестьянской девушке, которая спасла Францию, и в ее воображении картины реальной жизни начинают переплетаться с впечатлениями, почерпнутыми из книги. Симоне снятся сны, которые придают всей пьесе двуплановый характер: действие ее происходит то наяву, в городке Сен-Мартен, во дворе отеля, в июне 1940 года, то во сне, во Франции XV века, в Орлеане, Реймсе, Руане... Симона видит себя в снах Орлеанской девой, мэр городка г-н Филипп Шаве оказывается королем Карлом VII, фашист Оноре Петен предателем герцогом Бургундским, владелец отеля Анри Супо коннетаблем-главнокомандующим, а его мать – королевой Изабо.
Этот второй, отдаленно-исторический план пьесы, передаваемый через сны Симоны, с особой отчетливостью оттеняет социальное значение современных событий, происходящих на первом плане: история Жанны д'Арк и ее гибели в результате предательства коллаборационистов XV века как бы служит для зрителя тем мерилом добра и зла, с помощью которого он дает оценку и выносит моральный и политический приговор современной "пятой колонне". Когда капитан Петен и мать и сын Супо переходят из яви в сон, из современного плана в план исторический {В снах Симоны сохраняются многие внешние приметы реального плана: Карл VII оказывается мэром, у которого королевская мантия накинута поверх пиджака; телохранителями Жанны д'Арк выступают шоферы Робер и Морис, у которых средневековые латы надеты поверх рабочих комбинезонов, и так далее. Такая неполнота перевоплощения имеет своей целью оградить сознание зрителя от иллюзий подлинности второго плана, подчеркнуть его зависимость и связь с первым, реальным планом и тем самым облегчить зрителю проведение аналитических сопоставлений между историей и современностью.}, и занимают (без полного перевоплощения!) свои места в классическом и всенародно известном сюжете о патриотизме и предательстве, то через этот "эффект отчуждения" антипатриотическая и антинациональная сущность подобных людей становится еще более явной, идея пьесы – еще более убедительной.
6
После разгрома германского фашизма и в особенности после возвращения Брехта на родину характер его творческой деятельности существенно изменился. Перед писателем открылись возможности, которых он был почти лишен в годы эмиграции. Руководя театром "Берлинский ансамбль", повседневно работая в нем и участвуя в его гастролях, широко занимаясь режиссерской и театрально-педагогической деятельностью, активно выполняя различные общественные функции, Брехт испытывал радостное удовлетворение от возможности наконец реализовать свои годами остававшиеся втуне творческие накопления. Но при этом у него оказывалось сравнительно мало времени для новых литературных начинаний. В течение одиннадцати послевоенных лет он (не считая произведений малого жанра – стихотворений, статей, заметок и т. п.) завершил пьесу "Кавказский меловой круг" (1944-1945), написал историческую драму "Дни Коммуны" (1948-1949), осуществил литературную обработку "Антигоны" Софокла, "Гувернера" Ленца, "Кориолана" Шекспира и нескольких других пьес классического репертуара, вчерне закончил пьесу-параболу "Турандот, или Конгресс обелителей". Замыслы нескольких пьес, к которым он едва успел приступить (об Альберте Эйнштейне, о рабочем-активисте из ГДР и др.), остались неосуществленными.
В "Кавказском меловом круге" Брехт использовал сюжет, близкий к библейскому преданию о Соломоновом суде, сюжет старинной восточной легенды о тяжбе двух женщин из-за ребенка и о мудром судье, хитроумным способом распознавшем действительную мать. Но он внес в этот сюжет принципиальную новацию: судья отклоняет претензии действительной кровной матери, равнодушной к ребенку и преследующей лишь корыстные цели, и присуждает маленького Михеля "чужой" женщине, которая спасла ему жизнь и самоотверженно ухаживала за ним, подвергаясь опасностям и лишениям. Дело не в кровном родстве, а в интересах ребенка и общества, то есть в том, которая из обеих претенденток – кровная или названая мать – будет Михелю лучшей матерью, любовно и разумно его воспитает.
Эта притча о тяжбе за Михеля, о судьбе Ацдаке и его меловом круге тесно связана с другим сюжетным мотивом, развернутым в прологе, с другим спором двух кавказских колхозов о долине, которая принадлежала одному из них, но в силу особых обстоятельств военного времени оказалась возделанной другим. Смысл сближения этих двух сюжетов (о ребенке и о долине) становится особенно понятным в свете того философского и поэтического обобщения, которое вложено в заключительные строки пьесы:
"Все на свете принадлежать должно
Тому, кто добрым делом славен, то есть:
Дети – материнскому сердцу, чтоб росли и мужали,
Повозки – хорошим возницам, чтоб быстро,
катились,
А долина тому, кто ее оросит, чтоб плоды
приносила".
Так из двух "частных" сюжетов вполне органически вырастает обобщающий вывод огромного исторического и социально-этического значения, рождается апофеоз социалистического гуманизма и социалистического общественного строя.
"Кавказский меловой круг" был в творчестве Брехта, пожалуй, самым совершенным и последовательным воплощением принципов "эпического театра". Все происходящее в этой пьесе – рассказ. Не в том условном смысле, что это, мол, драма, обогащенная повествовательными приемами рассказа, а в самом прямом и точном смысле этого слова – рассказ певца Аркадия Чхеидзе, восседающего на просцениуме и излагающего кавказским колхозникам старинную историю о меловом круге. В этой пьесе Брехт, завершив свои искания в этом направлении, создал специальную фигуру "рассказчика", вернее, певца, из уст которого исходит все то, что зритель видит на сцене. Собственно, рассказчиком здесь выступает не один певец, а целая "эпическая группа": певец плюс музыканты, выполняющие также роль хора. Сценическое действие и диалог здесь не иллюстрация к рассказу, а сами суть от начала до конца рассказ, но рассказ сценический, то есть такой, в котором средства и возможности эпоса помножены на выразительность и силу воздействия драмы.
Сценическая иллюзия в "Кавказском меловом круге" невозможна не только потому, что Брехт применяет множество разрушающих иллюзию приемов, но также и потому, что зрителю, начиная уже с пролога, внушено сознание: перед ним не подлинные люди, а персонажи рассказа, фигуры, созданные воображением и искусством певца, подчиненные его творческой воле. Все недоступные традиционной драме изобразительные возможности эпоса доступны певцу. Он знает и говорит о том, чего не знают или о чем не могут сказать действующие лица. Когда встречаются после долгой разлуки служанка Груше и ее нареченный, солдат Симон, при обстоятельствах, как будто бы свидетельствующих о неверности Груше, и оба в замешательстве замолкают, не в силах выразить волнующие их чувства, то певец, обладающий универсальными знаниями эпического поэта, от их имени произносит ритмизованные монологи, излагающие, что они думали, но не сказали.
С другой стороны, драматический элемент в пьесе не находится в абсолютной зависимости и подчинении у эпического элемента. Власть певца над персонажами пьесы ограничена естественной логикой их отношений. Они созданы им как рассказчиком, его авторским воображением, следовательно, они существуют в его сознании, но он в их сознании не существует. Они его словно не слышат и не видят, его монологи и "сонги" не имеют влияния на их сценическое поведение. Показательный пример в этом смысле: когда певец обращается с вопросом к своей героине, Груше, то отвечает ему не она, а как бы он сам, то есть участники его "эпической группы", музыканты:
"Певец.
Беглянка, почему ты весела?
Музыканты.
Ах, потому, что бедный мой малыш
Нашел родителей себе. И потому еще,
Что я теперь свободна.
Певец.
А почему печальна?
Музыканты.
От пустоты, от одиночества печальна,
Словно меня обокрали,
Словно я обеднела".
Вопросы в данном случае обращены к Груше лишь условно. На самом же деле эти вопросы и ответы суть лишь форма размышления певца о его героине, о сущности образа, рожденного его воображением.
Послевоенным произведениям Брехта была присуща особенно высокая степень актуальности. В своей проблематике они были тесно связаны с теми общественными и этическими задачами, которые стояли перед немецким народом после разгрома фашизма и в особенности в обстановке строительства социализма в ГДР. Эта актуальность, в частности, сказывалась в направлении и характере литературных обработок пьес классического репертуара.
Проиллюстрируем сказанное хотя бы на примере "Антигоны". Хотя в ней сохранены и основные сюжетные мотивы Софокла, и значительная часть текста немецкого перевода Фридриха Гельдерлина, и действие происходит в древних Фивах, но по всей своей направленности, по характеру проблем, которые проступают в ней сквозь оболочку античного мифа, – это немецкая "Антигона" весны 1945 года. Идеи греческой трагедии переосмыслены Брехтом с точки зрения исторической обстановки, в которой оказался немецкий народ в дни гибели Третьей империи, и с точки зрения тех задач и вопросов, которые перед ним стояли в то время.