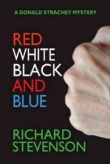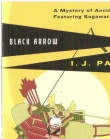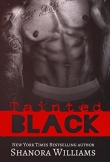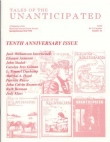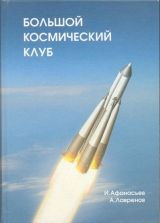
Текст книги "Большой космический клуб. Часть 2"
Автор книги: Игорь Афанасьев
Соавторы: Александр Лавренов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Первые ракеты и спутники «Страны восходящего солнца»
1 августа 2003 г. сгорел в атмосфере первый японский КA Ohsumi, запущенный 11 февраля 1970 г. ИСЗ активно функционировал в космосе всего 14–17 часов (до седьмого витка), а затем более трех десятилетий безмолвно кружил по своей орбите… С запуском «Осуми» Япония стала четвертой страной в мире после СССР, США и Франции, которая доставила в космос национальный искусственный спутник ракетой-носителем собственной разработки. Основной особенностью запуска было испытание схемы вывода типа «гравитационный поворот» (gravity turn).
…Несмотря на то, что ракеты были изобретены в Китае, в соседнюю Японию они попали кружным путем, через Европу, примерно в 1600 г.
До Второй мировой войны «Страна восходящего солнца» не проявляла заметного интереса к ракетной технике. Лишь в заключительной фазе войны японцы – как и их союзники, немцы – сделали ставку на «чудо-оружие» – ракеты. Известность получил неудачный пуск 1944 г., когда «большая» ракета свалилась в пригороде Токио, напугав случайных очевидцев. Самой же «продвинутой» японской разработкой того времени можно считать ракетоплан MXY-7 «Ока» (Ohka), сбрасываемый с винтового бомбардировщика и наводимый на цель пилотом-смертником. Пороховые ракетные ускорители разгоняли «Оку» в последние 10 секунд пикирования.
Поражение в войне и последовавший за этим запрет на широкий спектр научно-технических исследований не давали возможности проводить сколько-нибудь серьезных работ в области ракетостроения. Когда в 1954 г. запрет был снят, профессор Токийского университета Хидео Итокава (Hideo Itokawa) вместе с энтузиастами и студентами «Института промышленных наук» (Institute of Industrial Science) сделал крошечную пороховую ракету длиной 23 и диаметром 1,8 см, окрещенную «карандашом». Более 150 таких малюток было запущено, главным образом в горизонтальном положении, чтобы получить опыт проектно-конструкторской отработки.
Хидео Итокава (1912–1999) был не только ракетчиком, но и авиационным инженером, музыкантом, философом, доктором медицины, писателем. Во время Второй мировой войны, работая как проектант (конструктор) на фирме «Накадзима» (Nakajima), Итокава принимал участие в создании истребителей Ki-27 и Ki-44 «Секи», бомбардировщика Ki-49 «Донрю»; возглавлял группу, которая разработала известный японский истребитель Ki-43 «Хаябуса». В конце войны занял должность зам. декана инженерного факультета Токийского университета. С декабря 1953 г. возглавлял группу изучения авиационного оборудования и сверхзвуковой аэродинамики AVSA (Avionics and Supersonic Aerodynamics Group). Именовался прессой как «Доктор Ракета» («Dr Rocket»). В 1956 г. основал Японское ракетное общество JRS (Japanese Rocket Society) в рамках Международной астронавтической федерации IAF.
Знаменитые «карандаши» Х.Итокавы умиляют ракетомоделистов и одновременно демонстрируют: когда власть на стороне инженеров – технический прогресс фантастически успешен (Фото JAXA)
Решение японского правительства об участии страны в научной программе предстоящего Международного геофизического года позволило развернуть разработку ракет на более солидной основе.
В августе 1955 г. группа Итокавы провела пуски новых двухступенчатых изделий серии Baby-S (от Simple – простейший) длиной 134 и диаметром 7,5 см. В сентябре шесть Baby-T (от Telemetry – телеметрический) уже передали на наземные станции информацию о параметрах полета. Наконец, в октябре-ноябре 1955 г. на борту трех Baby-R (от Recovery – возвращаемый) совершили полет 16-мм фотокамеры (съемка подстилающей поверхности с высоты до 5000 м).
Итокава смог заинтересовать ракетами японскую промышленность, и компания Nissan Motor стала его главным подрядчиком. Правительство обещало финансовую помощь, и японские разработчики успешно спроектировали зондирующую ракету Карра («Каппа»). Летные испытания варианта Карра-1 длиной 2,26 м начались в сентябре 1956 г. По мере того, как группа Итокавы создавала новые двигатели твердого топлива и соединяла их в различные комбинации, диапазон вариантов этих ракет ширился.
В 1957 г. двухступенчатая Карра-4 уже измеряла интенсивность космических лучей и скорость ветра в верхних слоях атмосферы в рамках программы МГГ.
16 июня 1958 г. полетела двухступенчатая Карра-6, которая при массе 360 кг могла нести груз 7-10 кг на высоту до 60 км. К сентябрю 1960 г. совершили полет 13 таких ракет. Далее пошли улучшенные варианты Карра-6Н (High Performance – высокая эффективность) и намного более крупная Карра-8. Последние, обладая неплохими техническими характеристиками и сравнительно низкой стоимостью, стали пользоваться спросом и за пределами Японии. Так, в 1965 г. 10 таких ракет приобрела Индонезия. Закупали «Каппы» Югославия и Индия.
Используя РДТТ с корпусом из высокопрочной стали и более эффективное топливо, трехступенчатая Карра-9М в 1962 г. смогла поднять ПГ массой 80 кг на высоту более 300 км.
К началу 1960-х гг. исследования и успехи Итокавы привлекли внимание (и финансовую поддержку) правительственных учреждений, включая Управление по науке и технике, Министерство почт и связи и Министерство транспорта. Каждое из них имело собственные идеи относительно направления японских космических усилий.
Участвующая в деле влиятельная Федерация экономических организаций «Кайданрен» (Keidan-ren) склонила премьер-министра страны Сато Еисаку (Sato Eisaku) просить помощи у Соединенных Штатов, несмотря на «патриотические» желания министерств разрабатывать и строить спутники и ракеты-носители целиком «у себя».
Итокава за пультом управления пуском первых послевоенных ракет (именно с такого примитивного оборудования начиналось японское «электронное чудо») (Фото JAXA)
В стране разгорелись клановые «войны». Самые большие «сражения» происходили между Институтом космических исследований ISAS (Institute of Space and Aeronautical Sciences), в который была преобразована лаборатория Итокавы AVSA, и Агентством по науке и технике STA (Science and Technology Agency). Итокава упорно стоял на позиции, чтобы Япония разрабатывала и строила собственные ракеты-носители, но STA полагало, что главная цель – создание и запуск на орбиту собственных спутников, в т. ч. и на неяпонских ракетах.
Спор шел и по поводу приоритетов национальной космической программы. Итокава выступал за «чистые» научные исследования, в то время как STA лоббировало «коммерческое» применение РН и ИСЗ. К концу 1960-х гг. противоборство достигло пика. Рассуждения о том, что Японии необходима «лишь одна» гибкая организация, способная поддержать космические разработки на высоком уровне, ни к чему конкретному не привели. По мнению коллег Итокавы, «премьер-министр хотел бы иметь объединенную организацию типа NASA, но руководитель каждого из «космических» министерств непременно желал стать ее главой…»
В результате, правительство Японии решило институционализировать сей «философский спор», разделив космическую программу на две части. ISAS продолжил «научные» исследования, а на базе STA (в 1966 г. преобразованном в Национальный центр по освоению космоса NSDC[24]24
Руководителем которого стал бывший директор ISAS Нобору Такаги (Noboru Takagi).
[Закрыть] – National Space Development Center) в октябре 1969 г. было создано «многопрофильное» Национальное агентство по космическим разработкам NASDA (National Aviation and Space Development Agency).
Ракета Lambda-3H на пусковой установке. В рамках Международного года спокойного Солнца (1964–1965 гг.) эти потомки «карандашей» достигали высоты ~1500 км (Фото JAXA)
В 1962 г. фирма Nissan начала работу по РДТТ тягой 40 тс для новой большой ракеты Lambda. Трехступенчатая комбинация на базе этого мощного двигателя и ракеты Карра – Lambda-3 – могла нести ПГ в 100 кг на высоту до 1000 км. Пусковые сооружения для ракет этой серии были построены в Космическом центре Токийского университета в Утиноура (префектура Кагосима, о. Кюсю). Первая Lambda стартовала отсюда в июле 1964 г.
Ракеты серии «Каппа» и «Лямбда» позволили стране принять участие в программе Международного года спокойного Солнца (1964-65 гг.). Летом 1966 г. аппаратура, установленная на борту «Лямбды-3Н-2», достигшей высоты 1800 км, впервые в Японии провела исследования радиационных поясов.
А специалисты ISAS уже наметили новую амбициозную цель: спутник Земли! В перспективной программе, разработанной Национальным советом по космосу в 1966 г., предусматривалось запустить первый опытный ИСЗ уже в 1967 г., а к 1970 г. вывести на околоземную орбиту целых девять (!) научных спутников.
Отметим: интерес Японии к космонавтике не был случаен – безграничный «новый океан» стал для страны символом возрождения и могущества на новом – послевоенном – этапе истории. Это необычайно важно для духа нации, особенно на Востоке. «Путь в космос раскинулся широким плодородным полем для тех, кто будет его возделывать. Сегодня в Японии масса молодых ученых, которые пойдут этим путем. Для наших детей космонавтика – ключ к мечте, вдохновляющей их любопытство и тягу к приключениям. И пока это так – наше стремление в космос будет возрождаться вновь и вновь…»
Для реализации первых этапов национальной космической программы предназначалась «экспериментальная» РН Lambda-4S.
Еще в 1960 г. Хидео Итокава и Риедзиро Акиба (Ryojiro Akiba) подготовили документ, в котором обосновали возможность запуска малого спутника многоступенчатой зондирующей ракетой. Методика космического старта предполагала запуск неуправляемой суборбитальной ракеты, использующей специализированный двигатель в апогее траектории для довыведения на орбиту.
Четырехступенчатая твердотопливная ракета-носитель Lambda-4S: 1 – сбрасываемый головной обтекатель; 2 – ПГ; 3 – сферический РДТТ четвертой ступени; 4 – система управления; 5 – РДТТ третьей ступени; 6 – РДТТ второй ступени; 7 – РДТТ первой ступени; 8 – стартовые твердотопливные ускорители; 9 – аэродинамические стабилизаторы
Таким образом первый японский космический носитель был, по сути, зондирующей ракетой – «переростком», все четыре ступени и два навесных СТУ которой были «классическими» неуправляемыми РДТТ. Аэродинамические стабилизаторы обеспечивали устойчивость первой ступени, закрутка – второй и третьей. Лишь для управления четвертой ступенью применялся блок инерциальной навигации, который вместе с управляющими микро-ЖРД располагался в цилиндрической проставке между третьей и четвертой ступенями. Lambda-4S была, по-видимому, самой простой (чего, правда, нельзя сказать о стоимости) космической РН в мире: при стартовой массе 9480 кг она была способна вывести на орбиту спутник массой до 26 кг.
Более 30 промышленных предприятий Японии были заняты в производстве ракет и оборудования для их пусков. Основными участниками проектов ISAS являлись такие «киты» индустрии, как Nissan Motor, Mitsubishi Heavy Industries, Matsushita Communication Industrial, Meisei Electric, Japan Aviation Electronics Industry, Nippon Electric и др.
Тем не менее, японская космонавтика «рождалась в муках». 26 сентября 1966 г. стартовала первая «Лямбда-4S» (L-4S-1). Первые три ступени отработали гладко, но система управления дала сбой и послала четвертую ступень «в молоко».
При запуске 20 декабря 1966 г. (L-4S-2) не включилась четвертая ступень. Еще хуже прошел пуск 13 апреля 1967 г. (L-4S-3). На этот раз отказала третья ступень.
Хидео Итокава и его коллегии «пребывали в глубоком пессимизме».
Три подряд аварии означали, что ISAS может не справиться с задачей запуска первого японского спутника к 1968 г. Чувствуя свою «неспособность противостоять событиям», Хидео Итокава ушел из ISAS и космической программы в марте 1967 г. Он переключился на проект подводного нефтехранилища емкостью в миллиард литров.
Следует отметить, что, помимо «доморощенных» ракетно-космических технологий, японские специалисты практиковали опыт импорта доступных зарубежных разработок. Если институту ISAS удалось наладить создание довольно мощных (на тот период времени) РДТТ, осуществлять пуски зондирующих ракет Карра и Lambda, продвинуться в разработке перспективного носителя Mu, развернуть эксплуатацию Космического центра Кагосима и стендового комплекса в Носиро, то центр NSDC приступил к созданию ракет Q и N с жидкостными ступенями (на базе технологии РН Delta, закупленной в США) и строительству нового полигона – Космического центра Танегасима на одноименном острове.
В 1968 финансовом году NSDC получил третью часть бюджета, предназначенного на «японский космос» (бюджет ISAS уменьшился с 11,109 млн $ в 1967 ф.г. до 9,885 млн $ в 1968 ф.г.; в свою очередь, бюджет NSDC вырос за тот же период с 3,851 до 8,358 млн $). Третьей организацией, занимающейся космосом, была Научно-исследовательская лаборатория радио (бюджет 2,011 млн$ в 1968 ф. г), которая участвовала в разработке ИСЗ для исследования ионосферы[25]25
Следует отметить, что Научный Совет Японии одобрил также проект ракеты, стартующей с воздушного шара (деньги на проект выделила газета Yomiuri). Два таких шара с ракетами были запущены в 1961 г. из Роккачо (Rokkasho), Аомори (Aomori), но проект заглох.
Идея старта с воздушного шара была возрождена при испытаниях летной модели японского шаттла в конце 1990-х гг.
[Закрыть].
Вследствие секвестра бюджета активность ISAS была снижена. Ко всем неприятностям добавились требования японских рыбаков запретить пуски ракет из Утиноуры, и интенсивность функционирования Космического центра Кагосима пришлось резко ограничить.
Отсюда «Страна восходящего солнца» шагнула в космос (строительство стартовой площадки РН Lambda-4) (Фото JAXA)
Четвертая попытка космического старта ракеты «Лямбда-4S» состоялась 22 сентября 1969 г. – через полтора года после третьей. На сей раз все шло хорошо до окончания работы третьей ступени. Она штатно отделилась, но – в результате догорания остатков топлива – произошло ее соударение с отсеком СУ четвертой ступени. Потеря ориентации, гибель…
…11 февраля 1970 г. Мощный кран с направляющей стрелой поднял L-4S-5 на угол 63° над тихоокеанским горизонтом. Запустились двигатель первой ступени и два навесных СТУ. С более чем шестикратной перегрузкой ракета устремилась в небо. Через 7,4 сек (скорость М=1,5) ускорители прекратили работу и через 1,5 сек отделились.
Через 29 сек после запуска, на высоте 15 км, закончилось топливо в первой ступени. После ее отделения включились РДТТ закрутки, установленные в верхней части второй ступени. Стабилизация вращением (на уровне 2,5 об/сек) поддерживалась перекошенными на 4° стабилизаторами до тех пор, пока ракета не вышла из плотных слоев атмосферы.
Через 37 сек после старта запустилась вторая ступень. Она работала почти 40 сек, подняв ракету на высоту 58 км и более чем удвоив ее скорость (с 0,98 до 2,5 км/с). После пассивного полета в течение 23 сек до высоты 87 км отделились половинки ГО, защищающего спутник от атмосферного нагрева. Еще через две секунды разрывные болты разъединили, а пружины развели вторую и третью ступени.
Через 1 мин 43 сек после запуска включилась третья ступень. Она проработала 27 сек и увеличила скорость до 4,6 км/с (число М=15).
С высоты 141 км начался пассивный полет по баллистической траектории. Через 2,5 мин после пуска отделилась третья ступень (тормозные РДТТ увели ее от отсека управления, исключив тем самым столкновение, которое привело к аварии в предыдущем полете). Через 6 сек пара РДТТ отработала программный импульс противовращения. Лишь после этого система инерциальной навигации стала впервые участвовать в управлении носителем. По сигналам от гироскопов крошечные микро-ЖРД на перекиси водорода окончательно остановили закрутку и наклонили ступень по тангажу. На 4-й мин полета они же начали новую закрутку, удерживая ее на уровне 3 об/сек. Отсек управления и четвертая ступень еще 3 мин поднимались до апогея траектории. Момент включения РДТТ программировался бортовым таймером и корректировался по радиокомандам с Земли.
Через 7 мин 57 сек после взлета, на высоте 325 км, четвертая ступень, отделив отсек управления, запустилась. За 32 сек работы она разогналась до скорости 8,13 км/с – и вышла на орбиту ИСЗ. Победа!
Запуск Lambda-4S-5 11 февраля 1970 г. Через 8 мин 29 сек Япония станет четвертой державой «Большого космического клуба» (Фото JAXA)
Установка ГО на спутник Ohsumi. Хорошо виден сферический РДТТ четвертой ступени (Фото JAXA)
Подготовка к первому запуску «рабочего» носителя Mu-4S (Фото JAXA)
Первый японский спутник – Ohsumi – нарекли в честь полуострова, с которого он был запущен. КА представлял собой усеченный конус высотой 0,447 м, диаметром основания 0,304 м и включал термометры, акселерометры и передатчики общей массой 9 кг. Ohsumi вышел на высокоэллиптическую орбиту с параметрами:
– наклонение– 31°;
– перигей – 337 км;
– апогей – 5151 км;
– период обращения – 144,6 мин.
Ушедший в отставку Хидео Итокава, который в это время «по нефтяным делам» был далеко от Японии – пересекал на автомобиле пустыню на границе Кувейта и Саудовской Аравии – услышал новость по радио. Он остановил машину, вышел и, подняв глаза к небу, заплакал. Мечта его жизни осуществилась!
… Отработавшая четвертая ступень своей остаточной теплотой подняла температуру в приборном отсеке ИСЗ выше 70 °C и тем самым сократила ресурс батарей электропитания вдвое.
Ohsumi не сделал никаких открытий: он был не научным КА, а всего лишь телеметрическим контейнером ракеты. «Лямбду-4S» не предполагалось далее эксплуатировать в качестве космической РН, и «Осуми» стал первым и последним спутником, запущенным ею. С построенного неподалеку нового комплекса готовились запуски более мощного носителя серии «Мю».
Работы по РН этой серии начались в ISAS в 1963 г. Первый вариант Mu-4S – комбинация четырех специально созданных РДТТ – был значительно мощнее «Лямбды». Носитель не имел автономной бортовой системы управления – полет ракеты шел по радиокомандам с Земли. Двигатели нижних ступеней оснащались системой управления вектором тяги, верхняя ступень стабилизировалась закруткой. Оторвать ракету от земли помогали восемь СТУ, испытанных еще на «Лямбде».
ЛКИ ракеты Mu с «живой» первой ступенью начались 31 октября 1966 г. Через три года суборбитальный полет совершил трехступенчатый прототип.
Первая попытка орбитального запуска Mu-4S-1 была предпринята 25 января 1970 г., т. е. еще до старта «Лямбды-4S-5», но окончилась неудачей – не включился двигатель четвертой ступени. Погиб аппарат MS-F1 (или «Научный спутник № 1»), который нес три прибора для исследования ионосферы, два приемника солнечного излучения и блок датчиков энергичных частиц. К счастью, имелся его дублер. Перед запуском этого второго экземпляра ISAS решил провести дополнительные эксплуатационные испытания носителя Mu-4S с технологическим ПГ MS-T1. 16 февраля 1971 г. Mu-4S-2 вывел этот аппарат на орбиту высотой ~1000 км. Спутник получил название «Tansei» или «Светло-синий» (цвет здания Токийского университета).
Наконец, 28 сентября 1971 г. аппарат MS-F2 массой 65 кг стал первым японским научным спутником (получил после выхода на орбиту название «Shinsei» или «Новая Звезда»). После третьего успешного запуска 19 августа 1972 г. Mu-4S была заменена более мощным вариантом Mu-3С. Вслед за ним появились ракеты Mu-3Н и Mu-3S. Каждый вариант представлял собой последовательное усовершенствование предыдущих: росла масса ПГ и точность его выведения на орбиту. По мере появления новых модификаций твердотопливных РН возможности ISAS выросли настолько, что в 1980-1990-х годах позволили институту – совершенно независимо от NASDA – запустить первые японские межпланетные аппараты к комете Галлея и Луне.
… А ракетчик № 1 «Страны восходящего солнца» Хидео Итокава написал «персональную историю в стихотворной форме», которая была опубликована в серии статей газетой Nikkei Shimbun 10 ноября – 6 декабря 1974 г. Как гласит японская поговорка, «все содеянное тобой – к тебе же и вернется»…
Китайская Народная Республика: «Алеет восток»
Старт первого китайского космонавта Ян Ливэя сделал КНР третьей страной – после России/СССР и США – овладевшей технологией пилотируемых полетов в космос. В этой связи небезынтересно напомнить, что Китай вступил в «космический клуб» пятым – в 1970 г., после СССР, США, Франции и Японии.
В пору «великой дружбы» СССР помог китайцам организовать производство баллистической ракеты Р-2. Кроме того, Н.С.Хрущев передал «в дар» Мао Цзэдуну экземпляр Р-5М.
1 сентября 1960 г. с полигона Цзюцюань стартовала первая ракета Р-2, поставленная из СССР. А через два месяца, 5 ноября, впервые совершила полет уже «Дун Фэн-1» (Dong Feng-1, DF-1, «Ветер с востока-1») – освоенная китайцами копия Р-2 («модель 1059»).
Развитие линии Р-2/Р-5 – изделие DF-2, классифицируемое как баллистическая ракета среднего радиуса действия (китайцы попытались восстановить всю технологию Р-5М по единственному переданному им образцу). Улучшенный вариант ракеты имел дальность до 1200 км (как у советского прототипа); смешанная радиоинерциальная система управления была заменена чисто инерциальной.
DF-2 стала единственной китайской ракетой, запущенной с реальной ядерной боеголовкой: 27 октября 1966 г., стартовав из Цзюцюаня, ракета доставила боезаряд в 20 кТ на атомный полигон Лоб-Нор.
Ни в коем случае не умаляя роли китайских специалистов, необходимо отметить инициирующий «русский след» в появлении и становлении китайской ракетной техники. Передача КНР документации и образцов ракет, строительство и оснащение заводов по их производству, подготовка в советских ВУЗах китайских инженеров и ученых – вот тот трамплин, с которого Китай начал самостоятельный «путь в небо».
Следует отметить, что в свое время китайская Академия наук получила от советских коллег предложение участвовать в сопровождении полета спутника, и в КНР была развернута сеть из 12 наземных станций.
Достижения китайской космонавтики неотделимы от имени Цянь Сюэсэня (Qian Xuesen) – личности весьма загадочной и, как сейчас говорят, харизматической.
Цянь родился в 1911 г. в городе Ханьчжоу, в 1935 г. поехал в США получать образование. Учился в Массачусетском технологическом (магистр) и Калифорнийском технологическом (доктор аэронавтики) институтах. Его научным руководителем был известный специалист в области аэрогидродинамики Теодор фон Карман. Выказав блестящие способности, Цянь быстро вырос до профессора Калифорнийского технологического института, участвуя при этом в работах лаборатории JPL и фирмы Aerojet. В конце Второй мировой войны Цянь в составе группы экспертов отправился в Германию на поиск «нужных людей и ценных бумаг». В мае 1945 г. именно Цянь Сюэсэнь допрашивал Вернера фон Брауна и других сотрудников ракетного центра Пенемюнде.
После возвращения в Пасадену Цянь (между прочим, полковник ВВС) выпустил обзор «Реактивное движение» (Jet Propulsion) объемом ~800 страниц, ставший «технической библией» послевоенной авиационной и ракетной промышленности США.
В 1947 г. Цянь женится на дочери одного из высших руководителей чанкайшистской партии. Перспективы его карьеры выглядят блестяще.
Однако жизнь спутала все карты. После провозглашения КНР и образования мирового социалистического лагеря в США началась «охота на ведьм». Цянь Сюэсэнь, как и другие выходцы из «прокоммунистических» стран, подвергся многочисленным и унизительным проверкам на лояльность. В 1950 г. ему инкриминировали пособничество коммунистической партии и отстранили от работ. Пять лет он фактически находился под домашним арестом. На женевских переговорах по возвращению американских военнопленных – участников корейской войны освобождение Цяня стало одним из условий китайцев. Президент Эйзенхауэр согласился на сделку, и 17 сентября 1955 г. Цянь Сюэсэнь выехал из Соединенных Штатов. По возращению в Китай его ждал «бамбуковый железный занавес» и тайное государственное задание: строить ракеты для народной республики. 17 февраля 1956 г. Цянь Сюэсэнь представил в Госсовет КНР «Проект создания национальной авиационной и оборонной промышленности». А уже 26 мая была основана Пятая академия министерства обороны [по разработке баллистических ракет]. По предложению Цяня, которого назначили ее руководителем, с 1 июня 1956 г. началось строительство ракетного полигона в Цзюцюане, на северо-западе провинции Ганьсу, – первого китайского космодрома, будущего Центра спутниковых запусков. Именно с этих дней ведется отсчет истории ракетно-космической отрасли КНР.
В мае 1958 г., под сильным впечатлением от мировой реакции на первые спутники, Мао Цзэдун призвал соотечественников запустить собственный ИСЗ. Центральный Комитет Коммунистической партии Китая (КПК) принял в августе того же года решение по «Проекту 581». В рамках проекта предполагалось, что сначала КНР получит опыт применения высотных исследовательских ракет, затем запустит прототип спутника, а уж потом сможет развернуть «широкую и эффективную программу практического применения космических аппаратов».
История КНР в лицах: «великий кормчий» Мао Цзэдун (справа) и «главный ракетчик» Цянь Сюэсэнь. Они довольны – китайскому космосу быть!
За ракеты отвечала Пятая академия, за их научную «начинку», а также сооружение наземной сети слежения – китайская АН. В структуре последней были созданы три специализированных института – НИИ № 1001 по основным вопросам разработки ракет и спутников, НИИ № 1 по вопросам управления и контроля, НИИ № 2 по разработке научных и измерительных приборов.
После перевода НИИ № 1001 в Шанхай он получил наименование «Шанхайского проектного электромеханического института» и сконцентрировался на разработке ракет типа Т-7 (на базе советской МР-12). 19 февраля 1960 г. прототип Т-7М успешно стартовал с о-ва Лаоган. Вариант Т-7А был способен поднимать 40 кг на высоту 100 км. Пик программы исследовательских ракет пришелся на 1966 г. По предложению НИИ биофизики, ракеты серии T-7A-S подняли в стратосферу двух собачек – Сяо Бао («Леопардик», 14.07.1966) и Шань Шань («Коралл», 28.07.1966).
Ракета средней дальности DF-3 – прототип первой ступени спутниковой РН
В мае 1964 г. по предложению Цянь Сюэсэня в «Шанхайском проектном» была образована группа по разработке спутника. В январе 1965 г. он представил программу создания национального ИСЗ Центральному комитету КПК. Она была одобрена и получила новое обозначение – «Проект 651».
В этот период в КНР проходила крупная реорганизация научно-исследовательской инфраструктуры страны, в ходе которой многие соответствующие учреждения переходили под контроль военных. На базе Пятой академии было образовано Седьмое министерство машиностроения. «Шанхайский проектный» переехал в Пекин и стал «Проектным институтом 8–1» нового министерства. Для ускорения работ был срочно создан «Пекинский институт проектирования систем космических аппаратов», который сразу же включился в разработку ракеты-носителя «Чан Чжэн-1» (CZ-1[26]26
Chang Zheng-1, «Великий Поход-1»
[Закрыть]).
В связи с переподчинением Шанхайского проектного института Академия наук КНР сочла целесообразным основать новый институт по разработке спутника. По названию проекта он получил наименование НИИ № 651. Явно с одобрения руководства страны институт принял решение, чтобы будущий спутник передавал с орбиты мелодию гимна «Алеет Восток».
В марте 1966 г. по инициативе «великого кормчего» началась так называемая «культурная революция». Интеллектуальную элиту страны «перековывали» в лагерях трудового воспитания и «коммунах», или попросту уничтожали. В одночасье Цянь Сюэсэнь из главного разработчика ракет превратился в простого служащего машиностроительной фабрики.
В этой ситуации прагматичный премьер-министр КНР Чжоу Эньлай предпринял дальновидный шаг. Он переподчинил «Проект 651» министерству обороны: сюда «революционному террору» вход был воспрещен. Путем слияния НИИ № 651 и Проектного института 8–1 была образована Китайская академия космической технологии, на пост первого президента которой был «приглашен» срочно реабилитированный Цянь Сюэсэнь.
Следует отметить, что хотя АН КНР и далее участвовала в разработке спутника, ее роль свелась, в основном, к строительству наземных станций слежения (было образовано КБ № 701, на базе которого впоследствии сформировалась общекитайская сеть станций сопровождения).
Космическая ракета-носитель разрабатывалась на базе МБР «ограниченной[27]27
«Классическая» МБР имеет дальность 6-11 тыс км.
[Закрыть] дальности» DF-4 (расчетный радиус стрельбы – около 4000 км), проектирование которой началось в 1965 г.
Характеризуя китайскую конструкторскую школу, отметим, что эта ракета (как и многие другие образцы ракетно-космической техники КНР) была своеобразной компиляцией технических решений, свойственных советским, американским и отчасти европейским разработкам начала 1960-х годов[28]28
Великий Конфуций (VI–V вв. до н. э.) учил: «Три пути ведут к знанию: путь размышления – самый благородный, путь подражания – самый легкий, путь опыта – самый горький». Кто «бросит камень» в выбравших «легкий путь» китайских разработчиков, за спиной которых не было ни мощной научной базы, ни серьезного инженерного опыта, ни даже надежного технического образования?
[Закрыть].
МБР «ограниченной дальности» DF-4 – база спутникового носителя
Концептуально первая ступень DF-4 напоминала отечественные ракеты Р-12/Р-14 и оснащалась четырехкамерным ЖРД с неподвижными соплами. Каждая камера имела автономный ТНА для подачи компонентов топлива. Расчетная балансировка ракеты достигалась за счет аэродинамических стабилизаторов, а управление – путем отклонения газовых рулей. Разделение ступеней – по «советскому» принципу: ЖРД второй ступени включается в конце работы двигателя первой; газы истекают через ферменный межступенчатый переходник, расталкивая ступени (тормозят первую и разгоняют вторую).
Вторая ступень по концепции близка верхней ступени американской МБР Titan 2. Китайцы применили однокамерный ЖРД с сопловым насадком большой степени расширения. Последний охлаждался частью относительно «холодного» выхлопа ТНА. Другая часть выхлопа перепускалась через управляющие рулевые сопла.
Двигатели DF-4 были разработаны НИИ ракетных двигателей на жидком топливе и выпускались Заводом общей сборки ракет. Работами по проекту в НИИ руководили Дэнь Синьминь (Den Xinmin), Ma Цзосинь (Ma Zuoxin) и Чжан Гуйтянь (Zhang Guitian).
Спутниковый носитель был готов еще до начала летных испытаний DF-4. Его первая и вторая ступени были фактически аналогичны DF-4[29]29
На первой ступени устанавливался четырехкамерный ЖРД YF-2A (аббревиатура от Yei-ti Fa-dong-ji, «Ей-ти Фа-дун-цзи» – жидкостный двигатель), на второй – YF-3 (тот же YF-2, но в однокамерном исполнении с высотным соплом). Газогенераторы ТНА двигателей работали на основных компонентах топлива.
С достаточной степенью достоверности можно считать, что в основу этих китайских ЖРД положены советские принципы разработки. Например, в их конструкции широко применяются оболочечные паяно-сварные камеры с плоскими смесительными головками, имеющими одно– или двухкомпонентные форсунки, моноблочные одновальные безредукторные ТНА, а также агрегаты автоматики с пиротехническими или пневматическими приводами.
[Закрыть]. Разработка твердотопливной третьей ступени была совершенно новой технологией для КНР – двигатель GF-02 имел диаметр 770 мм, длину 4 м и был снаряжен шашкой твердого топлива массой 1,8 т.
Работа над РДТТ началась в 1965 г. в Исследовательской академии [ракетных] двигателей на твердом топливе под руководством Ян Наньшэна (Yang Nansheng). Первый образец двигателя был собран и испытан 26 января 1968 г. на стенде, имитирующем вращение ступени с частотой 180 об/мин для ее стабилизации. На тридцатой секунде GF-02 взорвался. Погибли несколько инженеров и техников. После доработки РДТТ в 1968-70 гг. проведено 19 огневых стендовых испытаний двигателя (все успешные).
Схема полета китайской РН имела следующие особенности.
После отсечки ЖРД второй ступени носитель совершает пассивный полет продолжительностью более 200 сек. Управление и стабилизация – газореактивной системой, использующей остатки жидкого топлива маршевой ДУ. После отделения второй ступени – третья вместе со спутником закручивается до 180 об/мин специализированными РДТТ, чтобы сохранить устойчивость на стадии работы основного двигателя.