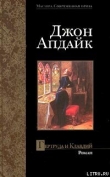Текст книги "В скорлупе"
Автор книги: Иэн Расселл Макьюэн
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Иэн Макьюэн
В скорлупе
Ian McEwan
NUTSHELL
© Голышев В., перевод на русский язык, 2017
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Э», 2017
* * *
Рози и Софи
Боже, я мог бы жить в ореховой скорлупе и считать себя царем бескрайнего пространства – если б не дурные сны.
Шекспир, «Гамлет»
1
Вот он я, вверх ногами в женщине. Руки терпеливо сложены, жду, жду и думаю, в ком я и что будет. Глаза ностальгически закрываются, когда вспоминаю, как плавал в своей прозрачной сумке, сонно булькая мыслями, плавно кувыркаясь в персональном океане, мягко натыкаясь на прозрачные границы моей темницы – на чуткую мембрану, ловящую приглушенные голоса заговорщиков в их гнусной затее. Это было в моей беспечной молодости. Теперь я прочно перевернут, ни одного свободного сантиметра вокруг, колени прижаты к животу, мысли полностью включены, и голова помещена в отведенное ей пространство. У меня нет выбора, день и ночь мое ухо прижато к кровавой стенке. Я слушаю, мысленно делаю заметки, и я обеспокоен. Слушаю постельный разговор о планах умерщвления, и в ужасе от того, что ждет меня, во что меня могут впутать.
Я погружен в абстракции, и только умножение связей между ними создает иллюзию известного мира. Когда я слышу «синее», которого никогда не видел, воображаю некое психическое событие, довольно близкое к «зеленому» – которого тоже никогда не видел. Себя считаю невинным, не обремененным обязанностями и обязательствами, духом вольным, несмотря на ограниченность жилья. Никто не может мне перечить и выговаривать, нет ни имени, ни прошлого адреса, ни религии, ни долгов, ни врагов. В моем списке дел, если бы он существовал, – только предстоящий день рождения. Вопреки тому, что говорят генетики, я остаюсь – или был – tabula rasa, чистой доской. Но скользкой пористой доске не найдется применения ни в классе, ни на крыше – доска сама на себе пишет и растет день ото дня, становясь все менее чистой. Я считаю себя невинным, но, кажется, участвую в заговоре. Моя мать, дай бог здоровья ее неутомимо хлюпающему сердцу, кажется, к нему причастна.
Кажется, мама? Нет, не кажется. Так оно и есть. Причастна. Я с самого моего начала знал. Дай вспомнить его, этот миг творения, с которым родилось мое первое понятие. Давно, много недель назад, нервная бороздка сомкнулась, сделавшись позвоночным столбиком, и миллионы молодых нейронов, трудолюбивых, как шелкопряды, сплели из своих аксонов роскошную золотую ткань моей первой идеи, такой простой, что сейчас она от меня частично ускользает. Идея была «Я»? Слишком себялюбиво. «Сейчас»? Излишне драматично. Тогда что-то, предшествующее им, содержащее их в себе, одно слово, передаваемое мысленным вздохом или обморочным приятием, чистым бытием, что-нибудь вроде… «Это»? Слишком манерно. Но уже ближе: моя идея была – «Быть». Или, если не так – то ее грамматический вариант: «Есть». Это мое исконное понятие, и вот он, коренной вопрос – «Есть». И только. В духе «Es muss sein»[1]1
«Так должно быть» (нем.). Надпись Бетховена на рукописи последней части квартета № 16.
[Закрыть]. Начало сознательной жизни стало концом иллюзии небытия и вспышкой реальности. Торжеством реализма над магией, «есть» над «кажется». Моя мать «есть» участник заговора, и, следовательно, я тоже участник, если даже мне суждено в итоге его сорвать. Или, если я, нерасторопный дурак, рожусь с опозданием, – отомстить за него.
Но я не ною, не жалуюсь на судьбу. Я с самого начала знал, как только развернул из золотой парчи мой дар сознания, что мог появиться в худшем месте и в гораздо худшее время. Общие условия уже известны, по сравнению с ними мои домашние невзгоды ничтожны, ими надо пренебречь. А радоваться есть чему. Я унаследую современные условия (гигиена, выходные дни, болеутоляющие, настольные лампы для чтения, апельсины зимой) и буду обитать в привилегированном уголке планеты – в сытой, свободной от эпидемий Западной Европе. Древней Эуропе, склеротической, относительно доброй, мучимой призраками, бессильной перед хулиганом, неуверенной в себе, манящем прибежище для миллионов несчастных. Непосредственным моим окружением будет не цветущая Норвегия, первая среди моих предпочтений по причине ее гигантского суверенного резерва и щедрого социального обеспечения; не вторая по желательности Италия, с ее национальной кухней и солнечным упадком; ни даже третья моя фаворитка, Франция, с ее пино-нуар и веселым самоуважением. Нет, я унаследую нечто меньшее, чем Соединенное Королевство, возглавляемое почитаемой старой королевой, где принц-бизнесмен, знаменитый добрыми делами, своими эликсирами (экстрактом цветной капусты для чистки крови) и неконституционными вмешательствами, нетерпеливо ждет короны. Здесь будет мой дом, и он вполне годный. Я мог появиться в Северной Корее, где принцип наследования так же неоспорим, но еды и свободы нехватка.
Как это я, не юный даже, даже не вчера родившийся, могу столько всего знать или знать достаточно, чтобы в столь многом ошибаться? У меня свои источники. Я слушаю. Моя мать Труди, когда с ней нет ее друга Клода, любит радио и предпочитает музыке разговоры. Кто при зарождении Интернета мог предвидеть беспрерывный рост радио или возрождение архаического слова «вещание»? Сквозь прачечные звуки желудка и кишечника я слышу новости, родник всех дурацких снов. Не щадя себя, внимательно слушаю аналитику и споры. Повторение каждый час, сводки раз в полчаса мне не надоедают. Терплю даже «Всемирную службу Би-би-си» с ребяческими вскриками синтетических труб и ксилофона между сообщениями. Посреди долгой тихой ночи могу поддать матери ногой. Она проснется, сон нарушен, включит радио. Жестокий спорт, я знаю, но к утру мы уже лучше информированы.
И она любит интернет-подкасты и развивающие аудиодиски – «Разбираемся в винах» в пятнадцати частях, биографии драматургов семнадцатого века и мировую литературную классику. «Улисс» Джеймса Джойса ее усыпляет, а меня, наоборот, приводит в трепет. В первые недели, когда она вставляла наушники, я слышал ясно: звук отлично проходит по челюстной кости, по ключице, вниз по скелетной конструкции и, мгновенно, через амнион. Даже телевизор передает большую часть своего скудного продукта через звук. И когда мама встречается с Клодом, они порой обсуждают состояние мира, чаще в скорбных тонах, хотя сами замышляют сделать его еще хуже. Помещаясь там, где я есть, и, не имея других занятий, кроме как растить тело и ум, я впитываю все, даже пустяки – а они в изобилии.
Потому что Клод – это человек, который любит повторяться. Человек рефренов. Пожимая руку незнакомому – я слышал это дважды, – он говорит: «Клод, как Дебюсси». Как же он не прав! Этот Клод – как торговец недвижимостью, он ничего не сочиняет и не изобретает. У него появляется мысль, он произносит ее вслух. Потом опять появляется, и – почему бы нет? – опять произносит. Вторично колебля воздух своей мыслью, он получает удовольствие. Он знает, что вы знаете, что он повторяется. А вот чего он не может знать – что вас это не так радует, как его. Это, как я узнал из рейтовской лекции, называется парадоксом самореференции.
Вот пример клодовского дискурса и того, как я набираю информацию. Они с матерью договорились по телефону (я слышу обоих абонентов) встретиться вечером. Не учитывая меня, как у них повелось, – ужин вдвоем при свечах. Откуда я знаю об освещении? Потому что в условленный час, когда их подводят к столу, слышу жалобу матери. У всех на столах горят свечи, а у нас – нет.
Затем слышится раздраженное пыхтение Клода, повелительное щелканье пальцев, подобострастное бормотание, исходящее, догадываюсь, от официанта, щелчок зажигалки. Теперь не хватает только еды. Но у них в руках увесистые меню – нижний край ее экземпляра я чувствую поясницей. Теперь я должен выслушать неизменную реплику Клода по поводу терминов меню – как будто он первым на свете заметил эти мелкие нелепости. Он зачитывает: «Жаренный на сковороде». Что такое «на сковороде», как не лицемерное благословение вульгарному и неполезному жаренью? Где еще можно жарить эскалоп с чили и соком лайма? В яйцеварке с таймером? Прежде чем двинуться дальше, он повторяет свою мысль, меняя акценты. Затем его вторая любимая мишень, американский импорт: «ручной нарезки». Я безмолвно декламирую его речь, пока он сам еще не начал, и тут легкое отклонение моего тела от вертикали говорит мне, что мать подалась вперед, тронула успокоительным пальцем его запястье и, нежно меняя тему, сейчас произнесет: «Выбери вино, дорогой. Что-нибудь волшебное».
Люблю разделить с ней возлияние. Вы, может быть, никогда не пробовали или забыли вкус хорошего бургундского (ее любимого) или хорошего сансера (тоже ее любимого), процеженных через здоровую плаценту. Еще до того, как вино поступит – сегодня это «Жан-Макс Роже Сансер», – еще при хлопке извлеченной пробки я ощущаю его лицом, как ласку летнего ветерка. Я знаю, что алкоголь понизит мои умственные способности. У всех понижает. Но от веселого румяного пино-нуар или пурпурного совиньона ох, как я кручусь и кувыркаюсь в моем тайном море, отскакиваю от стенок моего замка, упругих стенок замка, где я живу. Вернее, так было, когда в нем было просторнее. Теперь я получаю удовольствие в оседлом состоянии, и со вторым бокалом в моих размышлениях расцветает вольность, имя которой – поэзия. Мысли разматываются пружинистыми пентаметрами, рублеными строчками или анжамбеманами в приятной очередности. Но от третьего бокала мать всегда отказывается, и это меня ранит.
«Я должна думать о ребенке», – слышу я, когда она прикрывает бокал добродетельной ладонью. Вот тут мне хочется ухватиться за мой маслянистый шнур, как за бархатную веревку в хорошо укомплектованном доме, и дернуть, вызывая прислугу. Эй, там! Еще по одной для всей компании!
Но нет, из любви ко мне она воздерживается. И я ее люблю – как не любить? Родную мать, с которой еще предстоит познакомиться, которую знаю только изнутри. Недостаточно! Жажду узнать снаружи. Наружность – это все. Я знаю, что волосы у нее «соломенно-золотые» и ниспадают «буйными гинеями» на «плечи яблочной налитой белизны», потому что мой отец читал ей стихи об этом в моем присутствии. Клод тоже отзывался о ее волосах, но менее изобретательно. По настроению она заплетает тугие косы и укладывает бубликом на голове в стиле, как говорит отец, Юлии Тимошенко. Знаю еще, что глаза у матери зеленые, что нос ее – «перламутровая пуговка», что ей хотелось бы более крупного, что оба мужчины по отдельности обожают его такой, как есть, и уверяли ее в этом. Ей много раз говорили, что она красивая, но она относится к подобным уверениям скептически, и это придает ей невинную власть над мужчинами – так ей сказал однажды днем в библиотеке мой отец. Она ответила, что если это и правда, то власти такой она никогда не искала и не желала. Это был необычный для них разговор, и я напряженно слушал. Мой отец, которого зовут Джон, сказал, что, если бы у него была такая власть над ней или над женщинами вообще, он не представляет себе, чтобы смог от нее отказаться. По симпатическому волнообразному движению, на миг оторвавшему мое ухо от стенки, я догадался, что мать выразительно пожала плечами, словно говоря: «Значит, мужчины не такие. Не все ли равно?» Кроме того, сказала она вслух, если и есть у нее какая-то власть, то та только, какую дали ей мужчины в своих фантазиях. Потом зазвонил телефон, отец пошел к нему, и этот редкий интересный разговор о тех, у кого власть, больше не возобновлялся.
Но вернемся к моей матери, к моей неверной Труди, чьи яблочные плечи и груди и зеленый взор я жажду увидеть, чья необъяснимая потребность в Клоде предшествовала моему сознанию, моему изначальному «есть», и которая часто объясняется с ним – как и он с ней – постельным шепотом, ресторанным шепотом, кухонным шепотом, словно оба подозревают, что у матки есть уши.
Раньше я думал, что это – всего лишь интимность любовников. Но теперь я знаю. Они не тревожат воздухом голосовые связки потому, что задумали ужасное. Я слышал: если сорвется, их жизнь погублена. Они считают: если действовать, то быстро и не откладывая. Они убеждают друг друга быть спокойными и терпеливыми, напоминают друг другу, во что им обойдется ошибка, и что план их включает несколько этапов, связанных между собой, и неудача на одном этапе означает полный провал, «как одна перегоревшая лампочка гасит елочную гирлянду», – совершенно загадочное сравнение Клода, не склонного к темным речам. Замышляемое пугает их до тошноты, и они не могут говорить об этом прямо. Шепотом, эллиптически, с эвфемизмами, апориями, бормоча, откашливаясь, то и дело бросая тему.
Жаркой, беспокойной ночью на прошлой неделе, когда я думал, что они давно спят, за два часа до рассвета по отцовским часам внизу, в кабинете, мать вдруг сказала в темноту: «Мы не можем это сделать».
И тут же Клод решительно откликнулся: «Мы можем». И после минутного размышления: «Можем».
2
Теперь о моем отце, Джоне Кейрнкроссе, крупном мужчине, второй половине моего генома, чьи спиральные повороты судьбы сильно меня затрагивают. Только во мне родители и соединились навсегда, сладко, кисло, двумя сахарофосфатными остовами соединились в состав моей сущности. И я также сливаю Джона и Труди в моих грезах – как всякий ребенок разошедшихся родителей, мечтаю поженить их заново, эту пару оснований, – и соединить мои обстоятельства с моим геномом.
Отец иногда приходит в дом, и я вне себя от радости. Иногда он приносит ей смузи из своего любимого кафе на Джадд-стрит. У него слабость к этим липким сладостям, которые якобы продлевают ему жизнь. Не знаю, зачем он нас навещает, потому что уходит всегда в пасмурной грусти. Все мои домыслы впоследствии оказывались ошибочными, но я слушал внимательно и теперь предполагаю следующее: он ничего не знает о Клоде, по-прежнему вздыхает о моей матери, надеется когда-нибудь – и скоро – снова быть с ней и верит в ее сказку, что они разлучились не насовсем, чтобы получить «время и пространство для роста» и обновить их узы. Что он непризнанный поэт, но поэзию не бросает. Что он владелец нищего издательства и выпустил в свет первые сборники прославившихся затем поэтов и даже одного нобелевского лауреата. Приобретя известность, они переходят в крупные издательства, как взрослые дети в более просторный дом. Что измену он принимает как естественное проявление жизни и, как святой, радуется их лаврам как оправданию деятельности «Кейрнкросс-пресс». Что он опечален, а не отравлен своей несостоятельностью как поэта. Однажды он прочел Труди и мне пренебрежительную рецензию на его стихи. Говорилось, что они старомодные, чинно-правильные, излишне «красивые». Но он живет поэзией, все еще читает стихи матери вслух, преподает, рецензирует, принимает участие в молодых авторах, заседает в комитетах по присуждению премий, продвигает поэзию в школы, пишет статьи о поэзии в маленькие журналы, беседует о ней по радио. Мы с Труди однажды слышали его поздней ночью. Денег у него меньше, чем у Труди, и гораздо меньше, чем у Клода. Он помнит наизусть тысячу стихотворений.
Таково мое собрание фактов и постулатов. Склонившись над ними, как терпеливый филателист, я добавил к этому набору несколько недавних. Он страдает кожным заболеванием, псориазом, отчего руки у него шершавые и красные, шелушатся. Труди не переносит их вида и прикосновений и убеждает отца носить перчатки. Он отказывается. Он снял на полгода три паршивых комнаты в Шордиче, сидит в долгах, толст и должен больше двигаться. Только вчера я обзавелся – опять о марках – историческим экземпляром: дом, в котором живет моя мать, а я в ней, дом, куда каждый вечер приходит Клод, георгианская громадина на заносчивой Гамильтон-Террас – это дом, где вырос мой отец. На третьем десятке, когда он отращивал первую свою бороду и вскоре после женитьбы на моей матери, он получил этот фамильный особняк в наследство. Его дорогая мать давно скончалась. Все источники согласны: дом – трущоба. Все стандартные описания тут уместны: осыпается, лупится, крошится. Зимой от мороза могли залубенеть шторы; в ливень водостоки, как надежный банк, возвращают вклад с процентами; летом, как плохие банки, воняют. Но слушайте, у меня в пинцете – редчайший экземпляр, Британская Гвиана: даже в таком распадном состоянии эти пятьсот пятьдесят квадратных метров хлева принесут вам семь миллионов фунтов.
Большинство мужчин, большинство людей никогда не позволили бы супруге или супругу выгнать себя из-под родного крова. Джон Кейрнкросс не таков. Вот мои обоснованные умозаключения. Рожденный под любезной звездой, всегда готовый сделать приятное, слишком добрый, слишком серьезный, он чужд молчаливой алчности тщеславного поэта. Он в самом деле верит, что если воспоет мать в стихах (ее глаза, ее волосы, ее губы) и придет, чтобы прочесть ей вслух, то смягчит ее и будет желанным гостем в собственном доме. Но она знает, что глаза у нее совсем не «как мурава Голуэя» (он имел в виду «очень зеленые»), и, поскольку ирландской крови в ней нет, стих анемичен. Когда мы с ней слушаем, я чувствую по ее замедлившемуся сердцебиению, что глаза ее заволакивает скука, и она не в силах ощутить всей трогательности этой сцены – большой, великодушный мужчина ходатайствует о любви в немодной форме сонета.
Тысяча – может быть, преувеличение. Но отец знает много длинных стихотворений, таких, как знаменитые творения банковских служащих «Кремация Сэма Макби» и «Бесплодная земля»[2]2
«Кремация Сэма Макби» – баллада Роберта У. Сервиса. «Бесплодная земля» – поэма Т. С. Элиота.
[Закрыть]. Труди все же терпит периодические декламации. По ней, монолог лучше разговора, предпочтительней прогулки по неполотому саду их брака. Может быть, терпит из чувства вины, уж сколько его там осталось. Когда-то, видимо, разговоры отца о поэзии были их любовным ритуалом. Странно, что она не в силах сказать ему то, о чем он, наверное, догадывается и чего она не сможет скрыть. Что она его больше не любит. Что у нее – любовник.
Сегодня женщина рассказывала по радио, как задавила на пустынной дороге собаку, золотистого ретривера. Под фарами своей машины она присела около умиравшего в страшных судорогах животного и держала его за лапу. Большие карие глаза смотрели на нее без укора. Свободной рукой женщина подобрала камень и несколько раз ударила несчастного по голове. Чтобы покончить с Джоном Кейрнкроссом, понадобился бы только один удар, один coup de vérité[3]3
Букв. – удар истины (фр.).
[Закрыть]. Но, вместо этого, когда он начинает декламировать, Труди вежливо делает вид, что слушает. Я же слушаю внимательно.
Обычно мы идем в его поэтическую библиотеку на втором этаже. Пока отец устраивается в своем кресле, слышен только громкий стук часов на каминной полке. Здесь, в присутствии поэта, я даю волю предположениям. Если отец смотрит на потолок, чтобы собраться с мыслями, то видит ветшание палладианского декора. Алебастровая пыль присыпала корешки знаменитых книг, будто сахарной пудрой. Мать, перед тем как сесть, вытирает сиденье кресла ладонью. Без увертюры отец набирает в грудь воздуха и начинает. Он декламирует плавно, с чувством. Большинство современных стихотворений оставляют меня холодным. Слишком много о себе, слишком глянцево-равнодушно о других, слишком много осечек в слишком коротких строках. Но теплые, как объятья братьев – Джон Китс и Уилфред Оуэн. Кто не хотел бы написать: «И яблоко под карамелью, и айва, и сливы, и горлянка»[4]4
Джон Китс. «Канун Святой Агнессы».
[Закрыть] или «Им саван – бледность лиц девичьих»?[5]5
Уилфред Оуэн. «Гимн обреченной юности».
[Закрыть]
Я вижу мать его обожающими глазами с другого конца комнаты. Она погрузилась в большое кожаное кресло времен фрейдовской Вены. Она грациозно подвернула под себя стройные ноги. Локоть оперт на подлокотник, рука подпирает склоненную голову, а пальцы другой руки тихонько барабанят по щиколотке. День жаркий, открыты окна, за ними – приятный гул уличного движения в Сент-Джонс-Вуде. Лицо у нее задумчивое, нижняя губа кажется тяжелой. Она облизывает ее чистым розовым языком. Несколько светлых завитков волос влажно прилипли к шее. Ситцевое платье, скроенное просторно из-за меня – светло-зеленого цвета, светлее ее глаз. Спокойная работа вынашивания идет своим чередом, и она ощущает усталость – приятную. Джон Кейрнкросс видит летний румянец на ее щеках, плавную линию плеча и шеи и набухших грудей, многообещающую выпуклость, под которой – я, незагорелые бледные икры, гладкую подошву высунувшейся ступни, рядок по росту выстроившихся невинных пальчиков, словно детишек на семейном фото. Все в ней, думает он, доведено до совершенства беременностью.
Он не видит, что она ждет не дождется его ухода. Что это безнравственно с ее стороны требовать, чтобы он жил отдельно, – сейчас, когда мы на третьем триместре. Неужели он так смиренен в своем уничижении? Такой большой мужчина – метр девяносто, я слышал, – великан с густыми черными волосами на могучих руках, глупый великан, если думает, что это правильно – освободить жене «пространство», в котором она якобы нуждается. Пространство! Ей бы сюда зайти, где я палец согнуть не могу. В лексиконе моей матери пространство, ее потребность в нем – искривленная метафора, если не синоним. Ее эгоизма, обмана, жестокости. Но погодите – я люблю ее, она мое божество, и я в ней нуждаюсь. Беру свои слова назад! Во мне говорило страдание. Я живу в таком же заблуждении, как мой отец. И это правда. Ее красота, и отстраненность, и готовность – они одно.
Над ней, как мне представляется, истлевший потолок библиотеки вдруг высыпает облако клубящихся частиц, и они проплывают в косом снопе солнечного света. Как же горят они на фоне коричневой потрескавшейся кожи кресла, в котором могли сидеть и Гитлер, и Троцкий, и Сталин в их венские деньки, когда они были еще только зародышами будущих себя! Я уступаю. Я – в ее власти. Прикажет – отправлюсь в Шордич, дозревать в ссылке. Пуповина не нужна. Мы с отцом соединены в безнадежной любви.
Несмотря на все сигналы – ее скупые реплики, зевки, общую невнимательность, – он засиживается до первых сумерек, вероятно, в надежде на ужин. Но мать ждет Клода. Наконец под предлогом усталости она выпроваживает мужа. Она провожает его до двери. Он долго и нерешительно прощается – как можно остаться равнодушным к грусти в его голосе? Мне больно думать, что он согласен на любое унижение, лишь бы провести с ней еще пять минут. Ничто, кроме его характера, не мешает поступить так, как поступил бы другой, – пойти с ней в хозяйскую спальню, туда, где были зачаты и сам он, и я, разлечься на кровати или в ванне, в густом облаке пара, потом созвать друзей, разлить вино – быть хозяином в своем доме. Но нет, он надеется чего-то добиться добротой и рабским потворством ее желаниям. Хотел бы ошибиться, но ждет его двойное поражение: она будет все так же презирать его за слабость, а он – страдать еще больше, чем полагалось бы. Его визиты не заканчиваются, они затухают. После него в библиотеке остается резонирующее поле печали; мнимая форма, разочарованная голограмма медленно гаснет в его кресле.
Она провожает его к выходу, и вот мы подходим к уличной двери. Разруха в доме обсуждается постоянно. Я знаю, что одна петля оторвалась от дверной коробки. Плесневый грибок превратил архитрав в слежавшийся порошок. Некоторых плиток на полу не хватает, иные треснули – некогда красочный ромбовидный узор георгианской эпохи восстановить невозможно. Эти трещины и лакуны прячутся под пластиковыми пакетами с пустыми бутылками и протухшей пищей. Они валяются под ногами – символы мерзости запустения: детриты пепельниц, бумажные тарелки с отвратными ранами кетчупа, скособочившиеся чайные пакетики, словно мешочки с зерном, припасенные мышами или эльфами. Уборщица уволилась в грустях задолго до моего возникновения. Труди знает, что не дело это для беременной – таскать мусор в урны с тяжелой крышкой. Она вполне могла бы попросить отца прибраться в холле, но не просит. Домашние обязанности могут перетечь в домашние права. И она, быть может, разрабатывает складную легенду его дезертирства. В этой версии Клод остается гостем, посторонним, но я слышал, как он объяснял, что уборка в одном углу дома только подчеркнет хаос в других местах. Несмотря на жару, я хорошо защищен от вони. Мама жалуется на нее почти каждый день, но вяло. Это лишь один из аспектов домашнего распада.
Она может подумать, что лепешка творога на его туфле или вид замшелого апельсина у плинтуса ускорит их прощание. Ошибается. Дверь открыта, одной ногой он переступил порог, а мы с ней ждем второго шага. Клод должен прийти через пятнадцать минут. Иногда приходит раньше. Поэтому Труди волнуется, но хочет выглядеть сонной. Она стоит как на иголках. Сальный квадратик бумаги, в которой было завернуто несоленое масло, прилип к подошве ее сандалии и измазал ей пальцы. Скоро она об этом расскажет Клоду в юмористических тонах.
Мой отец говорит:
– Слушай, нам правда надо поговорить.
– Да, но не сейчас.
– Мы все откладываем.
– Не могу передать тебе, как я устала. Ты себе не представляешь, каково это все. Мне надо просто лечь.
– Конечно. Почему я и думаю переехать сюда – чтобы тебе…
– Джон, прошу, не сейчас. Мы уже это обсуждали. Мне нужно еще время. Будь же рассудительным. Я ношу твоего ребенка – ты не забыл? Сейчас не время думать о себе.
– Мне не нравится, что ты тут одна, я ведь мог бы…
– Джон!
Слышу, со вздохом ее обнимает – насколько она подпустила к себе. Потом, чувствую, взяла его повыше запястья, видимо, чтобы не коснуться шелушащейся кисти, разворачивает его и мягко подвигает к улице.
– Милый, иди же…
Потом, когда усталая, рассерженная мать усаживается в кресло, я возвращаюсь к изначальным размышлениям. Что это за существо? Большой Джон Кейрнкросс, кто он – наш посланец в будущее? Образец человека, который покончит с войнами, хищничеством, рабством и будет заботливым и равным с женщинами мира? Или будет изничтожен, затоптан скотами? Посмотрим.