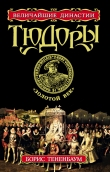Текст книги "Вулфхолл, или Волчий зал"
Автор книги: Хилари Мантел
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц)
III
В Остин-фрайарз
1527 г.
Лиззи еще не спит. Услышав, что слуги его впустили, она выходит, держа под мышкой комнатную собачку. Собачка скулит и вырывается.
– Забыл, где твой дом?
Он вздыхает.
– Как Йоркшир?
Он пожимает плечами.
– Кардинал?
Кивок.
– Ел?
– Да.
– Устал?
– Не очень.
– Вина?
– Да.
– Рейнского?
– Можно рейнского.
Панели недавно покрашены. Он входит в приглушенное золотисто-зеленое сияние.
– Грегори…
– Письмо?
– Что-то вроде того.
Она вручает ему письмо и собачку, достает вино. Садится рядом. Наливает себе тоже.
– Он нас приветствует. Путает единственное и множественное число. Плохая латынь.
– Ладно-ладно, – говорит она.
– Ну, слушай. Он надеется, что ты здорова. Надеется, что я здоров. Надеется, что его милые сестренки Энн и крошка Грейс здоровы. Он сам здоров. На сем, за недостатком времени, заканчиваю, ваш почтительный сын, Грегори Кромвель.
– Почтительный? – переспрашивает она. – И все?
– Так их учат.
Собачка Белла покусывает его за пальцы, ее круглые невинные глаза сверкают, как чужеземные луны. Лиз неплохо выглядит, хоть и утомилась после долгого дня; восковые свечи стоят у нее за спиной, высокие и прямые. На шее – нитка жемчуга и гранатов, его подарок на Новый год.
– На тебя приятнее смотреть, чем на кардинала.
– Самый скупой комплимент, какой когда-либо получала женщина.
– А я сочинял его всю дорогу из Йоркшира. – Он встряхивает головой. – А, ладно! – Поднимает Беллу на воздух; та упоенно брыкается. – Как идут дела?
Лиз немного плетет из шелка: шнурки для печатей на документы, головные сетки для придворных дам. У нее в доме две девушки-ученицы. Лиз отлично чувствует, что сейчас в моде, но, как всегда, жалуется на посредников: они дерут немилосердные деньги.
– Надо бы нам съездить в Геную, – говорит он. – Я научу тебя, как смотреть поставщикам в глаза.
– Хорошо бы. Да куда ты от кардинала!
– Сегодня он убеждал меня ближе познакомиться с приближенными королевы. С испанцами.
– Вот как?
– Я ответил, что плоховато говорю по-испански.
– Плоховато? – Она смеется. – Ну ты лгунишка!
– Ему не обязательно все про меня знать.
– Я была в гостях в Чипсайде. – Лиз называет имя старой приятельницы, жены ювелира. – Хочешь новость? Заказали большой изумруд и оправу для кольца. Для женского кольца. – Показывает размер изумруда: с ноготь на большом пальце. – Несколько недель дожидались камня. Его гранили в Антверпене. – Она резким движением растопыривает пальцы. – Он раскололся!
– Кто будет возмещать убытки?
– Гранильщик говорит, его обманули: подсунули камень с невидимым дефектом в основании. Ювелир говорит, если дефект был невидимый, откуда я мог про него знать? Гранильщик говорит, так стребуйте убытки с того, от кого получили изумруд…
– Тяжба на много лет. Они не могут раздобыть другой камень?
– Ищут. Мы думаем, заказчик – король. Больше никому в Лондоне такой изумруд не по средствам. Так для кого кольцо? Не для королевы.
Белла развалилась у него на руках, жмурится, легонько виляет хвостиком. Интересно, как это будет с кольцом. Кардинал мне скажет. Кардинал считает, очень умно не допускать короля до себя и выманивать подарки, но к лету король с ней переспит, к осени пресытится и отправит ее в отставку; а если не отправит, я сам за этим прослежу. Коли Вулси выпишет из Франции принцессу детородного возраста, не стоит, чтобы первые недели в Англии ей отравили свары с бывшей любовницей супруга. Королю, полагает Вулси, надо быть посуровей со своими женщинами.
Лиз ждет, но понимает, что он ничего не скажет.
– Так насчет Грегори, – говорит она. – Скоро лето. Там или здесь?
Тринадцатилетний Грегори сейчас в Кембридже, с наставником. Он отправил туда же племянников, сыновей Бет. Заботиться о родственниках – приятный долг. Летом у мальчиков каникулы. Что они будут делать в городе? Грегори пока совсем не интересуется чтением, хотя любит слушать истории про драконов, про зеленый народец, живущий в лесах; может одолеть целый латинский пассаж, если пообещаешь, что на следующей странице будет морской змей или призрак. Любит кататься верхом, обожает охоту. Мальчику еще расти и расти; мы надеемся, что он вырастет высоким. Дед короля по матери, как все старики вам скажут, был шесть футов четыре дюйма. (А вот отец, впрочем, скорее как Морган Уильямс.) В короле шесть футов два дюйма – они с кардиналом почти одного роста. Король предпочитает высоких придворных – таких, как зять его величества Чарльз Брэндон, рослых и широкоплечих. В закоулках верзилы редкость; и в Йоркшире, сдается, тоже.
Он улыбается. О Грегори он говорит: хорошо хоть мальчик не такой, как я в его возрасте. (А каким были вы? – следует вопрос. О, я пырял людей ножичком.) Грегори никого не пырнет ножом, поэтому он не переживает – или переживает меньше, чем думают окружающие, – из-за неспособности сына освоить склонения и спряжения. Когда ему жалуются, что Грегори не сделал того и этого, он отвечает: «Мальчик растет». Он понимает, что сыну надо много спать. Сам он никогда не высыпался, потому что Уолтер буянил, а позже – в дороге, на корабле, в армии – и подавно было не до сна. Чего люди не понимают про армию, так это что бессмысленные занятия в ней съедают практически все время. Ты добываешь пропитание, ты встаешь лагерем в таком месте, где тебя заливает поднявшаяся в дождь река, потому что так велел твой сумасшедший капитан, тебя заставляют ночью сниматься и переходить на позицию, которую невозможно оборонять, ты никогда толком не спишь, снаряжение вечно нуждается в починке, у пушкарей что-то взрывается, арбалетчики либо пьяны, либо молятся, стрелы заказали, но не доставили, и тебя постоянно грызет тревога, что все кончится совсем плохо, потому что у il principe [7]7
Князь (ит.).
[Закрыть]или другого мелкого светлейшества, которое сегодня командует, голова не предназначена для думанья. Довольно скоро – зимы через две – он перебрался из боевых частей в интендантскую службу. В Италии всегда можно воевать летом. Если тебе охота развеяться.
– Спишь? – спрашивает Лиз.
– Нет. Задумался.
– Привезли кастильское мыло. И твою книгу из Германии. Она была упакована, как что-то другое. Я чуть не отослала мальчишку прочь.
В Йоркшире, среди немытых, потеющих от злости людей в овчинах, он мечтал о кастильском мыле.
Позже Лиз спрашивает:
– Так кто она?
От удивления он убирает руку с ее левой груди – такой знакомой и все равно любимой.
– Что?
Неужто Лиз вообразила, будто он завел в Йоркшире женщину? Он ложится на спину и думает, как разубедить жену. В крайнем случае взять ее следующий раз с собой – пусть увидит, что у него там никого нет.
– Дама с изумрудом? – продолжает Лиз. – Я только потому спрашиваю, что люди болтают, будто король задумал нечто очень странное. Я не верю, но весь город о том судачит.
Вот как? За две недели, что он был в Йоркшире среди дикарей, слухи просочились за пределы дворца.
– Если король на такое пойдет, – объявляет она, – против него полмира ополчится.
Они с Вулси думают лишь об одном: против короля ополчится император. Только император. Он улыбается в темноте, сцепив руки за головой. Не спрашивает, кого Лиз имеет в виду, ждет, пока она расскажет сама.
– Все женщины, – говорит Лиз. – Все женщины по всей Англии. Все женщины, у которых есть дочь, но нет сына. Все женщины, потерявшие ребенка. Все женщины, отчаявшиеся родить. И все женщины, которым сорок.
Она кладет голову ему на плечо. Оба устали, лежат молча на тонкой льняной простыне, под стеганым одеялом желтого турецкого атласа. Их тела издают слабый заемный аромат солнца и трав. Он вспоминает: я могу браниться по-кастильски.
– Теперь спишь?
– Нет. Думаю.
– Томас, – шипит она возмущенно. – Три било!
Бьет шесть. Ему снится, что все женщины Англии в постели, выпихивают его из-под одеяла. Поэтому он встает почитать немецкую книгу, пока Лиз не видит.
Не то чтобы Лиз ругалась; разве что, уж если очень на нее насесть, скажет: «Мне и моего молитвенника достаточно». Она и впрямь нередко читает молитвенник: рассеянно берет в руки среди дня, лишь наполовину отрываясь от хлопот, перебивая тихое бормотание распоряжениями по дому. Это свадебный подарок, часослов, и Лиз вписала на первую страницу свое новое имя: «Элизабет Уильямс». Иногда, в приступе ревности, ему хочется вычеркнуть «Уильямс» и вписать нечто другое. Он знал первого мужа Лиз, но это еще не означает теплых чувств. Он не раз говорил: Лиз, вот книга Тиндейла, Новый Завет, в сундуке, почитай ее, вот ключ. Она: ну и читай мне вслух, раз тебе так нравится. Он: Лиззи, это на английском, читай сама, в том-то весь смысл. Прочти и удивишься, что ты там найдешь.
Он думал, Лиз станет интересно, однако ничего подобного. Он не может вообразить, как читает домашним вслух, словно Томас Мор – несостоявшийся священник, одержимый проповедническим зудом. Мор – светило из иной сферы – при встречах удостаивает его кивком, и каждый раз он чувствует искушение спросить: что с вами не так? Или что не так со мной? Почему все, что вам известно, и все, что вы узнаете, подкрепляет ваши прежние убеждения? Вот в моем случае то, с чем я рос, во что вроде бы верил, мало-помалу рушится – кусочек здесь, кусочек тут. С каждым месяцем мои представления об этом мире осыпаются по углам; и о мире ином – тоже. Покажите мне, где в Библии написано: «чистилище». Покажите, где там говорится о мощах и монахах. Покажите в ней слово «папа».
Он возвращается к немецкой книге. Король с помощью Томаса Мора написал трактат против Лютера, за что папа даровал его величеству титул Защитника веры. Не то чтобы он сам любил брата Мартина; они с кардиналом согласны, что лучше бы Лютеру вовсе не рождаться на свет или, по крайней мере, родиться не таким прямолинейным. И все же он следит за тем, что пишут, что доставляют в крупные порты на Ла-Манше или в укромные бухточки восточной Англии, где суденышко с неуказанным грузом можно вытащить на берег, а при луне, с приливом, столкнуть обратно на воду. Он держит кардинала в курсе, чтобы, когда Томас Мор с друзьями-клириками ворвется, изрыгая хулы на новую ересь, тот мог ответить: «Джентльмены, меня уже известили». Вулси жжет книги, не людей. Совсем недавно – в прошлом октябре – кардинал устроил аутодафе английскому языку. Столько сгорело бумаги, изготовленной из старого тряпья, столько черной типографской краски.
Евангелие, которое он держит в сундуке, отпечатано в Антверпене – оно доступнее, чем настоящее немецкое издание. Он знаком с Уильямом Тиндейлом – пока переводчику Библии на английский не стало опасно оставаться в Лондоне, тот полгода жил у Хемфри Монмаута, торговца тканями, в Сити. Тиндейл суров, непреклонен и никогда не смеется. С другой стороны, до смеху ли, когда ты вынужден бежать из родной страны? Мор называет Тиндейла Зверем. Тиндейловское Евангелие отпечатано на паршивой бумаге, в одну восьмую листа; на титуле вместо издательских адреса и эмблемы значится: «Выпущено в Утопии». Он надеется, что Томас Мор это видел. Вот бы показать при случае – чтобы посмотреть, какое у Мора станет лицо.
Он закрывает книгу. Пора браться за дела. У него не будет времени самому перевести это на латынь, чтобы потихоньку пустить в обращение; придется кого-нибудь просить, за деньги или по дружбе. Удивительно, как крепка нынче дружба между теми, кто читает по-немецки.
К семи он уже побрился, позавтракал и облачился в свежее, не заемное белье и темный джеркин тонкой шерсти.[8]8
…и темный джеркин тонкой шерсти. – Джеркин – короткое верхнее мужское платье, как правило без рукавов. – примеч. Ольги Дмитриевой
[Закрыть] В это время суток он часто вспоминает отца Лиз: старик вставал рано и всегда готов был положить ему на голову руку и сказать: «Порадуйся за меня жизни, Томас».
Он любил старого Уайкиса. Поначалу их свело дело. Сколько ему было тогда?… двадцать шесть? двадцать семь? Он недавно вернулся из-за границы, временами заговаривал на одном языке, а заканчивал фразу на другом. Уайкис, тоже уроженец Патни, расчетливый делец, сколотил небольшое состояние на торговле шерстью, но взял его к себе не как земляка, а потому что он пришел с рекомендациями и предложил услуги задешево. При первой встрече Уайкис, отложив бумаги, полюбопытствовал:
– Ты ведь сын Уолтера, да? Так что случилось? Поскольку, видит Бог, мальчишкой ты был разбойник каких поискать.
Он мог бы объяснить, если бы знал, какое объяснение будет Уайкису понятно. Я больше не дерусь, потому что, живя во Флоренции, каждый день смотрел на фрески?
Он сказал:
– Я нашел более легкий способ существования.
Позже Уайкис начал сдавать, дело пришло в упадок. Они по-прежнему поставляли на север Германии тонкое черное сукно, он же считал, что при нынешней длиннорунной шерсти, непригодной для хорошего бродклоса, лучше переключиться на более тонкое керси, которое можно везти через Антверпен в Италию. Выслушав – как всегда, очень внимательно – жалобы старика, он сказал:
– Рынок меняется. Позвольте мне в следующем году отвезти вас на ярмарку.
Уайкис знал, что давно пора съездить в Антверпен и Берген-на-Зоме, но очень не хотел переправляться через пролив.
– Не тревожьтесь, я о нем позабочусь, – сказал он мистрис Уайкис. – Я знаю семью, в которой мы можем остановиться.
– Ладно, Томас Кромвель, – ответила та. – Запомни мои слова. Никаких крепких голландских напитков. Никаких женщин. Никаких запрещенных проповедников в подвалах. Знаю я вас, мужчин.
– Не уверен, смогу ли удержаться от подвалов.
– Сговорились. Можешь сводить его на проповедь, главное – не води в бордель.
Мерси, как он подозревает, из семьи, где хранили и знали сочинения Джона Уиклифа и где Писание на английском было всегда: запрятанные листочки, затверженные на память стихи. Такие вещи передаются по наследству, как форма носа и цвет глаз, как кротость и страстность, как сила и готовность пойти на риск. Если уж рисковать, лучше проповедник, чем девка; остерегайтесь «мсье костолома», которого во Флоренции зовут «неаполитанской лихорадкой», а в Неаполе – «флорентийской хворью». Здравый смысл подталкивает к воздержанию. В нашей жизни много ограничений, о которых не ведали наши предки.
На корабле он слышал обычные жалобы попутчиков: мерзавцы-лоцманы, фарватер не отмечен, английская монополия. Ганзейские торговцы предпочли бы, чтоб к Грейвзенду их суда вели собственные люди: немцы – шайка воришек, но провести корабль вверх по течению они умеют. Старик Уайкис страдал от морской болезни. Сам он оставался на палубе, помогал чем мог; вы, сдается, были когда-то юнгой, сударь, заметил один из матросов. В Антверпене они сразу направились к дому с изображением голубя Святого Духа над дверью. Слуга, открывший дверь, завопил: «Томас вернулся!» Вышли три старика, три брата-суконщика. «Томас, наш бедный найденыш, наш маленький избитый беглец! Заходите, заходите поскорее, согревайтесь!»
Только здесь он по-прежнему был беглецом, маленьким избитым мальчишкой.
Их жены, их дочери, их собаки бросились его целовать. Он оставил старого Уайкиса у очага – удивительно, насколько интернационален язык стариков, когда те обмениваются рецептами примочек, сочувствуют бедам друг друга, обсуждают блажь и капризы жен. Младший брат, как всегда, переводил, с тем же серьезным видом, даже когда речь касалась физиологии.
Он ушел пить с тремя сыновьями трех братьев.
– Wat will je? [9]9
Чего ты хочешь? (голл.)
[Закрыть] – поддразнивали они. – Надеешься заполучить старикову лавку? Или старуху, как хозяин помрет?
– Нет, – неожиданно сам для себя ответил он. – Кажется, я хочу заполучить его дочку.
– Она молоденькая?
– Вдова. Довольно молоденькая.
К возвращению он уже знал, что следует менять в лавке. Оставалось продумать частности.
– Я видел ваш товар, – сказал он Уайкису. – Видел конторские книги. Теперь покажите мне своих приказчиков.
Разумеется, люди – ключ к прибыли. Достаточно посмотреть им в глаза, чтобы понять, честны ли они и годятся ли для своего места. Он выгнал ненадежного старшего приказчика – сказал: проваливай, или я устрою тебе разбирательство – и поставил на это место младшего, заикающегося юнца, которого все считали придурковатым. Придурковатость оказалась просто робостью; вечер за вечером он сидел с юношей, молча и спокойно указывая тому на ошибки и упущения; через четыре недели новый старший приказчик уже не нуждался ни в советах, ни в понуканиях, а на своего наставника смотрел восторженными щенячьими глазами. Четыре недели в лавке и еще несколько дней в доках – выяснить, кто берет взятки. К концу года Уайкис снова стал получать прибыль.
Старик посмотрел цифры, поднялся из-за стола и крикнул:
– Лиззи! Спустись к нам.
Она спустилась.
– Тебе нужен новый муж. Такой сгодится?
Она оглядела его с головы до пят.
– Ну, отец, вижу, ты выбирал не за красоту. – Ему, подняв бровь: – Тебе правда нужна жена?
– Оставить вас, чтобы вы обсудили это между собой? – спросил Уайкис озадаченно. Старик, видимо, думал, что они сядут и сразу заключат договор.
Почти так и вышло. Лиз хотела детей, он хотел жену со связями в Сити и с кой-какими деньгами. Они поженились через несколько недель. Грегори родился через год. Он взял новорожденного из колыбели – крепенького, орущего, – поцеловал в пушистую маковку и сказал: я буду к тебе ласков, как не был ко мне отец. Для чего заводить детей, если следующее поколение не будет лучше предыдущего?
Сегодня утром, размышляя над ночными словами Лиз, он думает: что моей жене до женщин, у которых нет сыновей? Может, они все такие: пытаются вообразить, каково живется их сестре.
Это стоит учитывать.
Восемь часов. Лиз уже хлопочет по дому. Волосы убраны под льняной чепец, рукава закатаны.
– Ой, Лиз, – смеется он, – ты похожа на жену пекаря.
– Веди себя приличней, – отвечает она. – Мальчишка-рассыльный.
Входит Рейф:
– Сперва к милорду кардиналу?
Куда же еще, говорит он. Собирает бумаги. Похлопывает жену по спине, целует собачку. Выходит. На улице еще моросит, но солнце уже проглядывает. К тому времени как они добираются до Йоркского дворца, сомнений не остается: кардинал сдержал слово. Реку заливает свет, бледный, как разрезанный лимон.
Часть вторая
I
Гости
1529 г.
Собирают имущество кардинала. Комнату за комнатой люди короля вычищают из Йоркского дворца прежнего обитателя. Увязывают в тюки пергаменты и свитки, требники и личные записи, домашние расходные книги. Забрали даже чернила и перья. Отдирают от стен доски с кардинальским гербом.
Они приехали в воскресенье, двое мстительных вельмож: герцог Норфолк, остроглазый ястреб, и не менее хищный герцог Суффолк. Герцоги сообщили Вулси, что тот отставлен с поста лорд-канцлера и должен вернуть Большую государственную печать. Он, Кромвель, тронул кардинала за локоть, произнес несколько слов. Кардинал обернулся к герцогам: тут обнаружилось, что нужно письменное требование короля, оно у вас есть? Ой, как же вы так? Нужно изрядное самообладание, чтобы говорить спокойно, но самообладания Вулси не занимать.
– Вы хотите, чтобы мы скакали назад в Виндзор? – Чарльз Брэндон не верит своим ушам. – За бумажкой?
В этом весь Суффолк: считает, будто официальный документ – ненужная прихоть.
Он снова шепчет на ухо кардиналу, и тот говорит:
– Нет, Томас, лучше скажем им сразу… незачем длить агонию… Милорды, мой стряпчий напомнил, что я не могу отдать вам печать даже по письменному распоряжению. Только лично в руки начальнику судебных архивов. Так что прихватите и его.
Он произносит веско:
– Радуйтесь, что мы вам сказали, милорды. Не то у вас вышло бы три поездки, не так ли?
Норфолк – прирожденный боец – ухмыляется:
– Премного обязан, сударь.
Когда герцоги выходят, Вулси оборачивается с блаженной улыбкой и заключает его в объятия. Да, это их последняя победа, но двадцать четыре часа – срок немалый, а королевские настроения переменчивы. К тому же кардиналу нравится вспоминать обескураженные лица противников.
– Начальник судебных архивов, – говорит Вулси. – Вы знали или сами придумали?
В понедельник утром герцоги возвращаются с приказом немедленно освободить дворец. Король хочет прислать своих строителей и мебельщиков, чтобы приготовить жилище для леди Анны, – ей нужен лондонский дом.
Он готов заявить протест: я чего-то не понимаю. Дворец принадлежит Йоркской епархии. Когда леди Анна стала архиепископом?
Однако поток людей с пристани оттесняет их прочь. Герцоги куда-то подевались, протест заявлять некому. Какое ужасное зрелище, говорит кто-то, мастеру Кромвелю не дали сразиться. Кардинал готов ехать, но куда? Поверх багряной мантии накинут чужой дорожный плащ: гардероб изымают прямо сейчас, пришлось схватить, что подвернулось под руку. Осень, и даже такому дородному человеку холодно.
Королевские слуги переворачивают сундуки, высыпают содержимое на пол: письма от папы, от европейских ученых – из Утрехта, Парижа, Сан-Диего-де-Компостелы, Эрфурта, Страсбурга, Рима. Упаковывают Евангелия, чтобы забрать в королевскую библиотеку. Книги тяжелые: их боязно держать в руках, словно они дышат: пергамент, сделанный из кожи мертворожденных телят, под рукой миниатюриста ожил голубыми и зелеными прожилками.
Сорвали шпалеры, оставив голые стены. Скатали шерстяных монархов, Соломона и царицу Савскую, в рулон, и теперь те смотрят друг на друга в упор, их крохотные легкие дышат ворсом бедер и животов. На пол летят охотничьи сцены, картины мирских удовольствий: купающиеся крестьяне, загнанные олени, лающие собаки, спаниели на шелковых сворках, мастифы в ошейниках с шипами, охотники в поясах с бляхами, наездницы в изящных шапочках, заросший камышом пруд, овцы на пастбище, синеватые перистые верхушки деревьев на фоне меловых обрывов и белесого неба.
Кардинал смотрит на хлопочущих разорителей:
– Найдется ли нам чем угостить наших гостей?
В двух больших комнатах, прилегающих к галерее, поставили длинные козлы, каждые – двадцать футов в длину, и тащат еще. В Золоченой палате разбирают кардинальское золото и драгоценные камни, расшифровывают описи и выкрикивают вес. В Зале совета складывают серебро и позолоченную посуду. В списки внесено все, до последнего треснувшего горшка; то, что вряд ли приглянется королю, бросают в составленные под столами корзины. Сэр Уильям Гаскойн, кардинальский казначей, деловито снует из комнаты в комнату, указывает уполномоченным на шкафы и сундуки – не упустили бы чего.
Следом трусит Джордж Кавендиш, распорядитель кардинальского двора, растерянный и возмущенный. Слуги тащат облачения. Сплошь расшитые, усыпанные жемчугом и драгоценными камнями, мантии сами по себе стоят немало. Налетчики валят их на пол, будто сбивают с ног Томаса Бекета[10]10
…будто сбивают с ног Томаса Бекета. – Образ архиепископа Кентерберийского Томаса Бекета, убитого по наущению короля Генриха II и причисленного к лику святых, в эпоху Реформации воспринимался как символ сопротивления духовенства воле монарха. Неслучайно, став официальным главой церкви Англии, Генрих VIII отдал приказ разрушить гробницу Томаса Бекета. – примеч. Ольги Дмитриевой
[Закрыть]. Поставив каждую на колени и сломав ей хребет, они бросают ее в дорожный сундук. Кавендиш морщится:
– Бога ради, джентльмены, подложите в сундуки двойной слой батиста. Не хотите же вы испортить тонкую работу, на которую у монахинь ушла целая жизнь? – Оборачивается. – Мастер Кромвель, как вы думаете, они успеют закончить дотемна?
– Только если мы им поможем. Раз уж до такого дошло, можно хотя бы проследить, чтобы все сделали как следует.
Постыдное зрелище: человек, который правил Англией, лишен всего. Королевские слуги выносят рулоны тонкого голландского полотна, бархата и плюша, муара и тафты, красных тканей без меры и счета: алый шелк для летней лондонской жары, багряный дамаст, чтобы согревать кардинала, когда снег сыплет на Вестминстер и мокрыми хлопьями кружит над Темзой. На людях кардинал в красном, всегда в красном разных оттенков, разной плотности и выделки, но непременно в лучшем, в самом дорогом. Нередко его милость, прохаживаясь в раздумье, останавливался и говорил:
– Ну, мастер Кромвель, оцените-ка меня по ярду!
И Кромвель медленно обходил кардинала, со словами «позвольте» опытными пальцами щупал рукав, отступал на шаг, прикидывал обхват – год от года Вулси раздавался в теле – и в конце концов называл сумму. Кардинал довольно хлопал в ладоши:
– Пусть завистники смотрят! Вперед, вперед, вперед!
Выстраивалась процессия: серебряные геральдические кресты, стража с золочеными алебардами. Кардинал никуда не выходил без свиты.
Так день за днем, по просьбе и для забавы кардинала, он оценивал своего хозяина. Теперь король прислал для того же армию писарей. Однако ему хочется силой вырвать у них перья и начертать поперек описей: «Томас Вулси бесценен».
– Что ж, Томас, – говорит кардинал, хлопая его по плечу, – все, что у меня есть, я получил от короля. Его величеству угодно было дать мне Йоркский дворец, теперь угодно забрать. Наверняка у нас есть другие дома, другие места, где приклонить голову. Здесь не Патни. И я запрещаю вам кого-либо бить.
Вулси с улыбкой прижимает ему руки к бокам, мол, не смейте их распускать. Пальцы у кардинала дрожат.
Подходит казначей Гаскойн, говорит:
– Я слышал, ваша милость отправится прямиком в Тауэр.
– Вот как? – спрашивает он. – И кто же вам сказал?
– Сэр Уильям Гаскойн, – с растяжкой произносит кардинал, – за что, по-вашему, король должен отправить меня в Тауэр?
– Очень в вашем духе, – обращается он к Гаскойну, – повторять досужие сплетни. Так-то вы поддерживаете его милость? Никто не отправляется в Тауэр. Мы едем… – все, затаив дыхание, ждут, пока он придумывает на ходу, – в Ишер. А ваше дело, – он, не сдержавшись, легонько толкает Гаскойна в грудь, – приглядывать за чужаками и следить, чтобы все, взятое отсюда, попало по назначению, потому что иначе вы сами попроситесь в Тауэр – спрятаться от меня!
Какие-то звуки, по большей части из дальнего конца комнаты, – что-то вроде приглушенного «браво». Трудно побороть впечатление, что разыгрывается спектакль под названием «Кардинал и его служители». Трагедия.
Кавендиш, потный, взволнованный, тянет его за рукав:
– Но, мастер Кромвель, дом в Ишере пуст, у нас нет ни котла, ни ножа, ни вертела, где милорд кардинал будет спать, перины наверняка не просушены, нет белья, нет дров, нет… И как мы туда доберемся?
– Сэр Уильям, – обращается кардинал к Гаскойну, – не обижайтесь на мастера Кромвеля, который сейчас высказался чересчур резко, но примите его слова. Поскольку все, что у меня есть, даровано королем, все следует вернуть в целости и сохранности.
Губы у кардинала дрожат. Вчера, поддразнивая герцогов, его милость улыбнулся впервые за последний месяц.
– Томас, – произносит Вулси, – я годами отучал вас так разговаривать.
Кавендиш говорит ему, Кромвелю:
– Барку милорда кардинала еще не забрали. И лошадей.
– Вот как? – Он кладет руку Кавендишу на плечо. – Значит, отправляемся вверх по реке, сколько нас поместится на барке. Лошади пусть ждут в… в Патни, а потом мы… что-нибудь одолжим. Ну же, Джордж Кавендиш, проявите изобретательность, в прошлые годы мы с вами совершали дела посложнее, чем переезд в Ишер.
Правда ли это? Он никогда особенно не замечал Джорджа Кавендиша, чувствительного малого, много говорящего про салфетки. Однако он пытается вдохнуть в Кавендиша боевой дух, и лучший способ – сделать вид, будто за их плечами общие успешные кампании.
– Да-да, – подхватывает Кавендиш, – мы снарядим барку.
Хорошо, кивает он, а кардинал спрашивает: Патни? и он натужно смеется. Кардинал говорит, ну, Томас, вы все-таки поставили на место Гаскойна, чем-то этот человек мне всегда не нравился, и он говорит, зачем же вы его тут держали? Кардинал отвечает со вздохом, ну, так получилось, и во второй раз переспрашивает: так значит, в Патни?
Он говорит:
– Что бы ни ждало нас в конце пути, не будем забывать, что для встречи двух королей ваша милость воздвигли парчовый город посреди мокрых пикардийских полей.[11]11
…для встречи двух королей ваша милость воздвигли парчовый город посреди мокрых пикардийских полей. – Имеется в виду личная встреча Генриха VIII и короля Франции Франциска I в июне 1520 г. близ Кале, сопровождавшаяся многодневными пышными празднествами и рыцарскими турнирами. Оба короля стремились превзойти друг друга в роскоши, возводя временные дворцы и не скупясь на богатое убранство. Походные шатры государей и знати были изготовлены из золотой парчи, отсюда и название этого события – «Встреча на поле золотой парчи». – примеч. Ольги Дмитриевой
[Закрыть] С той поры ваша милость только возрастали в мудрости и уважении короля.
Это говорится громко, для всех, про себя же он думает: тогда речь шла о заключении мира, сейчас же мы не знаем, что у нас – первый день долгой или короткой кампании, лучше возвести земляные валы и надеяться, что враг не перережет пути снабжения.
– Думаю, мы сумеем раздобыть кочерги, суповые миски и что там еще, на взгляд Джорджа Кавендиша, нам совершенно необходимо. Я не забыл, как ваша милость снаряжали королевские войска, отправлявшиеся во Францию.
– Да, – говорит кардинал, – мы все помним ваше мнение о той кампании, Томас.
Кавендиш спрашивает: «Что-что?» – и кардинал объясняет:
– Джордж, разве вам не вспоминается, что мой слуга Кромвель сказал в палате общин пять лет назад, когда мы просили денег на новую войну?
– Но он же выступил против вашей милости!
Гаскойн, который внимательно ловит каждое слово, вставляет:
– Не очень-то вы хорошо себя зарекомендовали, сударь, переча королю и милорду кардиналу; я отлично помню вашу речь и заверяю, как заверят вас еще многие, что вы не снискали себе расположения, Кромвель.
Он пожимает плечами:
– Я не искал расположения. Не все такие, как вы, Гаскойн. Я хотел, чтобы палата общин извлекла урок из прошлой кампании. Одумалась.
– Вы сказали, мы проиграем.
– Я сказал, мы разоримся. Но уверяю вас, наши войны заканчивались бы еще хуже, если бы снабжением войск занимался не милорд кардинал.
– В тысяча пятьсот двадцать третьем году… – начинает Гаскойн.
– Надо ли сейчас разыгрывать те сражения по новой? – спрашивает кардинал.
– …герцог Суффолк был всего в пятидесяти милях от Парижа.
– Да, – говорит он, – а вы знаете, что такое пятьдесят миль для полуголодного пехотинца, который засыпает на мокрой земле и просыпается окоченевшим? Для обоза, когда телеги по оси увязают в грязи? А что до побед тысяча пятьсот тринадцатого… оборони нас Господь.
– Турне! Теруан![12]12
Турне! Теруан! – Турне и Теруан – французские крепости, захваченные англичанами в ходе военной кампании против Франции в 1513 г. Эти победы были предметом национальной гордости англичан, в особенности короля Генриха, хотя Томас Кромвель отзывался о них скептически, сравнив обе крепости с собачьей конурой. – примеч. Ольги Дмитриевой
[Закрыть] – восклицает Гаскойн. – Вы что, слепы? Два французских города взято. Король проявил на поле боя чудеса храбрости!
Будь мы на поле боя, думает он, я бы плюнул тебе под ноги.
– Если вы так любите короля, почему бы вам не поступить к нему на службу? Или вы и так уже на жалованье у его величества?
Кардинал тихонько откашливается.
– Мы все служим королю, – говорит Кавендиш.
А кардинал добавляет:
– Томас, мы все – творения его рук.
Они садятся в барку. Над нею реют флаги: роза Тюдоров, две черные корнуольские галки – символ святого покровителя Вулси, Томаса Бекета. Кавендиш, хлопая глазами, восклицает: «Гляньте, сколько лодок на реке! Так и снуют!» В первый миг Вулси думает, что лондонцы вышли с ним попрощаться. Но когда он всходит на барку, с лодок несутся гогот и улюлюканье. На пристани собрались люди, и, хотя кардинальская стража их сдерживает, нет сомнений, что намерения у толпы самые враждебные. Когда барка начинает двигаться вверх по реке, а не вниз, к Тауэру, слышны вопли и угрозы.
И вот тут-то кардинал теряет власть над собой: падает на скамью и говорит, говорит, говорит до самого Патни:
– За что меня так ненавидят? Что они от меня видели, кроме добра? Сеял ли я вражду? Нет. Доставал зерно в неурожайные годы. Когда взбунтовались подмастерья, на коленях в слезах молил его величество помиловать зачинщиков, уже стоявших с веревками на шее.