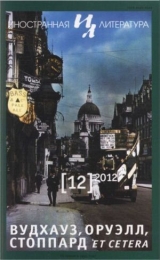
Текст книги "Этажом выше"
Автор книги: Хилари Мантел
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 1 страниц)
Хилари Мантел. Этажом выше
Летом, между школой и университетом (учиться мне предстояло в Лондоне), я впервые пошла работать.
Мне было уже восемнадцать, я могла бы куда-нибудь устроиться и на прошлые летние каникулы, но пришлось сидеть дома с младшими, пока мама делала свою блистательную карьеру.
До моего шестнадцатилетия мама самоотверженно ухаживала за больным ребенком. Сперва им была я. Сразу после перехода в старшие классы я выздоровела – так сказать, в результате маминого волевого усилия. У меня больше не поднималась температура, а если поднималась, этого не замечали, а если замечали, то говорили: «Пустяки». Мое место в нашем быту занял брат с его одышкой и ночным кашлем. Я ходила в школу изредка, брат не ходил вовсе. Он играл один в саду под тоскливо-серым небом, в котором искрился редкий снежок. Лежал на диване перед орущим телевизором и перелистывал книжки. Как-то вечером мы смотрели новости. Вдруг всю комнату залил неестественный белый свет. Шаровая молния сорвала нижние ветки с тополя и высадила стекло – бабах! Кулак Господень. Вязаное покрывальце брата было все засыпано осколками, собака выла, дождь хлестал на пол через выбитое окно, на улице вскрикивали и взволнованно переговаривались соседи.
Вскоре после случая с молнией мама устроилась продавщицей в «Афлек и Браун» – маленький, тесный, старый универмаг в Манчестере. Она шла пешком до станции, ехала на поезде и снова шла пешком до Олдхэм-стрит. Это было странно: я думала, мама так всегда и будет домохозяйкой. Чтобы ходить на работу, ей пришлось завести белые блузки и черные юбки. Она купила их в С&Д и это тоже было очень странно: у нас дома одежда появлялась не из магазина, а в результате сложной череды метаморфоз. Из распущенных кофт получались вязаные береты, споротыми воротничками надставляли подол, рукава для толстых превращались в штанины для худых. В семь лет я носила пальтишко, сшитое из двух старых пальто моей крестной. Карманы, лацканы, всё уменьшили, только пуговицы остались прежние и торчали на моей цыплячьей груди как обеденные тарелки или мишени для стрел.
Мама училась в то время, когда большинство не сдавало школьных экзаменов, так что в анкете при поступлении на работу писать ей было почти нечего. Тем не менее ее взяли, а вскоре на ее начальниц посыпались несчастья, из-за которых им пришлось уволиться. Мама стала замзав, а потом и завотделом. Она обесцветила волосы, сделала прическу вроде пирожного безе, купила туфли на высоченных каблучищах и завела особую наигранную манеру говорить и жестикулировать. Мама советовала подчиненным врать про их возраст, как бы намекая, что врет про свой. Она приходила домой поздно, раздраженная, и вытаскивала из крокодиловой сумочки что-нибудь невероятное. Например, пакетик рифленых картофельных чипсов со вкусом жира и воздуха. Или замороженные бифбургеры – на плите они скворчали, наполняя кухню желтовато-серым манчестерским смогом. Потом на жарку в масле был наложен запрет – чтобы не коптить стены, потому что у нас теперь был «приличный дом». Но к тому времени я переехала к моей подруге Анне-Терезе и о том, что едят другие, старалась не думать.
В семнадцать я была так же не готова к жизни, как если бы все детство пасла коз в горах. Я привыкла гулять среди лесов и полей. Привыкла ходить в Стокпортскую библиотеку и брать за раз по семь толстых книжек про латиноамериканские революции. Потом по часу ждать под дождем автобуса, передвигая пакет с книгами у ног и время от времени прижимая их к груди, когда казалось, что автобус вот-вот придет. С вожделением смотрела на их серые замусоленные обрезы и предвкушала, что найду внутри пометки деревенских чудиков: «НЕ Гватемала!!!», написанные, вернее, вдавленные на полях тупым карандашом, оставлявшим царапины от неровно очиненного края. У нас дома тоже никогда не было точилки. Если надо было очинить карандаш, мы шли к маме, она зажимала его в руке и срезала стружку хлебным ножом.
Такой дикой я выросла не из-за школы: большинство моих сверстниц были вполне нормальные для своего времени и окружения. Просто они, казалось, сделаны из более плотного, более добротного материала. Нетрудно было вообразить, что они станут женщинами в домах с мягкой мебелью и встроенным сушильным шкафом для белья. У меня же ветер гулял между костями, дым стелился между ребрами. Было больно ступать по мостовой. От соли на языке вскакивали типуны. Меня часто беспричинно рвало. Я просыпалась замерзшая и думала, что никогда не согреюсь. Когда в двадцать четыре мне предложили поехать в тропики, я согласилась, радуясь, что не буду больше дрожать от холода.
Что меня возьмут в магазин, было ясно еще до собеседования: кто в «Афлеке и Брауне» отказал бы дочери моей всеми обожаемой мамочки? Однако требовалось подвергнуться формальной процедуре. Приятный дяденька-кадровик в коричневом костюме разговаривал со мной в кабинете до того коричневом, что мне показалось, я прежде не видела этого цвета. Тут был пластик всех оттенков табачной слюны и желчи. Я вошла, свеженькая, как семидесятый год, в ситцевом платьице, но меня затянуло в пятидесятые, в бурый мир карточек социального страхования и пожелтелой памятки Совета по заработной плате на обшарпанной стене. Мне пожелали удачи и вывели в мир людей, на коврик у входа. «Вот коврик, вытри ноги», – сказал голос из-за вешалок.
Он исходил от студенисто-белого лица, обвислых щек, медленно движущейся массы жира, затянутой в черный кримплен так, чтобы было похоже на крутобокую цветочную вазу, от кожи того же мутноватого оттенка, что вода из-под гвоздик, которую не меняли несколько дней. Вонь подмышек, кашель: то была плоть моих коллег. Их здоровье сгубила жизнь в магазинах. У них был хронический насморк от пыли и цистит от грязных туалетов. Они жили на пятнадцать фунтов в неделю. Они не получали процент от выручки, поэтому старались по возможности ничего не продавать. Их насморочная злоба гнала покупателей назад к эскалатору и дальше на улицу.
Дяденька-кадровик определил меня в отдел рядом с маминым, так что я видела ее за работой: она вихрем проносилась по этажу в очередном экстравагантном наряде. Мама теперь не носила строгую, незаметную одежду, а сама выбирала платья из наших коллекций. Держалась она приветливо, чтобы не сказать снисходительно, притом с некоторой игривостью, которую отрабатывала на потасканных гомиках – других мужчин в магазине не было. Продавщицы – «девочки», как называла их мама, – любили ее за то, что она всегда такая красивая и веселая.
Мамины девочки были не такие убогие, как в нашем отделе, но скоро я поняла, что у всех у них есть свои неразрешимые жизненные проблемы. Маме проблемы ее продавщиц заменяли завтрак, обед и ужин – заменяли в буквальном смысле слова, потому что теперь ей по роли требовалось носить сорок четвертый, но врать, что у нее сорок второй, и таким образом подавать пример всей женской половине человечества. Девочки были разведенные, в долгах, страдали от авитаминоза и болезненных менструаций, маялись с трудными либо больными детьми. Их дома оседали, или обваливались, или оказывались в зоне затопления, или там заводился грибок. У меня было чувство, что все они специализируются на вышедших из употребления болезнях, вроде оспы и почесухи, о которых в наше время слышали только махровые пессимисты вроде меня. Чем хуже им было, тем заботливее мама их опекала. Даже сейчас, тридцать лет спустя, многие поддерживают с ней отношения. «Звонила миссис Д., – говорит мне в таких случаях мама. – ИРА снова взорвала их дом, а старшую дочку унесло в море. Просила передать тебе привет». На Рождество и в дни рождения, когда маме исполнялось не столько, сколько на самом деле, они дарили ей вазочки цветного стекла или атрибуты красивой жизни типа сифона для газировки. Все они как будто жевали слова, а вот мама и другие заведующие говорили, выпячивая губы, чтобы гласные звучали четко.
Я работала не в самом магазине, а в секции «Английская леди», рассчитанной на определенную категорию покупательниц, преимущественно пожилых, которые любили носить то, что там предлагалось: ансамбли, куда входили платье и жакет (я называла их «свадебной униформой»), летние платья и костюмы из синтетики пастельных тонов, которые легко стираются и гладятся. В те времена у многих еще жива была привычка покупать в апреле летние плащи из розовой процентовки или легкой шерсти в неяркую клетку. Еще они покупали блейзеры, блузки, длинные джемперы и брюки, под которые надевали пояса и чулки: пряжки подвязок выпирали сквозь ткань. Зимой «Английская леди» продавала пальто из верблюжьей шерсти, которые владелицы обновляли раз в несколько лет, ища (и находя) в точности такой фасон, как прежде. Зимние вещи нам завезли задолго до того, как я уехала в Лондон. Кроме верблюжьих, у нас были пальто, называемые «лама», – неприятного серебристо-серого цвета и косматые, словно вывернутая наизнанку власяница, только с карманами. На осень имелись щетинистые твидовые комплекты и громоздкие вонючие дубленки, которые мы приковывали к вешалкам цепями, чтобы не украли. Гуртовать их было трудной работой: они протяжно вздыхали, раздувались и дюйм за дюймом отвоевывали себе Lebensraum – жизненное пространство.
Покупательницы в то лето заглядывали редко. За уборкой и утренними сводками о том, как у кого с варикозом, тянулась бескрайняя пустыня времени: дни одуряющей жары, жажды и скуки, без воздуха, без солнечного света, под ртутными лампами, от которых даже самая свежая кожа приобретала трупный оттенок. Иногда я стояла и яростно думала про Французскую революцию – мое тогдашнее увлечение. Иногда мама пробегала по ковру, делала мне ручкой, улыбалась своим продавщицам.
Мою начальницу звали Дафна. За стеклами ее модных выпуклых очков в большой яркой оправе плавали пустые бесцветные глаза. Теоретически они с мамой были подруги, но вскоре я к своему ужасу поняла, что другие начальницы того же ранга маме завидуют и не вредят только потому, что им не хватает ума придумать подходящую гадость. Дафна все лето гоняла меня в хвост и в гриву, выискивая работу, которая не делалась годами: убирать на складе, где слоями лежала пыль и бегали мыши, заталкивать в коробки большие партии проволочных плечиков – они прыгали на меня и царапали руки, словно сбежавшие из зоомагазина крысы. Манчестер в те годы вообще не отличался чистотой; в задних помещениях «Афлека и Брауна» грязь собиралась какая-то особенно злокозненная. Коврики для вытирания ног, толстый полиэтилен из-под одежды, то, что осталось от непроданных платьев, отбывающих пожизненный срок в Бастилии самого дальнего склада, – все обрастало липким пушком, который, словно магнит, притягивал к себе частицы манчестерской атмосферы. Он пачкал руки и размазывался по лицу, превращая меня из «младшего продавца» в штрейкбрехера, сбежавшего из шахты, где забаррикадировались его товарищи. Выныривая со склада, я держала замаранные руки на весу, то ли успокаивая кого-то, то ли предостерегая.
Иногда за вешалкой, полной пожелтевших от времени ситцевых изделий, за штабелем коробок с выцветшими до нечитаемости наклейками, я различала какое-то движение, шарканье ног, приглушенные голоса. «Миссис Соломоне? – окликала я. – Миссис Сигал?» Молчание; только вздохи мохера и драпа, утробное поскрипывание кожи и замши, жалобный скулеж несмазанных металлических колесиков. Может, это Дафна втихаря за мною шпионила? Но иногда в половине шестого, когда надо было убирать в примерочных, я подходила к задвинутой занавеске в конце ряда и, не отдернув, поворачивала назад – боялась увидеть что-то, чего видеть не положено. Легко было вообразить, что за складками кто-то прячется или что даже несколько часов спустя материя помнит очертания человеческой фигуры.
Мои коллеги, дышавшие на меня мятным запахом желудочных лекарств, были безгранично ко мне добры. Они ахали, какая я бледненькая, и советовали есть говядину, которую сами не видывали даже в праздники. Возможно, их пугала моя отрешенность, когда я стояла в забытьи меж теснящихся жакетов, а если я выныривала из транса и что-нибудь продавала, они пугались еще больше. Я любила подбирать одежду покупательницам, удовлетворяя их невинное желание принарядиться. Любила срывать с проданного платья ярлычок и заботливо вешать пакет на скрюченное артритом запястье. Иногда пожилые дамы пытались оставить мне сдачу – меня это расстраивало. «Я теперь редко сюда прихожу, – говорила одна сгорбленная, любезная старушка, – но, когда прихожу, всегда даю на чай».
Каждый день после работы мы с мамой, взявшись за руки, шли до станции Пикадилли, вверх от Маркет-стрит, мимо закусочных, из которых пахло картошкой фри, и клиники Национальной службы здравоохранения. (Там всегда висели плакаты, призывающие сдать кровь. Я пришла, как только мне исполнилось восемнадцать, и меня живенько развернули). Мне казалось, что вся моя работа заключается в стоянии столбом и что никто такого не заслуживает: стоять, час за часом, стоять, когда покупателей нет и не предвидится, стоять в спертой атмосфере с девяти утра до половины шестого вечера с перерывом на обед, когда выбегаешь на улицу и жадно хватаешь ртом воздух. Ноги уже болят, а ты все стоишь и стоишь, и боль не проходит к следующему утру, когда снова надо стоять. Маме, наверное, приходилось легче, ведь у нее был свой закуток со стулом, где можно было посидеть. С другой стороны, ее туфли на шпильке жали куда сильнее моих замшевых босоножек. Она вообще во всем была уровнем выше.
Раза два в неделю что-нибудь случалось с поездами. Как-то мы прождали на перроне целый час. От голода на нас напала странная дурашливость: мы весело болтали об очередных бедах маминых девочек и по очереди откусывали от яблока, которое она вытащила из сумки. Мы не злились и не чувствовали себя виноватыми, потому что ничего изменить не могли. Нам было хорошо, радостно, пока мы не вошли в дом и не увидели перекошенную физиономию отчима. Мы разом перестали хихикать: я часто замечала, как угрожающе выглядит повернутая боком человеческая ладонь, занесенная, словно готовый обрушиться топор. Что-то тогда произошло. Уже не помню что именно. Неправда, что злость придает сил. От злости кружится голова и слабеют коленки, но все равно делаешь то, на что не осмеливалась раньше: выкрикиваешь запретное слово, произносишь проклятие, и сказанное идет прямиком от сердца. Эффект, как если бы кроткие после Нагорной проповеди открыли пальбу из автомата.
После этого я на какое-то время ушла из дома. Каждый вечер, дойдя до нашей улицы, мы с мамой расходились в разные стороны. Она больше огорчалась, чем злилась, хотя и злилась тоже: видимо, моя выходка нарушила какие-то ее брачные игры. На подходе к нашей улице мы переставали болтать о «девочках», и мама (как я чувствовала, неохотно) напускала на себя высокомерно-отсутствующий вид. Я поворачивала и шла по дороге вверх, туда, где жила теперь с Анной-Терезой, которая осталась одна в родительском доме: отец с матерью летом развелись, и, вместо того чтобы кому-то съехать, кому-то остаться, съехали оба. Мы не очень-то сравнивали наши семьи, зато перемерили всю одежду в шкафах и переставили мебель. Дом был сборный и несуразный, но уютный: с плитой в гостиной, глубокой эмалированной раковиной и без бытовой техники вроде холодильника, что в семидесятые уже воспринималось как серьезное неудобство.
Анна-Тереза в то лето устроилась на фабрику, где делали пляжные шлепанцы. Выматывающая работа, но Анна-Тереза была крепкая и расторопная. Вечерами, когда я без сил падала на стул в кухне, она обваливала в сухарях отбивные и резала огурцы с помидорами в стеклянную миску. Готовила шарлотку с вишнями. В сумерках мы сидели на крыльце, и пахло розами из соседского сада. Надежды, легкие, как паутинки, скользили по плечам и окутывали наши голые руки, переливаясь в предзакатной синеве. С восходом луны мы шли спать, все еще сонно переговариваясь на ходу. Анна-Тереза хотела шестерых детей. А я – чтобы меня перестало выворачивать наизнанку.
Иногда, бродя по «Английской леди», я воображала, что это лагерь для беженцев, а я – чиновница, отвечающая за его обитателей. Отрывая ярлычок от проданного платья, я говорила себе, что устроила его на постоянное место жительства.
Каждый день начинался и заканчивался инвентаризацией. Берешь листок и расчерчиваешь его на колонки, каждая для другого вида одежды, чтобы не спутать «двойки» и ансамбли из платья и жакета, хотя и в тех, и в других по два предмета. Придумываешь категории для вещей, которые никак не называются, вроде тех раздвоенных штуковин из ворсистого голубовато-серого твида – что-то вроде лётных комбинезонов для пожилых дам. Они висели у нас уже несколько лет, как Дафна ни старалась от них избавиться: жесткие рукава оттопырены в сторону, штанины завязаны на горле, чтобы не елозили по полу. Придумав категории, идешь вдоль вешалок и считаешь товар. Цифры никогда не сходятся, так что ты отправляешься искать платья, забредшие в соседние отделы, и за шкирку волочишь их обратно. Меня не удивляло, что вещи перемещаются в течение рабочего дня, но как они могли перемещаться ночью? «Привидения», – резонно заключала я. Мне представлялось, что они спускаются из отдела постельного белья на четвертом этаже в белых простынях (покинув гробы, в саванах[1]1
У. Шекспир. Гамлет. Акт I, сцена 1. Перевод М. Лозинского. (Здесь и далее – прим. перев.)
[Закрыть]) и примеряют наш товар, всовывают бестелесные руки и ноги в рукава и штанины, шипя от привиденческого азарта.
Я провела так все лето, разговаривая с бродягами в Пикадилли-гарденз, покупая в обеденный перерыв спелую клубнику с тележек, остужая лоб о стальную решетку дверцы товарного подъемника. Когда Дафна ругала меня за всевозможные промахи, я обещала исправиться, а после тайком пинала летные комбинезоны или мучила их, еще туже затягивая штанины на горле и завязывая на вешалке узлом. С Дафной я была самая что ни на есть послушная девочка – не хотела, чтобы маму возненавидели еще больше, чтобы женская злоба незримо вилась вкруг тонких маминых щиколоток, цепляла ее за каблучки, когда я уже давно буду гулять по лондонским улицам.
Однако чем ближе была осень, тем сильнее меня раздражала вся эта история с инвентаризацией. Чтобы наша опись сошлась с накладными, нам приходилось всякий раз дописывать «15 отложено» в колонке «Платья и жакеты», и до меня внезапно дошло, что я, сколько ни убирала, ни разу их не заметила.
– А почему мы всегда пишем «15 отложено»? – спросила я Дафну. – Где они?
– Отложены, – сказала Дафна.
– Но где? – настаивала я. – Я их ни разу не видела.
Дафна зажала губами сигарету. Одной рукой она перелистывала накладные, в другой держала мажущую шариковую ручку. Изо рта у нее сочилась тонкая струйка дыма.
– Не куришь еще? – спросила она. – Не тянет попробовать?
Меня удивляло – тогда и потом – как люди стараются «поделиться» дурной привычкой. У нас дома все были воинствующие противники табака.
– Да как-то не думала… Когда родители не курят… И все равно я не могла бы курить дома, из-за брата…
Дафна вытаращилась на меня, не то фыркнула, не то икнула, потом презрительно расхохоталась.
– Не курят! Да твоя мать дымит, как паровоз! Каждый перерыв! Ты что, не видела? Да как это ты не видела?
– Нет, – ответила я. – Не видела.
Тем больше была я обманута[2]2
У. Шекспир. Гамлет. Акт III, сцена 1. Перевод М. Лозинского.
[Закрыть].
С ручки у Дафны стекла и капнула паста.
– Не надо было говорить?
– Да нет, все нормально, – ответила я, убеждая себя, что всякое знание полезно, от кого бы оно ни исходило.
Дафна глянула на меня без всякого выражения.
– А что с твоим братом, почему при нем нельзя курить?
Я посмотрела на часы.
– У миссис Сигал сейчас начнется перерыв.
Улыбнулась Дафне и пошла в торговый зал, говоря себе: неважно. Маленькая домашняя ложь. Для общей пользы. Даже забавно. Или будет забавно со временем. Пустяки – все равно что загнать под кожу кончик иголки.
Однако чуть позже я принялась искать эти самые пятнадцать «отложенных». Я ввинчивалась в темные закутки, где неведомого происхождения ящики острыми углами били меня по ногам. Дафна так и не отправила коробки, которые я упаковала и завязала бечевкой. Они по-прежнему стояли оседающими штабелями; проволочные вешалки выдирались наружу и кусали меня за икры. Отодвигая громоздкие пальто, сражаясь с «ламами», я проникала в самые дальние щели. Подай мне заступ и железный лом[3]3
У. Шекспир. Ромео и Джульетта. Акт III, сцена 3. Перевод М. Лозинского.
[Закрыть].
Ни-че-го. Я переписала все вещи, какие нашла, вытаскивая их за шкирку из полиэтиленовых саванов, чтобы посмотреть ярлык, или, если не могла вытащить, собирала полиэтилен в гармошку на горле. Я видела ярлыки, видела платья и жакеты, но не видела тех пятнадцати. Я выбралась наружу, ни разу не оглянувшись, и записала в блокноте: ноль, ничего, пусто. Дырка от бублика. Платьев и жакетов – нисколечко. Если и были, то сплыли. Я понимала, как это произошло: их вызвали из небытия, чтобы покрыть какую-то неблаговидную историю, чей-то чудовищный недосмотр или кражу, от которой у отчетности ум зашел за разум. Они – вымысел, возможно, древний, возможно, старше самой Дафны. Поправка к реальности, повесть, рассказанная дураком[4]4
У. Шекспир. Макбет. Акт V, сцена 5. Перевод М. Лозинского.
[Закрыть] – и я добавила к этой повести строчку-другую.
Я вернулась в торговый зал. Было три. Смурной, расплывчатый день; ни одной покупательницы. Из-за полного отсутствия интереса к себе вещи на плечиках обвисли и стали похожи на лохмотья. В высоком зеркале отразилось мое лицо с размазанной по щеке грязью. Сандалии покрывала ядовитая жижа. Я доковыляла до обшарпанного шкафа, где мы держали дубликаты амбарных книг и запасные пуговицы. Вытащила из ящика тряпку. Скатала ее роликом и тщательно почистила себя всю, как щеткой, затем принялась за вешалки. Я раздвигала вещи и терла стальные перекладины. Остаток дня кое-как истощился. Вечером я наотрез отказалась писать «15 отложены» в колонке «Платья и жакеты». Мои коллеги ужасно расстроились, а одна даже начала задыхаться, так что в конце концов я все-таки вписала эту строчку, но очень бледно, карандашом, с еще более бледным вопросительным знаком в конце.
К началу нового учебного года выяснилось, что брат уже не болеет. Ему исполнилось одиннадцать, и он вполне мог идти в среднюю школу. Мы переварили этот поразительный факт, но почему-то обрадовались совсем не так сильно, как следовало. В следующие несколько месяцев посыпались приглашения от агентств по найму: маму звали производители плащей и поставщики вязаных изделий. Ее отрывали с руками. Она устремилась вверх, как пузырек в бокале шампанского, становясь год от года все более светлой блондинкой, командуя все большими коллективами девочек и вызывая все большую зависть и неприязнь. Дома она хозяйничала, как и прежде, по наитию: мыла ванну порошком для стиральной машины, а когда стиральная машина сломалась, накрыла ее клеенкой и стала использовать вместо тумбочки, а младших научила ходить в прачечную-автомат.
Через несколько лет «Афлек» закрылся, весь район постепенно пришел в упадок. Его захватили продавцы порнографических товаров и торговцы из тех, что предлагают пластмассовые корзины для белья, подозрительные электроплитки и рождественские сувениры вроде прыгающих пирожков и насвистывающих ангелов. Само здание осыпалось и обваливалось. Был период, когда его арендовал крупный магазин одежды. Я к тому времени, разумеется, давно переехала, но у меня остались друзья на севере. У кого-то из них оказалась знакомая, которая подрабатывала там по выходным. Новые хозяева торговали только на первом этаже; выше здание было заколочено. Пожарные выходы заперли на замок, эскалаторы убрали, лестницы заложили кирпичом. Однако девушка, подрабатывавшая там по выходным, рассказала, что продавщиц пугают звуки из замурованной пустоты наверху: шаги и женские крики.
От ее рассказа у меня упало сердце и по коже побежали мурашки – я поняла: это самая что ни на есть настоящая история с привидениями. Отрывать пуговицы от платьев и перевешивать жакеты в отдел нижнего белья к нам на этаж спускался не легкомысленный бесенок, а нечто более древнее, гнусное, противоестественное. Но об этом я узнала лишь задним числом. Оглядываясь на себя в возрасте, скажем, от восемнадцати до двадцати трех, я понимаю: все было много хуже, чем я тогда сознавала.








