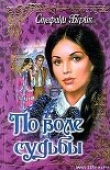Текст книги "Милая фрекен и господский дом"
Автор книги: Халлдор Лакснесс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
Полная идиллия
Вы вправе спросить, что же случилось с дочерью пробста. Разве новый дом, построенный по другую сторону владений управляющего, пустует? Неужели, несмотря на все, она родила второго внебрачного ребенка?
Ни то, ни другое. Дом не пустует, ребенок фрекен Раннвейг отнюдь не явился на свет незаконнорожденным. Ничего непристойного не могло произойти в этой семье. Почему же? Да потому, что господа в Вике – благородные люди, самые благородные люди в этой части страны.
Хотя фрекен не вышла замуж за предполагаемого жениха, все же в назначенное время она вышла замуж. Долго ли девушке и мужчине найти друг друга? Правда, партия была не из завидных. Но если покопаться в прошлом, то жених происходил из хорошего рода, один из его предков был пастор, да и сам он получил образование, хотя и отличался большой скромностью. У него была во всех отношениях незапятнанная репутация, а в наше время это чего-нибудь да стоит. Итак, избранником явился приказчик Ханс.
Союз был скреплен в Иванов день в кабинете пробста. Кроме молодых и жены пробста на бракосочетании никто не присутствовал. Жених, одетый в праздничный костюм, выбритый, приглаженный, внимательно прислушивался к словам пробста, исполнявшего ритуал. Он слушал с таким видом, будто улавливал за словами текста скрытые намеки. Рядом стояла невеста, цветущая женщина, воплощение плодородия, напоминающая дерево, которое гнется под тяжестью плодов.
В тот же день они переехали в новый дом, а еще через день Раннвейг родила маленькую Катрин Хансдоуттир. Осенью, как и прежде, она вновь стала обучать молодых девушек ткацкому ремеслу, деля время между этим занятием и ребенком. А приказчик Ханс, который четырнадцать лет жил на участке бухгалтера, в сарае, оконопаченном смолой, и в темные осенние ночи заглядывал в окна чужих домов, теперь стал помощником бухгалтера, шурином управляющего, одним из столпов города, хозяином собственного дома, к тому же был женат на самой лучшей невесте в этой части страны.
Неудивительно, что пробст начал проповедовать с амвона смирение, он говорил о робких и униженных, не теряющих веры. Господь бог не забывает их, он их возвышает, ставит очень высоко, он благословляет их потомство, которое прославит имя господне во веки веков. Да славится имя господне!
Нельзя с уверенностью утверждать, что фру Туридур потерпела поражение в жестокой схватке за честь сестры, но в то же время нельзя сказать, что она одержала блестящую победу. Нужно признаться, что, хотя спасение и пришло в последний момент, все же это была вынужденная мера. Родство с приказчиком Хансом как-то снижало престиж дома. Хотя Гисли Гислассон не мог похвастаться своей родословной, все же он был многообещающим молодым человеком, к тому же музыкальным. Когда Гисли Гислассон выпал из игры, жене управляющего тем самым был нанесен жестокий удар. Что же прикажете делать, когда рушатся все планы? Пришлось прибегнуть к крайним мерам. Кипя от злости, Туридур в день свадьбы приказала заколотить калитку, соединяющую дворы сестер. Не ограничившись этим, она велела оплести ее колючей проволокой в знак того, что между ними нет ничего общего. Чтобы попасть из одного дома в другой, приходилось делать большой крюк. Удалось ли жене управляющего восстановить здоровье после того, как заколотили калитку? Как ни странно, но эта мера не улучшила здоровья Туридур. Она не выходила из спальни, запретила прислуге поднимать занавеси, не выносила яркого света. А что же говорил доктор? Он сказал, что ничто, кроме поездки за границу, не поможет фру. И жена управляющего уехала за границу. Однажды ночью она села на пароход, и в доме управляющего были подняты занавеси.
Болезнь, должно быть, была серьезная, раз Туридур решилась оставить мужа и детей на долгий срок. Никто не знал лучше, чем она сама, что без нее дом напоминал ладью без ветрил. Тотчас после отъезда жены управляющий начал подолгу засиживаться в гостях то у врача, то у хуторян или у священников, а дом все более и более приходил в упадок. Экономка не могла справиться с детьми, а их было немало. Старшей дочери уже исполнилось четырнадцать, следующей – тринадцать, затем шли два мальчика – одиннадцати и девяти лет и, наконец, еще две девочки – пяти и шести. Все дети, конечно, подавали большие надежды, хотя к книжной премудрости не очень тянулись. Обе старшие дочки развились очень рано. Их можно было считать взрослыми девушками, хотя они и не были конфирмированы. Обе потеряли интерес к детским играм, предпочитая болтать со взрослыми девицами и мальчишками. К труду их не приучили. Это были упитанные девицы, брызжущие избытком физических сил, а волосы у них так и искрились; в общем, очаровательные девушки. По утрам сестры любили валяться в постели, придумывая веселые развлечения. Они тянули друг друга за пальцы до тех пор, пока не хрустнут суставы.
И тогда пальцы почему-то назывались «незаконнорожденные дети». Игра очень нравилась девушкам, но забавлялись они ею только под одеялом, чтобы не заметила мать. Они успели начитаться легких романов. Сестры часто жаловались на нездоровье, и в результате доктор разрешил им посещать школу не каждый день. Да и мальчишки были настоящие сорванцы, мечтавшие управлять лодками деда. Они научились у моряков сквернословить, позаимствовали у них разные крепкие словечки и уснащали ими свою речь. Они всячески увиливали от умывания, считая его посягательством на свободу человека, и уже совсем было невозможно заставить их вытирать ноги при входе в дом.
Мать всегда строго следила за поведением детей, умела незаметно держать их в узде, особенно девочек. Она рано отправляла их в постель и сама тщательно следила за тем, с кем они дружат, а уж если замечала, что они разговаривают с молодым человеком, тут она им спуску не давала! Мать говорила, что такое поведение ничем не отличается от поведения девок, шляющихся по улице с рыбаками. Они не вышли еще из того возраста, когда можно угрожать розгой, хотя жена управляющего уже не отваживалась приводить в исполнение свою угрозу. Ведь «крошка» Гвюдлойг – старшая дочь – была на голову выше ее ростом. Девочкам строго приказали носить детские платья, хотя они давно уже выросли из них. Поэтому они часто капризничали. Все естественные проявления их жизни подавлялись, им приказывали оставаться детьми, а вести себя, как взрослые. Ни шагу ступить самостоятельно! Зато мальчишки были еще малы, и мать великолепно справлялась с ними. Не проходило и дня, чтобы в доме не звенели пощечины. Но парней этим не проймешь, они и не думали плакать, они корчили гримасы вслед удаляющейся матери.
И вдруг Туридур уехала за границу. Дом остался без моральной узды, словно крыша слетела с него. Отныне он стоял незащищенный, доступный всем ветрам. Мальчишки и девчонки приглашали своих знакомых, когда вздумается; мало-помалу друзья привыкли приходить и без приглашения. Во всяком случае, через черный ход. Вскоре господский дом превратился в арену самых шумных действий. Отсюда в поселок доносились завывание гармоники и пение, танцы и визг.
А однажды в разгар осеннего лова дом заполнили молодые матросы и девушки. Чтобы выпроводить все это собрание, экономке пришлось разбудить старого пробста и его жену. Не обошлось, конечно, без водки. Некоторые из молодых людей еле держались на ногах, и даже от дочерей управляющего разило дьявольским духом. Сам же управляющий засел в конторе с пастором другого прихода и, не зная, как поступить, послал всех к черту. После этого происшествия жена пробста заболела, и теперь некого было звать на помощь, чтобы покончить с этими ночными развлечениями.
Жене же управляющий писал, что в доме господствует идеальный порядок, он просил ее не торопиться с возвращением, пока она не поправится как следует, а старуха-мать не осмеливалась откровенно написать дочери о том, что происходит в ее доме, считая, что правда убьет ее. Она писала, что все здоровы, и то слава богу!
Но как красноречиво эти письма говорили о том, что фру Туридур необходимо вернуться домой без промедления, особенно письма управляющего! Что могло свидетельствовать о его времяпрепровождении красноречивее, чем просьба не спешить с возвращением! А из письма матери она могла понять– она ведь была женщина с сильно развитой интуицией, – что не все ладно с ее детьми. И что же! Неужто она не поспешила домой, чтобы вновь взять в руки бразды правления и все поставить на место? Нет. Она ответила, что ее радует полное благополучие в доме, она надеется, что и впредь будет не хуже. Иными словами, она ничего не поняла.
О себе она писала, что стала понемногу поправляться, из санатория переехала в Копенгаген, но все еще находится под наблюдением врача, а он настоятельно советует ей не возвращаться домой до весны, пока окончательно не окрепнут ее нервы. Да, любезной Туридур было уже за сорок, и предательская старость надвигалась с угрожающей быстротой. Быть может, она нуждалась в свободе, как и остальные в господском доме, в свободе, пока не поздно, хотя, бы на годик; ведь живем-то мы один раз!
Итак, зима прошла в игривом веселье для всех. Удивительно, как могут распуститься благовоспитанные дети всего лишь за одну зиму! Девчонки стали на себя не похожи: они носили длинные платья, спали днем и танцевали по ночам, они так попирали христианские устои, что пробст был вынужден отправить их на пасху в деревню, к своему коллеге, на исправление. Но спустя два дня, несмотря на грязь и дурную погоду, они пришли обратно, промокшие до костей. Как же, ведь в поселке должен был состояться бал!
В мае жена управляющего вернулась домой. Она уже не выглядела болезненной, поблекшей. Поразительно, до чего она была хороша! Ее едва можно было узнать. Одета она была по датской моде, на шляпе красная лента. Когда она сошла на берег, дочери посмотрели на нее с большим удивлением. С тех пор она больше никогда не появлялась в этой шляпе. Выразительные глаза фру Туридур смутили многих, когда она проходила мимо, направляясь к дому. А какая величавая походка! Благородная женщина в полном расцвете сил, женщина, которой все дано; от суеты молодости она уже далека, но судьба преклонного возраста еще не коснулась ее. Всем стало ясно, что она вполне восстановила свое здоровье.
В тот же день фру Туридур сняла датское платье, надела исландский костюм и вновь, как ни в чем не бывало, взяла бразды правления в свои руки. Она действовала с прежней решительностью. Из мебели выколотили пыль, изгнали все соринки из дома, даже оттуда, где они незаметно притаились, до блеска начистили серебро, кухонную посуду расставили в строгом порядке на полках. Длинные платья дочерей были подшиты, бахрома снята, мальчишкам велено вытирать ноги перед входом в дом и мыть руки перед едой. Было приказано разгонять ватаги молодых людей, бродивших по вечерам вокруг дома, а дочерям – сидеть и читать пристойные датские романы для молодых девушек, которые мать привезла из Копенгагена.
Спустя две ночи после возвращения матери ее тирания показалась девчонкам нестерпимой. Они решили улизнуть из дома через окно в полночь, но не тут-то было! Мать была начеку. Она стянула старшую дочь с подоконника и отхлестала, невзирая на ее возраст, по щекам. Но дело не ограничилось пощечинами. От матери так легко не отделаешься. Она прочла им скучнейшую проповедь о моральном облике и духовной силе, а за окном в опьяняющем мраке весенней ночи пели птицы. Она усердно поучала их, и они узнали в эту ночь о многом, начиная от таких ценных человеческих качеств, как приличие и достоинство, до прелюбодеяния и сифилиса. Кончилось тем, что девчонки разревелись, а мать втолкнула их, как связанных ягнят, в комнату и заперла на ключ. Легкомыслие и ветреность основательно выкорчевывались из господского дома.
На второй день после приезда фру Туридур пригласила на чашку кофе несколько достойных дам, выказав им таким образом свое расположение; другим она нанесла короткий визит. Но единственной женщиной, которую она но пригласила и которой не нанесла даже самого короткого визита, была ее сестра Раннвейг, жена приказчика Ханса. Туридур решила и на будущее лишить сестру своей благосклонности. Но не так легко победить легкомыслие. Не успеешь оглянуться, как то, против чего так упорно борешься, водворяется в собственном доме.
Фру Туридур довелось познать справедливость народной мудрости. Легче справиться с сотней блох, нежели с двумя строптивыми девчонками. Постоянно следить за двумя молодыми девушками, которые добивались только свободы, в то время как их заставляли носить детские платья, из которых они давно выросли, – что могло быть мучительнее для нервов, если еще принять во внимание, что жена управляющего была в положении! Она уже давно должна была разродиться, но, вероятно, из-за ее странной болезни беременность тянулась удивительно долго.
– До чего же быстро развиваются дети в наше время! – говорила жена пробста. – Мои дочери даже в двадцать лет были недостаточно взрослыми для поездки в Рейкьявик. А любопытство какое, какие вопросы они задают! Ну и современная молодежь!
Жена управляющего не видела иного выхода, как отправить своих дочерей в школу для девушек в Рейкьявик, н в середине сентября они уехали. После их отъезда в господском доме и вокруг него воцарились тишина и спокойствие.
Пир у отца богинь
А годы мчались, подобно ночному ветру. Куда деваются свежесть и краски юности! Вдруг просыпаешься утром и обнаруживаешь, что волосы у тебя поседели, щеки поблекли, ямочка на щеке превратилась в морщину.
Так шли годы и в Вике. Последней службой, совершенной покойным пробстом, было венчание дочери управляющего Гвюдлойг с многообещающим юристом из Рейкьявика. Это была торжественная свадьба, но по роскоши она не могла сравниться с той, которую готовили несколько лет тому назад в Вике, когда собирались выдать замуж фрекен Раннвейг за магистра Богелуна. Свадьба эта, как вы помните, не состоялась. Спустя неделю после венчания Гвюдлойг старый пробст умер от разрыва сердца. А на следующую зиму за ним последовала жена. Имущество, немалое по тому времени, было разделено между двумя дочерьми. Незадолго до смерти пробст приобрел две моторные лодки, и теперь каждая дочь унаследовала по лодке.
На похоронах сестры не замечали друг друга, каждая в одиночестве оплакивала общее горе. Раннвейг не была прощена в господском доме, хотя она и владела теперь состоянием и Ханс давно не работал в магазине. Для прощения этого недостаточно. Никаким богатством нельзя было смыть позора, которым Раннвейг запятнала честь семьи, забеременев несколько лет назад маленькой Катрин. Поэтому Раннвейг не была вхожа в господский дом и общалась только с бедняками.
Она с каждым годом все больше замыкалась в себе, здоровье ее пошатнулось, она давно перестала обучать девушек рукоделию, часто сидела, склонившись над станком, утомленная, и читала молитвенник, а вскоре и вовсе перестала ткать. Станок стоял заброшенный, покрытый пылью и паутиной. Она состарилась прежде времени, мало заботилась о своей внешности, осунулась, поседела, лишилась зубов, – словом, мало чем отличалась от простой женщины, родившей на своем веку более десятка детей. О порядке в доме она заботилась мало, и некоторые находили ее странной. Это при ее происхождении! Быть может, она производила такое впечатление оттого, что плохо слышала. Она была добра ко всем, как бывает добра старая, измученная женщина, похоронившая всех детей и мужа и лишенная крова. Да, она была добра ко всем, в том числе и к мужу, но детей у них, кроме маленькой Катрин, не было. Разве она не любила маленькую Катрин Хансдоуттир? Она обожала ее. Но она часто плакала над ней. Почему же она плакала? Когда начнешь плакать, то на память приходят одна за другой печальные мысли. Катрин была слабым ребенком. Стоило ей только простудиться, как ее сильно лихорадило, болезнь осложнялась и затягивалась надолго. Врачи говорили, что причина этого болезненного состояния – железки. А весной, когда Катрин выздоравливала и хотела играть с другими детьми, оказывалось, что те здоровее ее и она не может за ними угнаться. Тогда она ложилась на землю, будто упала и ушиблась, или усаживалась на камне поплакать. А когда ее начинали дразнить, она тоже ударялась в слезы и называла детей злыми; если она защищалась, то они нападали на нее еще сильнее, и она уходила к матери жаловаться на них. Дети вскоре и вовсе не захотели с ней водиться, считая ее плаксой и ябедой.
Близнецы управляющего были примерно одного возраста с Катрин. По непонятной причине их окрестили датскими именами. Мальчика звали Альфред, а девочку Эдит. Очевидно, среди исландских имен не нашлось для них достаточно хороших. Таких красивых детей в этой части страны еще не видели. В один весенний день дети управляющего присоединились к группе ребят, среди которых была и маленькая Катрин Хансдоуттир. Немедленно детей управляющего позвали в дом, и в тот день их больше не выпускали. Через несколько дней эта попытка повторилась, и на сей раз мать красивых близнецов задала им изрядную взбучку за то, что они осмелились нарушить ее приказание и играли с Хансдоуттир. Жена управляющего не желала, чтобы ее «датские» дети (так прозвали их шутники, разумеется, за их имена) играли с ребенком, который официально не существовал.
После этого случая дети управляющего стали прогонять маленькую Катрин, бросая в нее комки грязи и ругая ее. А так как дети управляющего во всех играх задавали тон, то другие ребята им подражали. Стоило еще вдали появиться маленькой Катрин, как ее шумно атаковали, закидывали комками грязи и кричали: «Ублюдок!» Маленькая Катрин приходила домой в слезах и рассказывала матери о своем несчастье. Мать тоже принималась плакать. Да, маленькая Катрин была очень несчастным ребенком.
Доброй Раннвейг довелось познать неблагодарность; дети тех бедных женщин, которых она больше всего одаривала, называли ее единственное сокровище ублюдком и бросали в нее грязь. И все же Раннвейг не ожесточилась на мир, она только плакала по самому пустому поводу. Часто мать и дочь горько плакали в объятиях друг друга. И вот маленькая Катрин заболела вновь. Мать боялась, что девочка умрет.
Приказчик Ханс уже не работал в магазине. Если он не возился с курами – в хозяйстве их было семь штук, – он лежал на кровати, сплевывал табачную жижу в ночной горшок и читал фельетоны в исландско-американских журналах. Сейчас ему было уже за шестьдесят, он растолстел и обрюзг. Но с тех пор, как Ханс женился на Раннвейг, он избавился от вшей. В первый же год она энергично принялась их выводить и таким образом возместила ему однажды обещанное и невыполненное– ведь она забыла купить для него в Копенгагене сабадиловое семя. Ханс был одинаково равнодушен ко всем занятиям, на суше ли, в море ли; в хозяйстве его никогда не было более одной коровы и семи кур. А когда жена получила неожиданное наследство и он стал владельцем моторной лодки, он тут же продал ее управляющему за баснословно низкую цену.
Управляющий убедил его, что моторные лодки здесь, в Исландии, – чистейшая лотерея. Они портятся и приходят в негодность, а содержать их стоит немалых денег. Он сказал, что такие лодки разорили не одного человека на юге. Если бы на старости лет добрейший пробст не впал в младенчество, он никогда не приобрел бы таких лодок. Приказчик Ханс был весьма рад отделаться от этого механизированного совершенства.
Как же складывалась их супружеская жизнь? Идеально. В доме не было слышно ни единого бранного слова. Вначале, пока Ханс еще работал, он проявлял живой интерес к жене. Он неожиданно приходил домой среди дня, когда Раннвейг меньше всего ждала его, заглядывал сквозь дверную щель в комнату, но, если жена была не одна, боялся войти. Обычно он с нетерпением ждал ухода гостя: он не любил гостей. Когда жена выходила из дома, он следовал за ней на расстоянии двадцати шагов, а если она заходила в какой-либо дом, ждал ее на улице, поглядывая на облака и сплевывая. Стоило ей задержаться, как он стучал в дверь и заявлял, что ждет свою жену. С годами гости приходили все реже, да и Раннвейг реже отлучалась из дома. Приказчик Ханс так и не расстался с привычкой бродить в одиночестве по вечерам. Когда спускались сумерки, он уходил, сказав жене, что идет посмотреть, какова будет погода, а сам, крадучись, пробирался через огороды и изгороди. Он часто возвращался домой грязный, с порванной о проволоку одеждой, в дождь – промокший до костей, а в холод – посиневший от мороза. Бывало, на него нападали собаки, и он приходил искусанный.
Весной, когда маленькой Катрин исполнилось десять лет, она серьезно заболела. Болезнь эта вряд ли была вызвана ее общей слабостью. Что-то неладное случилось у нее с головой. У девочки начались боли в затылке, они все усиливались, и наконец ее уложили в постель. От сильного жара Катрин очень страдала. Мать не отходила от дочери ни днем, ни ночью. И только изредка какая-нибудь услужливая простая женщина сменяла ее у постели. В маленьком городке болезнь – целое событие. Такая новость всегда вносит разнообразие в размеренное течение жизни. При встречах все участливо расспрашивали о самочувствии маленькой Катрин.
Однажды в тихую весеннюю пору врач проходил мимо господского дома. В тот день девочка, говорили, потеряла сознание. Жена управляющего выглянула из окна и спросила:
– Как чувствует себя маленькая Катрин Хансдоуттир?
Надежды на выздоровление было мало, и врач решил пойти на крайнюю меру – сделать операцию. Послали за повивальной бабкой и за другой женщиной, умевшей ходить за больными. Врач усыпил Катрин и пробил череп за ушком; там оказалась опухоль, давившая на мозг, и ее удалили. Вечером на короткий миг девочка пришла в сознание и посмотрела на мать, а ночью ей стало хуже. Боли усилились, она опять погрузилась в беспамятство. Врач и женщины далеко за полночь сидели над ней, а обессиленная мать уснула. Наконец врач распрощался и попросил женщин зайти к нему утром. Ночь была страшная. Девочка металась в жару. К утру у нее появились судороги. Послали за врачом. Когда он пришел, мать держала ее на коленях. Девочка была мертва. Врач вернулся домой.
Путь его лежал мимо господского дома. В этот ранний утренний час жена управляющего, выглянув из окна, спросила:
– Как чувствует себя сегодня маленькая Катрин Хансдоуттир?
– Она умерла, – ответил врач, продолжая свой путь.
Тогда жена управляющего вошла в свою комнату и тщательно нарядилась. Она надела исландский костюм и черную бархатную шляпу с кисточкой. Фигурой она походила на мать; с годами она также располнела, у нее заметно увеличился живот, каштановые волосы уже были тронуты сединой, но с каждым годом она становилась солидней и почтенней, и, где бы она ни появлялась, сразу было видно, что идет настоящая благородная исландская дама.
Туридур послала в контору за мужем, она велела ему побриться, надеть визитку, крахмальный воротничок и черный котелок. «Умерла маленькая Катрин Хансдоуттир». Затем она велела прислуге открыть калитку, ведущую в дом Раннвейг, и снять заржавленную колючую проволоку. Накинув черную шелковую шаль, жена управляющего взяла мужа под руку, и они вышли из дома. Они шли рука об руку через светло-зеленый выгон под лучами весеннего солнца, в трауре, молчаливые, чинные.
Приказчик Ханс открыл им дверь. Управляющий оставил шляпу и эбонитовую черную палку с блестящим набалдашником на столе в передней и нерешительно последовал за женой в спальню. Раннвейг как раз кончила одевать покойницу. Она стояла у ее изголовья, заплаканная, убитая горем, когда на пороге появилась сестра, внушительная и важная.
Говорят, что отец богов когда-то созвал к себе на пир богинь судьбы. Все они знали друг друга, за исключением двух, которые не встречались раньше. Кто были эти богини? Одну звали Искренность, а другую Приличие. Такой пир состоялся сегодня. Сегодня встретились эти две богини, они приветствовали друг друга поцелуем перед лицом всемогущего бога.
Труп маленькой Катрин Хансдоуттир был залогом их примирения.