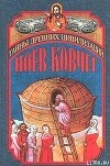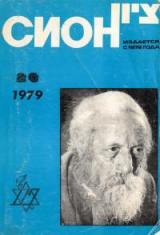
Текст книги "Попытка восхождения"
Автор книги: Хагит Гиора
Жанр:
Рассказ
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 1 страниц)
Annotation
Рассказ о том, как недавний житель Восточной Европы поднимается на Мецаду, рассматривает окрестности Мертвого моря и осажденные здесь в 73-м году евреи, убившие себя, беспокоят его пытливость.
Хагит Гиора
notes
1
2
3
4
5
Хагит Гиора
Попытка восхождения
…известковый слой в крови больного сына растает. О. Мандельштам
Вон по той белой слоистой рыжей породе и шла, петляла высушенными скатами без колючек – и споткнуться не обо что. В руках палка, потому что так надо, чтобы посох. Может – для силуэта, думала она; нужно двигаться, перебирать ногами, маленькая такая человеко-единица – через пространство; оно округло, стадо холмов, надо его пройти, пасти.
Ни былинки. Какой отсушенный оцеженный мир. Может, я во сне? Ведь не бывает, чтобы шел человек, 90 процентов воды, по такому отжатому миру.
Странно, почему не чувствую солнца, не падаю, не пропадаю (парком – и в нети). Между прочим, тут в армии заставляют пить, чтоб не помереть… Может, я в данный момент абстрагирована? – Ощупала – у пояса висят две фляги. Но будто и не пекло, лишь один цвет белой раскаленности вис до линии перереза, до кремниевых спин, а там остыло, отстоялось, и цвет стал – глиняного кувшина.
Как – не подобает здесь слово «природа». Только одно, другое, одно слово – Господи.
И пить не хотелось.
И неминуче надо – это знала всем существом, иначе смерть, – вот так отмеривать довольно широкими, но все же не быстрыми шагами, отталкиваться бамбуковой летучей палкой, чтобы в такт, как на качелях, – край наплывает, опадает; тут какой-то смысл, что-нибудь вековечное, в том, что тащусь по этим макушкам… но сейчас некогда думать, главное, не выпасть из ритма. Палка сбивает с непривычки, и тогда все сбивается, будто вот-вот начнется озноб или страшные превращения в теле, и оно очнется, вспомнит, вспыхнет и наконец предаст. Изойдет. А жилка, что вытягивается из последних сил вслед за свихнувшимися амплитудами «Я», – та жилка сорвется, толчки сомкнутся наконец, перестанут мешать.
Черноватые тени, сушь. Камень рассыпался на крупинки. Можно стать кремнистым и сыпучим, как бедуины. Тогда ты не лишний.
Тем временем существовали бесчисленные раздолья, серебряные водопады на заре, их пенистость и брызги, талый блеск горных речек из-подо льда, и мохнатые сопки, миллионы заросших сопок, то свободное, не обремененное ни судьбою, ни мыслью пространство; и океаны, их узорные берега и скалы с налипшей русалочьей чешуей, с которых можно нырять – аж ухает сердце – в глубины зеленые, синие, полные тайн и игры; – все трепетало, продолжалось где-то, как лента, раскручивающаяся вовсю… но звук пропал, и уже ты вспомнил, что все – на экране, в кино.
А здесь, на раскрытой тверди, – ни-че-го, чтоб разодраться хотя бы в кровь, только выпятилась глина, и тесно, тесно крови, упрятанной в артериях; стиснуто горло, ребра… И добирается до костей.
Да, тут самую кость мою, Эцем[1] надобно, кость, сердцевину.
Это было – Иудея, пустыня, оплодотворенное пространство.
(А бывало, озирая с вышины до Ледовитого океана, до Гималаев, до Тихого, – благословен Бог, думала я, что взгляд встречает и забирает тьмы этих гор, и они есть, проникнув между веками, отразясь, оставаясь и живя. О бедные, не знающие о сиротстве, вековечные огромные бедняги, зеленые количества и водные; а человек так выслеживает зверя, вкрадчив и мягок как трава.
А бывало еще другое, в облаках и полянах, ласковое, – спрятать бы в ладанку, так пропитано усадебной погибшей жизнью, перевязано ленточками, как пачки писем, и надписаны посвящения. Кудрявость лесных опушек напитала почерк милых умерших? Или мы сами навлекли на лиственную смуту изящные извивы? Ведь сладки пропасти, необозрим и влажен север, – накачивайся, тяни его нектар! – он тем обильней, и тем нежней исполосованы деревья дождями и тенями.)
Отчего ж сгорать мне, отчего? Земля, черта, пересечение, небо – от одной черты?
Соображаю, что уже несколько часов все оглушено бешено-ровной канонадой: беззвучие.
Бедная овца, тихое травоядное, пощипывала стебли и забрела где свищут экстремумы – что теперь? Каждая горсть праха светла, звонка, смертельна.
А этой округлой глине, извергающей себя на всех и вся, – едино, наличествует кто, нет ли. Как раздули топку – с тех пор гудит и содрогается Событием, и это как Ерушалаим, который каждое мгновение возникает заново в ворохе посулов и бесконечных узнаваний, снова мне усаживаться за него и разучивать с алефа.
За кругляками, за такими же – АРАД, ЭДОМ, МОАВ. Земля, адама, из которой – Адам, ее величество глина творения. Пе-ре-быто. Переплавившиеся остатки. И я – в осадок, выпаду порошочком.
Дивно, что так легко иду, припеваюче. Что-то ненормальное, не забыть разобраться, может, мираж, может, переселение душ. Вышагивает бедуин, а я думаю, что я. Или не могу проснуться, а потом ка-ак проснусь!! – там[2], в чугунном мифологическом горшке «бе-рит-а-моа-цот»[3], где вываренные кости плавают. Или просто нет меня, умерла, но – там, как будто; а на самом деле живу на земле безо всех сама, но никто не знает и не может вообразить, ведь ничего между, даже закричать туда, где чумной чугунок дымится, чтоб голос к ним в пар и вар донесся: ау! я здесь! – нельзя: ведь голос тоже испаряется в переходах, как тело и как сердце, а кости раскрошиваются без возврата… Все дело в разной степени сухости и отжатости: никак степень не поменять.
Огибаю верхотуры. Ничего, ты идешь, дружище, и даже очень в порядке. Ага, колючка. Ладонь к острию – пожалуйста, зарозовела точка, закоричневела…. живы соки мои! но загустели, наружу не хотят. Значит, в самом деле – Адам и адама.
Здесь проходили трое. (– Скажи – «сара»! – кричали, подпрыгивая, дети. Давят из-за плеч, не спастись; ах, если б знать: сара – княгиня, а трое, которым пририсовывали потом по разным землям крылья, чтоб остальным, неевреям, было понятней, – те трое приходили к Аврааму, к Сарре.)
За все времена один-единственный разок к человеку в гости. Дом был шатер. Здесь проходили трое. Вот земля. (– Пока не скажешь «Сарра»! – Твое наименование, полированное, лишь малость сдвинутое в неопределенную инакость: не Маша – Мая, и не Лида – Лина, – валяется, продырявленный щит. А потаенное искомое – уже выволакивали его, как из кошки внутренности, для рассмотрения, расчленения, подвешивания над огнем. Первый урок в тенистом тучном детстве – имена существительные СОБСТВЕННЫЕ.) Здесь проходили трое. Зашли к Аврааму, Сарре. Вот земля.
На земле площадь с киосками из пластика, торговцами пирожками, «маген давид адом», автобусная публика, школьники в голубых блузах, беспрерывно скандирующие; под навесами расселись полосатые цветастые бухарские жены в узких штанишках и раздувающихся атласных подолах; невестинские их пляски, страстно-глуховатое магическое постукивание бубна, соло рук и шеи в орнаменте неподвижных поз и коричневых лиц зрителей. Мальчики-солдаты обрушивают припев за припевом. Многоречивые хлопоты идишного семейства. И наперерез – горловой, из сокровенных недр выкатывающийся, напрочь неуловимый мной иврит, таинственный, внутриаравийский, из родового семитского гнезда, – гортанность его затмевает мозг, и не узнаю расхожие, с первого дня ульпана пущенные в оборот потертые древние его монеты.
Добавим себя к еврейскому разноплеменью. К разноцветью – разнузданную синеву тончайшего моего платья, расписанного кружевным узором, иглистым, как иневые пиршества, и брошены буровато-желтые импрессионистические розы. Мое серебряное и синее, придуманное исподволь, которым я горда, как вавилонские евреи тысячелетними духовными изысками, нежно-прекрасное платье мое, вникала в его прекрасность и впадала до глубин, потому что ни одна женщина, на севере не придумает и не рассыпет такие тусклые, такие царские розы на взбудораженную такую синь.
От окраин пробралась в центр, где чаша со стручками-кранами, и там скопилась влага. (Взвинчивается по скале тропа, последний неотвратимый зигзаг. Но не туда глазами!) Как пьяный дервиш, припала и лакала, как псица, как триста звероватых мужчин Гидеона![4]
Как я пила посреди рыночной той площади! Впивалась в сосок водопровода и возвращалась жить: в груди оживали хрипы, суставы начинали дрожать, вновь узнавала тело, и в нем оказывались усталость и дыхание – хорошо, значит, живу. (А тропа вверх буравом.) Глотки толкались, всхлипывали, и казалось, оставляют раны. Стекало ручьями, каплями, тяжелело тело, груз его набухал как блаженство. И волос лил, хлеща, и шелк густел, напитываясь соком, и лип, влюбленный. Чем единственней он и нежнее, тем небрежней и слаще сорвать лоскут чрезмерной живизны, радостной кожи, кусок свой синий, драгоценный – на потоптанье, на побивание камнями, псам на съедение… Сейчас, сейчас поднимусь (после того как шла и петляла?)… сейчас все будет, но тихо, ти-хо… равномерно… чтобы потом – ДАЛ уползти в долины.
День уходил, люди стекали, и ты по обломкам скал навстречу, не прикасаясь, на одном колочений сердца, которое только подстегивает: еще, еще можно вполне взлететь.
Взлетя, краем ока отметила толпу у спуска, возню возле кого-то лежащего. – воды! воды! – и на секунду – серое, разом втянутое внутрь лицо. Это не со мной, подумала, то женщина смуглая, восточная… не со мной. До других добирается, потому что весь день там, а теперь вниз, у меня же другое, мне только глянуть секунду.
Дежурный покрикивал, подгоняя к выходу, невнятный, как конторщик. Ловко обошла, вот так, за каменный столб… груда камней – и голосов не стало.
О, как вынесло меня наверх и как ничего не говорит и не дышит. Немножко ветер чем-то шевелит, и оттого еще нешевелимее. Сажусь на камень и будто теряю дыхание.
Внизу – оставленные пространства. Мертвые вади[5] выгорели, растрескались там, где некогда кишел Содом. Белое, белое – не горнее, вознесенное, и не протяжное белесое азиатских русских безлюдий, где не коснулось крыло, не коснулось вовсе, – но желтое белое, выеденное солнцем вещество мертвизны, ее склад. Вот она, явь погибели, павшая на дно, на самое, вся гущина погибельная! Было – орет – дыхание, дуновение, и ахнуло, разверзлось бездной бездуновенной. Ком глины обмятый и отброшенный разочарованной рукой.
Вдруг – птица, распластанная в полете, близко, низко, громом в меня (где стою – долетаемо?), чиркнула в камнях, сожженных в гончарной печи События и канула.
Гора, гора, как я здесь оказалась?
Немота. Поднято.
В мертвой испарине лежат границы, страны, записанные в земных реестрах, зарисованные на картах, ведь были войны, договора – история, стало быть, все длится и сейчас; но выключено. Осталась выпяленность, как вытолкнутый вверх перст Отделяющего; то оголтелое одиночество, которое уже – единственность, просто единственность, и никакой тоски поэтому нет.
По ночам луна подымает самый соленый на свете прибой – он плотен, как лава, вязок, неуловим, подминает пыль добротную, замешанную с кровью из самых жестких на свете вый.
Холод между холмов, их скаты студенеют. Если остаться – за ночь затвердею, из розовой, в порах и каплях, стану обернутый в ткань сталактит.
Ирреальный элемент тот, что я действительно здесь, я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НАХОЖУСЬ ЗДЕСЬ, на вознесенном, пригодном для многолюдья месте, расплющенном под коронование или под казнь. Несомненность размежевания, так что ясно, кому и где раздроблять темя.
Слишком очищенное. Уже не человеческое. Где-то над. Даже если на самые цыпочки изо всех сил – все равно не достигаю, только волосы на голове заколыхались, обдуваемые ветерком из сфер. Там оно, там, где стали звезды: подними руку – ладонь уколется о луч. Игла и струна. Тонкие-тонкие, вопьются в кожу, и задрожит, зазвенит. Сам же, как ни тянись – ан нет. Страшно и чисто. Не знаешь, как дышать. Куда деть бытие.
Тогда в этой плотности, которою сверхплотные звезды особенно уплотнены (ядро к ядру), тогда оно, наверное, и происходит – неисчезаемость; губами и голосом «Шма Исраэль» выговаривается, и Элохим принимает душу. Поскольку плотность – та самая, то можно прямиком туда, в КОТОРОЕ ЗА разбавленным этим миром (а в нем-то только я и могу дышать); как числилось в Том Хозяйстве, так и возвращается, ничего не теряя. И там, где я отфильтрована напрочь и ни одна испаринка моя невозможна, там они взбугренным мускулом – есть.
И в эти мгновения, когда ничего не остается, только это оказывается вдруг – будто уперлась пальцами в темноте – и осязаемо, слышимо, и трогаешь. Гремучий экстракт переложен на верхнюю полку – такой твердый Ган Эден, не подверженный амортизации, – и пребывает.
Из-за того что пребывает – я здесь.
Вот оно! Вот отчего я на горе меж Европой, Азией, Африкой, и белеют внутренности содомской земли.
…стоп, спиритический сеанс не получается. Не умею говорить с мертвыми. Слишком тоталитарно пожжено, обнажено и высоко. Тут должно быть совершенно беспамятно. Однако ж упарились те, насыпая и мостя, коченея зимами у костров и сходя с ума в кесаревом. июле. Экая несообразность: три года блистательный металлолом, прекрасно-скрежетная мощь цивилизации – в неотвратимой наготе; иудейское небо не смягчено благою облачностью, а глиняная окрестность обтекает врезанные в тело квадраты лагерей, молчит, простерта, и обращает все в абсурд… И Некто влекся по кругам, вязнул и волочил одноколейные иудейские древности, пока не столпились, трогая глыбы и крича вопросы, мы, повылезшие из экскурсионных автобусов, обкатанные от имен до подошв, с любознательными голосами, а мальчики-солдаты облизывают камни; для потерпевшей сердечный приступ прибыли носилки. Снует дежурный. Начинаю рассуждать о мифологическом сознании и архетипах. Спохватываюсь, – как я выгляжу в ваших родимых, привычных, ваших усталых всезнающих глазах.
Нет языка: бесчувственный между небом верхним и нижним, в славянских созвучьях, вялый, мягкий – с рождения изъяты пружины гортанных, когда говорят жилы, кости, мясо, омываемые темным жжением, что разлито внутри, – нет языка, и не умею говорить с тобою, Гора, Пустыня.
Нет во мне памяти, и свитков в руках не держала. И на дне души не лежат зарезанные, не лежит та ночь и тьма, и не дрожит огонь (прежде чем поджечь, последний проходил дозором; между тел с оставленными в них мечами, между детских тел, заколотых отцами, вглядываясь, прежде чем поджечь – себя и всех – проходил дозором).
Довольно. Раскровавая каша. Кромешная неловкость перед человечеством, не сгладить никак.
Каждому – его шесток, квартира Сохнута. Сиди, перекачивай кислород, никуда ты не выскочишь.
По насыпи спустилась к тому уютному склону с водоснабжением, торговлей, пылью в каменных осколках, где некогда изнемогали римляне, а теперь кишели мы. И легла на краю, между пустыней и голосами; рядом тень сливается с предгорий и скапливается во впадине. Сейчас будет фильм, как делали раскопки. Хорошо в людской отаре, ухом к земле, вбирать перешагиванья, перекликиванья (в темноте лица слиты, и только голоса), как умащиваются на плащах, раскладывают одеяла, подбирают камушки под голову; обживают.
Вырыла для темени ямку и – спиною к спине холма. Дышим, и земля мягка и тепла, как подушка. Ничего другого, только как суют обратно в колыбель, и она кораблик твой, баюкает. Теплынь и не упасть – со всех сторон касается – и каждое людское присутствие через тебя, как ветер через занавеску. Умиротворенная толкотня согласных мира, а слов не разобрать, и ты головой на земле, дома. И это сходу, задаром, а ты и не домогалась, потому что невозможно вообразить, что такое может быть дано.
Слушай, слушай этот шум, ворчанье крови в стенках родной утробы.
Слушала, и растекалась, стлалась, таяла.
А надо мною сгущалось небо Мецады.
И вдруг возникли звезды.
Какое безмолвие.
Из кишащего своего телесного колодца поднимала опасливые веки во-он на ту звезду и вон на эту… Как стали надо мною ужасно. Под ними средостенье суш, лязг, разверзанье; выцветшая соль исторгнутого мира. Сияет Арад, и россыпь огней Беэр-Шевы, а на краю, где соль солености и выжженная выжженность, дети Иакова сидят, поджав коленки, головы торчком, и небо хочет их пригвоздить; оно сливается с горами, с иорданским берегом в поющий занавес, ребрятся складки, но вот и те неразличимы: одна священная завеса, Божья слава, и посредине комета медленно прочерчивает след, на все мироздание гремит мотор – прошел пограничный катер.
Стряслось, дано. Что делать с этим, скажи.
Сердце, темный комок, шевелится, и я вокруг – боязливая кожура, вникаю в живородную пыль, принявшую от пяток до затылка, как на руки дитя. Тонкий чистейший прах покрыл синеву на платье, но кожа еще светлела, кожа туристки новоприбывшей, и шелк ярился, заливаемый прожектором; еще блестели складки и чувственное серебро, и бесновалось самовыражение, вся раздраженная прелесть чудного покрова… если подождать, не вернуться – то поголубеет, порыжеет, сравняется.
Какая теплая земля, Какая теплая. Снова горит гора, утесы, стены. Вы не находите, что это странно и томительно для сердца, что снова все горит? Дымится луч, и нежная игрушка повисла, прельстительная иродова колоннада.
…на дыбе, в скопищах игл, лицом упираясь в небо – оно все бездонней, все нестерпимее напрямую, и это как полдни Ерушалаима, когда ясность обнаруживает себя, что не полог, не дно, а – в глубь пучка голубых кристаллов, в глубь коридоров, по дороге в свечение, в океан сияния и свечения, и ты бежишь по улицам, якобы по своим делам, жмурясь, растаивая, укрывая глаза от света… Элохим отвернул завесу, луч прорвался, прошел в зрачок. Хитрый Боже поставил отражатель, спецназначенный свой отражатель – там, подвинтил в сферах, чтоб как раз в меня и угодило… Погодите, я только человек, видите, некуда вместить, нечем. Нищая. Что же вы хотите и длите пытку? У-у, противостояние глаз, звезд… Судьба-спасительница! (поразила, схватила, вытащила смертными клещами – и привела, и вознесла) – горю. Благодарю, дарительница.
…но даже если уяснить до конца, что все равно уголь в глотке и – глотать, и – «если спросят: куда нам идти? – то скажи им: кто обречен на смерть – иди на смерть, и кто под меч – под меч». И если жгут – тебе остается только сгореть, и клетчатка твоя чернеет, как ни разрывайся глаза и нутро твое зовом (чем еще разрывается человек на смертном крае?), клетчатке твоей достается чернеть, ежиться, лопаться; или если закапывают – остается тесниться до окончательного удушения между телами, как ни беспокой свежие комья и как ни шевели землю на протяженье первых свежих суток, и вторых, и может, третьих… или когда тебя укладывают в человеческие штабеля, что под Могилевом… Ну так Ты, который высоко, скажи им в глаза, прямо в их глаза и скажи: «Так говорит Господь: кто под меч – под меч».
Ладно. Я пробую, так сказать, абстрагироваться и соображать, спокойно взвесить, что есть предназначение и как ужаться с ним оптимальным образом. Вот имеется передо мною маятник – секира, не уклоняется ни вправо, ни влево, ни на гран. A-а, уже все платья перемерила, не спрятаться. На этом бесконечном карнавале маска настигала тебя и распахивала объятия, и это был скелет, загоняющий в яму.
Дорогие мои, я просто думаю, что такое обреченность. Или выбор. Дорогие мои, вы где-то совершенно рядом, но эпические прогулки переносимы лишь в кино. Все остается, все горит. Бреду по земной коре? – Н-нет… Не-ет, дорогие мои, бедная особь никак не переварит высший дар – давится. То нерастворимые кристаллы, а я – живая, я устала от количества лет: поменялись летоисчисления, я одна, только одна осталась, и так сухо, что все горит.
(Есть полноводные тучные страны, их призраки полнокровны, разверстые раны текут, текут.)
– выбыла влага, не разбавить. Ни плакальщиков, ни песни. Такой не складено, чтоб об убитых отцами детях. Если бы не оставаться нанизанными на мечи, не оставаться бы, да некому снять с меча и судьбу не поменять. Ни слезами, ни стихами, только красной вязкой этой, что поднялась в горле – вот оно, горло мое, на него все укажут враз, – захлебываться, пока не придет конец земного срока… Н-не могу. Да выйди же кто-нибудь, Иеремия, Исайя, скажите. Я только человек, из воды, тварь с проступившими каплями, мой кожный покров богат, полон железами, видите – источают, голова приспособлена к мозговым затеям – всасывать буквенные множества, я сочетаю их для ощущений остроумных, изящных, занимательных и трогательных.
…потыкаться, поводить по краю ощупью – и дернуться назад, скатиться вниз, за дыханием, размешать кровь. Но Божий перст подцепил за шиворот и волочит вновь туда же, где лезвие к лезвию и до рассечения, до каленой пыли – вот ЭТО, чему нет имени, есть три сухие слога: Me – ца – да.
(Происки призраков, думают там, во влажных долинах, – громоздкие мертвые, и груды никак не разберем.)
Голубизна и чужедальность Иордании, окаймление. Топнуть ногой – тут оно, где я, а я – где оно, все здесь, на обнаженном темени мира – упрямое! – по которому топорами на плахах. Горячие темена холмов, а там Арад, бронза, и Беэр-Шева, колодезь клятвы, и Ерушалаим. А там снижение, равнина, море – и вся она, земля и дом, вот и весь он. Напротив – горы Эдома, красные кинжалы; запах Синая, противостоянья и упрямства уже нечеловеческого, но которым ломят и уминают космические структуры – по железным остриям гор и по выям неученого народа; генетическую пыль Ицхака и Иакова – распяленной дланью Моше, дуновением, взмахом крыла…
Трещина расходится через сердце: ни дна, ни истории… не удержать. Или можно? – краем провала, по земным последним кругам, – натянуть жилы и обойти, и вернуться? Вот: привел и поставил, и как бы нет тех кругов (их не вместить глазу). И потому кажется иногда невыносимыми мгновениями (сжимает, сердца не удержать), что ничего и не было, только – неизменность моего здесь стояния и неизменность мира. И это ударяет в еще влажный ком, и повисаю на стреле, воткнувшейся безупречно точно в недообуглившуюся сердцевину… Это надо подсчитать, обдумать, это старый мировой бродячий сюжет… это Он продолжает трудиться и выкладывает нам ступени… вымащиваем средостение, лестницу Иакова… но темя отяжелело и голову не приподнять… сейчас, сейчас я вернусь и сообщу, что впечатление было огромное, знаете ли, оч-чень сильно… Но пока я вишу на мече, я спешу сообщить вам, о братья, в этот миг, о братья мои, краса и гордость на высотах твоих пали, Иудея! На высотах твоих пали, пали они на высотах, братья. Прими, Ган Эден, их, и ожги мне темя, молния жестоковыйной памяти; ударь в лицо, пожар неистребимого куста.
****
Внизу, впереди и во все стороны – мир в пряной неопределенности ждал, раздувая ноздри, замирал, мертвел, и отовсюду налезали римляне. Моя площадка была отмечена прямоугольно, ясно, как алеф-бейт, «да» или «нет», всего лишь «да» или «нет», пароль, неотвязная азбука. И отзыв: я понял, Ты спрашиваешь да или нет.
Только эта площадка, ее можно вычислить шагами, лобное место, и прийти на нее с любого земного края.
notes
Примечания
1
Эцем – кость, сущность (иврит).
2
Авторская разрядка заменена на болд (прим. верстальщика).
3
Советский Союз (ивр.).
4
Гидеон, судья израилев, отбирая воинов для боя, после трудного перехода вывел народ к ручью и смотрел, как, истомившись, люди пьют. В бой он взял 300 мужей, лакавших ртом прямо из потока.
5
Вади – высохший овраг в пустыне.