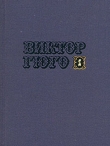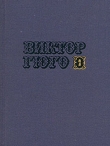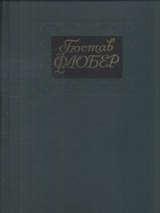
Текст книги "Собрание сочинений в 4-х томах. Том 1"
Автор книги: Гюстав Флобер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 28 страниц)
Сердце у Эммы невольно дрогнуло, когда кавалер взял ее за кончики пальцев и в ожидании удара смычка стал с нею в ряд. Но волнение скоро прошло. Покачиваясь в такт музыке, чуть заметно поводя шеей, она заскользила по зале. Порою на ее лице появлялась улыбка, вызванная некоторыми оттенками в звучании скрипки; их можно было уловить, лишь когда другие инструменты смолкали; тогда же слышался тот чистый звук, с каким сыпались на сукно игорных столов золотые монеты; потом все вдруг начиналось сызнова: точно удар грома, раскатывался корнет-а-пистон, опять все так же мерно сгибались ноги, раздувались и шелестели юбки, сцеплялись и отрывались руки; все те же глаза то опускались, то снова глядели на вас в упор.
Несколько мужчин от двадцати пяти до сорока лет (их было всего человек пятнадцать), присоединившихся к танцующим или к тем, кто беседовал в дверях залы, выделялись из толпы своим как бы фамильным сходством, выступавшим несмотря на разницу в возрасте, на различие в наружности и в одежде.
Фраки, сшитые, по-видимому, из более тонкого, чем у других, сукна, как-то особенно хорошо на них сидели, волосы со взбитыми на висках локонами были напомажены самой лучшей помадой. Здоровая белизна их лиц, которая поддерживалась умеренностью в еде, изысканностью кухни и которую усиливали матовый фарфор, покрытая лаком дорогая мебель и переливчато блестевший атлас, свидетельствовала о том, что это люди состоятельные. Они свободно могли поворачивать шею, оттого что галстуки у них были повязаны низко; их длинные бакенбарды покоились на отложных воротничках; они вытирали себе губы вышитыми, распространявшими нежный запах платками, на которых бросались в глаза крупные метки. Те, что уже начали стареть, выглядели молодо, а на лицах у молодых лежал отпечаток некоторой зрелости. В их равнодушных взглядах отражалось спокойствие, которое достигается ежедневным утолением страстей, а сквозь мягкость их движений проступала та особая жестокость, которую пробуждает в человеке господство над существами, покорными ему не вполне, развивающими его силу и тешащими его самолюбие, будь то езда на породистых лошадях или связь с падшими женщинами.
В трех шагах от Эммы кавалер в синем фраке и бледная молодая женщина с жемчужным ожерельем говорили об Италии. Оба восхищались колоннами собора св.Петра, Везувием, Тиволи, Кастелламмаре, Кассино, генуэзскими розами, Колизеем при лунном свете. Одновременно Эмма вслушивалась в разговор о чем-то для нее непонятном. Гости обступили какого-то юнца, который рассказывал, как он на прошлой неделе обскакал в Англии Мисс Арабеллу и Ромула, как он, рискнув, выиграл две тысячи луидоров. Кто-то другой жаловался, что его скаковые жеребцы жиреют, третий сетовал на опечатки, исказившие кличку его лошади.
В бальной зале становилось душно, свет лампы тускнел. Гости отхлынули в бильярдную. Лакей влез на стул и, открывая, разбил окно; услышав звон стекла, Эмма обернулась и увидела, что из сада в окно смотрят крестьяне. И тут она вспомнила Берто. Воображению ее представились ферма, тинистый пруд, ее отец в блузе под яблоней и она сама, снимающая пальчиком устой с крынок молока в погребе. Но в сиянии нынешнего дня жизнь ее, такая до сих пор ясная, мгновенно померкла, и Эмма уже начинала сомневаться, ее ли это жизнь. Она, Эмма, сейчас на балу, а на все, что осталось за пределами бальной залы, наброшен покров мрака. Жмурясь от удовольствия, она посасывала мороженое с мараскином, – она брала его ложечкой с позолоченного блюдца, которое было у нее в левой руке.
Дама, сидевшая рядом с ней, уронила веер. В это время мимо проходил танцор.
– Будьте любезны, – обратилась к этому господину дама, – поднимите, пожалуйста, мой веер, он упал за канапе!
Господин наклонился, и Эмма успела заметить, что, как только он протянул руку, дама бросила ему в шляпу что-то белое, сложенное треугольником. Господин достал веер и почтительно вручил его даме; она поблагодарила его кивком головы и поднесла к лицу букет цветов.
За ужином пили много испанских я рейнских вин, был подан раковый суп, суп с миндальным молоком, трафальгарский пудинг и множество холодных мясных блюд с дрожащим галантиром, а после ужина кареты одна за другой стали разъезжаться. Отодвинув угол муслиновой занавески, можно было видеть, как скользил в темноте свет от их фонарей. На скамейках стало просторно, за карточными столами кое-кто еще продолжал игру; музыканты облизывали одеревеневшие кончики пальцев; Шарль прислонился к двери и задремал.
В три часа утра начался котильон. Эмма не умела вальсировать. А между тем все танцевали вальс, даже мадемуазель д'Андервилье и маркиза; на котильон остались лишь те, кто гостил в замке, – всего человек десять.
И вот один из танцующих в обтягивавшем грудь очень открытом жилете, – этого господина все звали просто «виконтом», – уже второй раз подошел приглашать г-жу Бовари и дал слово, что он ее поведет и что все будет хорошо.
Начали они медленно, потом стали двигаться быстрее. Они сами вертелись, и все вертелось вокруг них, словно диск на оси: лампы, мебель, панель, паркет. У дверей край платья Эммы порхнул по его панталонам; они касались друг друга коленями; он смотрел на нее сверху вниз, она поднимала на пего глаза; на нее вдруг нашел столбняк, она остановилась. Потом они начали снова; все ускоряя темп, виконт увлек ее в самый конец залы, и там она, запыхавшись и чуть не упав, на мгновение склонила голову ему на грудь. А затем, все еще кружа ее, но уже не так быстро, он доставил ее на место; она запрокинула голову, прислонилась к стене и прикрыла рукой глаза.
Когда же она открыла их опять, то увидела, что посреди гостиной перед дамой, сидящей на пуфе, стоят на коленях три кавалера. Дама выбрала виконта, и тогда опять заиграла скрипка.
Все смотрели на эту пару. Виконт и его дама то удалялись, то приближались; у нее корпус был неподвижен, подбородок чуть-чуть опущен, а он, танцуя, сохранял одно и то же положение: держался прямо, линия рук у него была округлена, голова вздернута. Вот эта его дама умела вальсировать! Они танцевали долго и утомили всех.
Гости потом еще несколько минут поболтали и, пожелав друг другу спокойной ночи или, вернее, доброго утра, пошли спать.
Шарль еле двигался; он говорил, что «ноги у него не идут». Он пять часов подряд простоял возле карточных столов – все смотрел, как играют в вист, в котором он ровно ничего не смыслил. И теперь, сняв ботинки, он облегченно вздохнул.
Эмма накинула на плечи шаль, отворила окно и облокотилась на подоконник.
Ночь была темная. Накрапывал дождь. Влажный ветер освежал ей веки, она жадно вдыхала его. В ушах у нее все еще гремела бальная музыка, и она гнала от себя сон, чтобы продлить наслаждение всей этой роскошью, от которой ей скоро предстояло уехать.
Занималась заря. Эмма долго смотрела на окна замка, стараясь угадать, кто из гостей в какой комнате ночует. Ей хотелось узнать жизнь каждого из них, понять ее, войти в нее.
В конце концов Эмма продрогла. Она разделась и, юркнув под одеяло, свернулась клубком подле спящего Шарля.
К завтраку собралось много народа. Сидели за столом минут десять; к удивлению лекаря, никаких, напитков подано не было. Мадемуазель д'Андервилье собрала в корзиночку крошки от пирога и отнесла на пруд лебедям, а потом все пошли в зимний сад, где диковинные колючие растения тянулись пирамидами к вазам, подвешенным к потолку, а из этих ваз, словно из змеиных гнезд, свисали, уже не помещаясь в них, длинные сплетшиеся зеленые жгуты. Зимний сад заканчивался оранжереей, представлявшей собой крытый ход в людскую. Желая доставить г-же Бовари удовольствие, маркиз повел ее в конюшню. Над кормушками, сделанными в виде корзинок, висели фарфоровые дощечки, на которых черными буквами были написаны клички лошадей. Когда маркиз, проходя мимо денников, щелкал языком, лошади начинали волноваться. В сарае пол блестел, как паркет в гостиной. Сбруя была развешана на двух вращающихся столбиках; на стенах висели в ряд удила, хлысты, стремена, уздечки.
Тем временем Шарль сказал слуге, что пора запрягать. Шарабанчик подали к самому подъезду, и, когда все вещи были уложены, супруги Бовари, простившись с хозяевами, поехали к себе в Тост.
Эмма молча смотрела, как вертятся колеса. Шарль сидел на самом краю и, расставив руки, правил; оглобли были слишком широки для лошадки, и она бежала иноходью. Слабо натянутые, покрытые пеною вожжи болтались у нее на спине; сзади все время чувствовались сильные и мерные толчки, – это бился о кузов привязанный к спинке чемодан.
Они поднимались на Тибурвильскую гору, как вдруг навстречу им вымахнули и пронеслись мимо смеющиеся всадники с сигарами во рту. Эмме показалось, что один из них был виконт; она обернулась, но увидела лишь не в лад опускавшиеся и поднимавшиеся головы, так как одни ехали рысью, другие – галопом.
Проехав еще с четверть мили, Шарль остановил лошадь и подвязал веревкой шлею.
Когда же он, перед тем как пуститься в путь, еще раз осмотрел упряжь, ему показалось, что под ногами у лошади что-то валяется; он нагнулся и поднял зеленый шелковый портсигар, на котором, как на дверце кареты, красовался герб.
– Э, да тут еще две сигары остались! – сказал он. – Это мне будет на вечер, после ужина.
– Разве ты куришь? – спросила Эмма.
– Иногда, при случае, – ответил Шарль.
И, сунув находку в карман, стегнул лошаденку.
К их приезду обед еще не был готов. Г-жа Бовари рассердилась. Настази нагрубила ей.
– Убирайтесь вон! – крикнула Эмма. – Я не позволю вам надо мной издеваться. Вы у меня больше не служите.
На обед у них был луковый суп и телятина со щавелем. Шарль сел напротив Эммы и, с довольным видом потирая руки, сказал:
– В гостях хорошо, а дома лучше!
Было слышно, как плакала Настази. Шарль успел привязаться к бедной девушке. Еще будучи вдовцом, он коротал с нею длинные, ничем не заполненные вечера. Она была его первой пациенткой, самой старинной его знакомой во всем околотке.
– Ты правда хочешь ей отказать? – спросил он.
– Да, – ответила Эмма. – А что, разве я в том не вольна?
После обеда, пока Настази стелила постели, они грелись на кухне. Шарль закурил. Он выпячивал губы, ежеминутно оплевывал и при каждой затяжке откидывался.
– У тебя голова закружится, – презрительно сказала Эмма.
Он отложил сигару и побежал на колодец выпить холодной воды. Эмма схватила портсигар и засунула его поглубже в шкаф.
На другой день время тянулось бесконечно долго! Эмма гуляла по садику, все по одним и тем же дорожкам, останавливалась перед клумбами, перед абрикосовыми деревьями, перед гипсовым священником, – все это ей было так знакомо, но она смотрела на все с изумлением. Каким далеким уже казался ей бал! Кто же это разделил таким огромным пространством позавчерашнее утро и нынешний вечер? Поездка в Вобьесар расколола ее жизнь – так гроза в одну ночь пробивает иногда в скале глубокую расселину. И все же Эмма смирилась; она благоговейно уложила в комод весь свой чудесный наряд, даже атласные туфельки, подошвы которых пожелтели от скользкого навощенного паркета. С ее сердцем случилось то же, что с туфельками; от соприкосновения с роскошью на нем осталось нечто неизгладимое.
Вспоминать о бале вошло у Эммы в привычку. Каждую среду она говорила себе, просыпаясь: «Неделю... две недели... три недели назад я была в замке!» Но мало-помалу все лица в ее воображении слились в одно, она забыла танцевальную музыку, она уже не так отчетливо представляла себе ливреи и комнаты; подробности выпали из памяти, но сожаление осталось.
9
Когда Шарль уходил, Эмма часто вынимала из шкафа засунутый ею в белье зеленый шелковый портсигар.
Она рассматривала его, раскрывала и даже обнюхивала подкладку, пропахшую вербеной и табаком. Кто его обронил?.. Виконт. Может быть, это подарок любовницы. Его вышивали в палисандровых пяльцах; эту маленькую вещицу приходилось укрывать от постороннего взора, над нею склонялись мягкие локоны задумчивой рукодельницы, посвящавшей этому занятию весь свой досуг. Клеточки канвы были овеяны любовью, каждый стежок закреплял надежду или воспоминание, сплетенные шелковые нити составляли продолжение все той же безмолвной страсти. Потом, однажды утром, виконт унес подарок. А пока портсигар лежал на широкой каминной полочке между вазой с цветами и часами в стиле Помпадур, о чем велись разговоры в той комнате?.. Она, Эмма, в Тосте. А он теперь там, в Париже! Какое волшебное слово! Эмме доставляло особое удовольствие повторять его вполголоса; оно отдавалось у нее в ушах, как звон соборного колокола, оно пламенело перед ее взором на всем, даже на ярлычках помадных банок.
По ночам ее будили рыбаки, с пением «Майорана»24, проезжавшие под окнами, и, прислушиваясь к стуку окованных железом колес, мгновенно стихавшему, как только тележки выезжали за село, где кончалась мостовая, она говорила себе:
«Завтра они будут в Париже!»
Мысленно она ехала следом за ними, поднималась и спускалась с пригорков, проезжала, деревни, при свете звезд мчалась по большой дороге. Но всякий раз на каком-то расстоянии от дома ее мечта исчезала в туманной дали.
Она купила план Парижа и, водя пальцем, гуляла по городу. Шла бульварами, останавливалась на каждом перекрестке, перед белыми прямоугольниками, изображавшими дома. В конце концов глаза у нее уставали, она опускала веки и видела, как в вечернем мраке раскачиваются на ветру газовые рожки, как с грохотом откидываются перед колоннадами театров подножки карет.
Она выписала дамский журнал Свадебные подарки и Сильф салонов. Читала она там все подряд: заметки о премьерах, о скачках, о вечерах, ее одинаково интересовали и дебют певицы, и открытие магазина. Она следила за модами, знала адреса лучших портних, знала, по каким дням ездят в Булонский лес и по каким – в Оперу. У Эжена Сю она изучала описания обстановки, у Бальзака и Жорж Санд искала воображаемого утоления своих страстей. Она и за стол не садилась без книги; пока Шарль ел и разговаривал с ней, она переворачивала страницу за страницей. Читая, она все время думала о виконте. Она устанавливала черты сходства между ним и вымышленными персонажами. Однако нимб вокруг него постепенно увеличивался, – удаляясь от его головы, он расходился все шире и озарял уже иные мечты.
Теперь в глазах Эммы багровым заревом полыхал необозримый, словно океан, Париж. Слитная жизнь, бурлившая в его сутолоке, все же делилась на составные части, распадалась на ряд отдельных картин. Из них Эмма различала только две или три, и они заслоняли все остальные, являлись для нее изображением человечества в целом. В зеркальных залах между круглыми столами, покрытыми бархатом с золотой бахромой, по лощеному паркету двигались дипломаты. То был мир длинных мантий, великих тайн, душевных мук, скрывающихся за улыбкой. Дальше шло общество герцогинь; там лица у всех были бледны, вставать полагалось там не раньше четырех часов дня, женщины – ну просто ангелочки! – носили юбки, отделанные английскими кружевами, мужчины – непризнанные таланты с наружностью вертопрахов – загоняли лошадей на прогулках, летний сезон проводили в Бадене, а к сорока годам женились на богатых наследницах. В отдельных кабинетах ночных ресторанов хохотало разношерстное сборище литераторов и актрис. Литераторы были по-царски щедры, полны высоких дум и бредовых видений. Они возвышались над всеми, витали между небом и землею, в грозовых облаках; было в них что-то не от мира сего. Все прочее расплывалось, не имело определенного места, как бы не существовало вовсе. Чем ближе приходилось Эмме сталкиваться с бытом, тем решительнее отвращалась от него ее мысль. Все, что ее окружало, – деревенская скука, тупость мещан, убожество жизни, – казалось ей исключением, чистой случайностью, себя она считала ее жертвой, а за пределами этой случайности ей грезился необъятный край любви и счастья. Чувственное наслаждение роскошью отождествлялось в ее разгоряченном воображении с духовными радостями, изящество манер – с тонкостью переживаний. Быть может, любовь, подобно индийской флоре, тоже нуждается в разрыхленной почве, в особой температуре? Вот почему вздохи при луне, долгие объятия, слезы, капающие на руки в миг расставания, порывы страсти и тихая нежность – все это было для нее неотделимо от балконов больших замков, где досуг длится вечно, от будуаров с шелковыми занавесками и плотными коврами, от жардиньерок с цветами, от кроватей на возвышениях, от игры драгоценных камней и от ливрей со шнурами.
Каждое утро по коридору топал ногами в грубых башмаках почтовый кучер, приходивший к Бовари чистить кобылу; на нем была рваная блуза, башмаки свои он надевал на босу ногу. Вот кто заменял грума в рейтузах! Сделав свое дело, он уходил и до следующего утра уже не показывался; Шарль, вернувшись от больных, сам отводил лошадь в стойло и, расседлав, надевал на нее оброть, а тем временем служанка приносила охапку соломы и как попало валила ее в кормушку.
На место Настази, которая, обливаясь слезами, уехала наконец из Тоста, Эмма взяла четырнадцатилетнюю девочку-сиротку с кротким выражением лица. Она запретила ей носить чепец, приучила обращаться к хозяевам на «вы», подавать стакан воды на тарелочке, без стука не входить, гладить и крахмалить белье, приучила одевать себя, – словом, хотела сделать из нее настоящую горничную. Новая служанка, боясь, как бы ее не прогнали, всему подчинялась безропотно, но так как барыня обыкновенно оставляла ключ в буфете, то Фелисите каждый вечер таскала оттуда понемножку сахар и, помолившись богу, съедала его тайком в постели.
В сумерки она иногда выходила за ворота и переговаривалась через улицу с кучерами. Барыня сидела у себя наверху.
Эмма носила открытый капот; между шалевыми отворотами корсажа выглядывала гофрированная кофточка на трех золотых пуговках. Подпоясывалась она шнуром с большими кистями, ее туфельки гранатового цвета были украшены пышными бантами, которые закрывали весь подъем. Она купила себе бювар, почтовой бумаги, конвертов, ручку, но писать было некому. Она вытирала пыль с этажерки, смотрелась в зеркало, брала книгу, затем погружалась в раздумье, и книга падала к ней на колени. Ее тянуло путешествовать, тянуло обратно в монастырь. Ей хотелось умереть и в то же время хотелось жить в Париже.
А Шарль и в метель и в дождь разъезжал верхом по проселкам. Он подкреплял свои силы яичницей, которой его угощали на фермах, прикасался к влажным от пота простыням, делал кровопускания, и теплая кровь брызгала ему в лицо, выслушивал хрипы, рассматривал содержимое ночной посуды, задирал сорочки на груди у больных. Зато каждый вечер его ждали пылающий камин, накрытый стол, мягкая мебель и элегантно одетая обворожительная жена, от которой всегда веяло свежестью, так что трудно было понять, душилась она чем-нибудь или это запах ее кожи, которым пропиталось белье.
Она приводила его в восторг своей изобретательностью: то как-то по-другому сделает бумажные розетки для подсвечников, то переменит на своем платье волан, то придумает какое-нибудь особенное название для самого обыкновенного блюда, которое испортила кухарка, и Шарль пальчики себе оближет. Как только она увидела в Руане, что дамы носят на часах связки брелоков, она купила брелоки и себе. Ей пришло в голову поставить на камин сперва две большие вазы синего стекла, потом – слоновой кости коробочку для шитья с позолоченным наперстком. Шарль во всех этих тонкостях не разбирался, но от этого они ему еще больше нравились. Они усиливали его жизнерадостность и прибавляли уюта его домашнему очагу.
Чувствовал он себя отлично, выглядел превосходно, его репутация установилась прочно. Крестьяне любили его за то, что он был не гордый. Он ласкал детей, в питейные заведения не заглядывал, нравственность его была безупречна. Особенно хорошо вылечивал он катары и бронхиты. Дело в том, что, пуще всего боясь уморить больного, он прописывал преимущественно успокоительные средства да еще в иных случаях рвотное, ножные ванны, пиявки. В то же время он не испытывал страха и перед хирургией: кровь отворял, не жалея, точно это были не люди, а лошади, зубы рвал «железной рукой».
«Чтобы не отстать», он выписал, ознакомившись предварительно с проспектом, новый журнал Вестник медицины. После обеда он почитывал его, но духота в комнате и пищеварение так на него действовали, что через пять минут, уронив голову на руки и свесив гриву на подставку от лампы, он уже засыпал. Эмма смотрела на него и пожимала плечами. Почему ей не встретился хотя бы один из тех молчаливых тружеников, которые просиживают ночи над книгами и к шестидесяти годам, когда приходит пора ревматизма, получают крестик в петлицу плохо сшитого черного фрака? Ей хотелось, чтобы имя Бовари приобрело известность, чтобы его можно было видеть на витринах книжных лавок, чтобы оно мелькало в печати, чтобы его знала вся Франция. Но Шарль самолюбием не отличался! Врач из Ивето, с которым он встретился на консилиуме, несколько пренебрежительно с ним обошелся у постели больного, в присутствии родственников. Вечером Шарль рассказал об этом случае Эмме, и та пришла в полное негодование. Супруг был растроган. Со слезами на глазах он поцеловал жену в лоб. А она сгорала со стыда, ей хотелось побить его; чтобы успокоиться, она выбежала в коридор, распахнула окно и стала дышать свежим воздухом.
– Какое ничтожество! Какое ничтожество! – кусая губы, шептала она.
Шарль раздражал ее теперь на каждом шагу. С возрастом у него появились некрасивые манеры: за десертом он резал ножом пробки от пустых бутылок, после еды прищелкивал языком, чавкал, когда ел суп; он начинал толстеть, и при взгляде на него казалось, что из-за полноты щек и без того маленькие его глаза оттягиваются к самым вискам.
Иногда Эмма заправляла ему за жилет красную каемку его фуфайки, поправляла галстук или выбрасывала поношенные перчатки, заметив, что он собирается их надеть. Но он ошибался, воображая, будто все это делается для него, – все это она делала для себя, из эгоизма, в сердцах. Иногда она даже пересказывала ему прочитанное: какой-нибудь отрывок из романа, из новой пьесы, светскую новость, о которой сообщалось в газетном фельетоне: какой ни на есть, а все-таки это был человек, и притом человек, внимательно ее слушавший, всегда с ней соглашавшийся. А ведь она открывала душу и своей собаке! Она рада была бы излить ее маятнику, дровам в камине.
Однако она все ждала какого-то события. Подобно морякам, потерпевшим крушение, она полным отчаяния взором окидывала свою одинокую жизнь и все смотрела, не мелькнет ли белый парус на мглистом горизонте. Она не отдавала себе отчета, какой это будет случай, каким ветром пригонит его к ней, к какому берегу потом ее прибьет, подойдет ли к ней шлюпка или же трехпалубный корабль, и подойдет ли он с горестями или по самые люки будет нагружен утехами. Но, просыпаясь по утрам, она надеялась, что это произойдет именно сегодня, прислушивалась к каждому звуку, вскакивала и, к изумлению своему, убеждалась, что все по-старому, а когда солнце садилось, она всегда грустила и желала, чтобы поскорее приходило завтра.
Потом опять наступила весна. Как только началась жара и зацвели грушевые деревья, у Эммы появились приступы удушья.
С первых чисел июля Эмма стала считать по пальцам, сколько недель остается до октября, – она думала, что маркиз д'Андервилье опять устроит бал в Вобьесаре. Но в сентябре не последовало ни письма, ни визита.
Когда горечь разочарования прошла, сердце ее вновь опустело, и опять потянулись дни, похожие один на другой.
Значит, так они и будут идти чередою, эти однообразные, неисчислимые, ничего с собой не несущие дни? Другие тоже скучно живут, но все-таки у них есть хоть какая-нибудь надежда на перемену. Иной раз какое-нибудь неожиданное происшествие влечет за собой бесконечные перипетии, и декорация меняется. Но с нею ничего не может случиться – так, видно, судил ей бог! Будущее представлялось ей темным коридором, упирающимся в наглухо запертую дверь.
Музыку она забросила. Зачем играть? Кто станет ее слушать? Коль скоро ей уже не сидеть в бархатном платье с короткими рукавами за эраровским роялем, ее легким пальцам уже не бегать по клавишам, коль скоро ей уже никогда не почувствовать, как ее овевает ветерок восторженного шепота сидящих в концертной зале, то не к чему тогда и стараться, разучивать. Рисунки и вышивки лежали у нее в шкафу. К чему все это? К чему? Шитье только раздражало Эмму.
– Книги я прочитала все до одной, – говорила она.
И, чтобы чем-нибудь себя занять, накаляла докрасна каминные щипцы или смотрела в окно на дождь.
Как тосковала она по воскресеньям, когда звонили к вечерне! С тупой сосредоточенностью прислушивалась она к ударам надтреснутого колокола. По крыше, выгибая спину под негреющими лучами солнца, медленно ступала кошка. На дороге ветер клубил пыль. Порой где-то выла собака. А колокол все гудел, и его заунывный и мерный звон замирал вдали.
Потом служба кончалась. Женщины в начищенных башмаках, крестьяне в новых рубашках, дети без шапок, на одной ножке прыгавшие впереди, – все возвращались из церкви домой. А у ворот постоялого двора человек пять-шесть, всегда одни и те же, допоздна играли в «пробку».
Зима в том году была холодная. В комнатах иногда до самого вечера стоял белесоватый свет, проходивший сквозь замерзшие ночью окна, как сквозь матовое стекло. В четыре часа уже надо было зажигать лампу.
В хорошую погоду Эмма выходила в сад. На капусте серебряным кружевом сверкал иней, длинными белыми нитями провисал между кочанами. Птиц было не слыхать, все словно уснуло, абрикосовые деревья прикрывала солома, виноградник громадною больною змеей извивался вдоль стены, на которой вблизи можно было разглядеть ползающих на своих бесчисленных ножках мокриц. У священника в треугольной шляпе, читавшего молитвенник под пихтами возле изгороди, отвалилась правая нога, потрескался гипс от мороза, лицо покрыл белый лишай.
Потом Эмма шла к себе в комнату, запирала дверь, принималась мешать угли в камине и, изнемогая от жары, чувствовала, как на нее всей тяжестью наваливается тоска. Ей хотелось пойти поболтать со служанкой, но удерживало чувство неловкости.
Каждый день в один и тот же час открывал ставни на своих окнах учитель в черной шелковой шапочке; с саблею на боку шествовал сельский стражник. Утром и вечером через улицу проходили почтовые лошади – их гнали по три в ряд к пруду на водопой. Время от времени на двери кабачка звенел колокольчик, в ветреные дни дребезжали державшиеся на железных прутьях медные тазики, которые заменяли парикмахеру вывеску. Витрина его состояла из старой модной картинки, прилепленной к оконному стеклу, и восковой женской головки с желтыми волосами. Парикмахер тоже сетовал на вынужденное безделье, на свою загубленную жизнь и, мечтая о том, как он откроет заведение в большом городе, ну, скажем, в Руане, на набережной или недалеко от театра, целыми днями в ожидании клиентов мрачно расхаживал от мэрии до церкви и обратно. Когда бы г-жа Бовари ни подняла взор, парикмахер в феске набекрень, в куртке на ластике всегда был на своем сторожевом посту.
Иногда после полудня в окне гостиной показывалось загорелое мужское лицо в черных бакенбардах и медленно расплывалось в широкой, мягкой белозубой улыбке. Вслед за тем слышались звуки вальса, и под шарманку в крошечной зальце, между креслами, диванами и консолями, кружились, кружились танцоры ростом с пальчик – женщины в розовых тюрбанах, тирольцы в курточках, обезьянки в черных фраках, кавалеры в коротких брючках, и все это отражалось в осколках зеркала, приклеенных по углам полосками золотой бумаги. Мужчина вертел ручку, а сам все посматривал то направо, то налево, то в окна. Время от времени, сплюнув на тумбу длинную вожжу коричневой слюны, он приподнимал коленом шарманку – ее грубый ремень резал ему плечо, – и из-под розовой тафтяной занавески, прикрепленной к узорчатой медной планке, с гудением вырывались то грустные, тягучие, то веселые, плясовые мотивы. Те же самые мелодии где-то там, далеко, играли в театрах, пели в салонах, под них танцевали на вечерах, в освещенных люстрами залах, и теперь до Эммы доходили отголоски жизни высшего общества. В голове у нее без конца вертелась сарабанда, мысль ее, точно баядерка на цветах ковра, подпрыгивала вместе со звуками музыки, перебегала от мечты к мечте, от печали к печали. Собрав в фуражку мелочь, мужчина накрывал шарманку старым чехлом из синего холста, взваливал на спину и тяжелым шагом шел дальше. Эмма смотрела ему вслед.
Но совсем невмочь становилось ей за обедом, в помещавшейся внизу маленькой столовой с вечно дымящей печкой, скрипучей дверью, со стенами в потеках и сырым полом. Эмме тогда казалось, что ей подают на тарелке всю горечь жизни, и когда от вареной говядины шел пар, внутри у нее тоже как бы клубами поднималось отвращение. Шарль ел медленно; Эмма грызла орешки или, облокотившись на стол, от скуки царапала ножом клеенку.
Хозяйство она теперь запустила, и г-жа Бовари-мать, приехав в Тост Великим постом, очень удивилась такой перемене. И точно: прежде Эмма тщательно следила за собой, а теперь по целым дням ходила неодетая, носила серые бумажные чулки, сидела при свечке. Она все твердила, что, раз они небогаты, значит надо экономить, и прибавляла, что она очень довольна, очень счастлива, что ей отлично живется в Тосте; все эти новые речи зажимали свекрови рот. Да и потом она, видимо, была отнюдь не расположена следовать ее советам; так, однажды, когда г-жа Бовари-мать позволила себе заметить, что господа должны требовать от слуг исполнения всех церковных обрядов, она ответила ей таким злобным взглядом и такой холодной улыбкой, что почтенная дама сразу прикусила язык.
Эмма сделалась привередлива, капризна. Она заказывала для себя отдельные блюда и не притрагивалась к ним; сегодня пила только одно молоко, а завтра без конца пила чай. То запиралась в четырех стенах, то вдруг ей становилось душно, она отворяла окна, надевала легкие платья. То нещадно придиралась к служанке, то делала ей подарки, посылала в гости к соседям; точно так же она иногда высыпала нищим все серебро из своего кошелька, хотя особой отзывчивостью и сострадательностью не отличалась, как, впрочем, и большинство людей, выросших в деревне, ибо загрубелость отцовских рук до некоторой степени передается их душам.
В конце февраля папаша Руо в память своего выздоровления привез зятю отменную индейку и прогостил три дня в Тосте. Шарль разъезжал по больным, и с отцом сидела Эмма. Старик курил в комнате, плевал в камин, говорил о посевах, о телятах, коровах, о птице, о муниципальном совете, и когда он уехал, Эмма затворила за ним дверь с таким облегчением, что даже сама была удивлена. Впрочем, она уже не скрывала своего презрения ни к кому и ни к чему; порой она даже высказывала смелые мысли – порицала то, что всеми одобрялось, одобряла то, что считалось безнравственным, порочным. Муж только хлопал глазами от изумления.