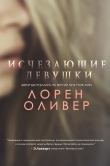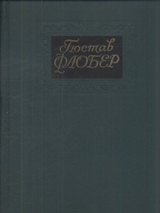
Текст книги "Собрание сочинений в 4-х томах. Том 2"
Автор книги: Гюстав Флобер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 22 страниц)
Греки, подтянутые железными поясами, напрягали слух, стараясь уловить слова оратора, а горцы, покрытые мехом, как медведи, недоверчиво смотрели на Ганнона или зевали, опираясь на тяжелые дубины с медными гвоздями. Галлы не обращали внимания на то, что говорилось, и, насмехаясь, с хохотом встряхивали пучком высоко зачесанных волос; жители пустыни слушали неподвижно, закутавшись в серые шерстяные одежды. Сзади прибывали новые толпы; солдаты из стражи, которых теснила толпа, шатались, сидя на лошадях; негры держали в вытянутых руках зажженные сосновые ветви, а толстый карфагенянин продолжал свою речь, стоя на поросшем травою пригорке.
Варвары, однако, стали терять терпение; поднялся ропот, все заговорили с Ганноном. Он жестикулировал своей лопаточкой; те, которые хотели заставить молчать других, сами кричали еще громче, и от этого общий гул только усиливался.
Вдруг к Ганнону подскочил невзрачный с виду человек и, выхватив рог у одного из глашатаев, затрубил; этим Спендий (ибо это был он) возвестил, что собирается сказать нечто важное. На его заявление, быстро произнесенное на пяти разных языках – греческом, латинском, галльском, ливийском и балеарском, – военачальники, посмеиваясь и изумляясь, ответили:
– Говори! Говори!
С минуту Спендий колебался, он весь дрожал; наконец, обращаясь к ливийцам, которых было больше всего в толпе, он сказал:
– Вы все слышали страшные угрозы этого человека?
Ганнон не возмутился – значит, он не понимал по-ливийски. Продолжая свой опыт, Спендий повторил ту же фразу на других наречиях варваров.
Слушатели с удивлением глядели друг на друга; потом все, точно по молчаливому сговору и, может быть, думая, что поняли, в чем дело, опустили головы в знак согласия.
Тогда Спендий заговорил возбужденным голосом:
– Он прежде всего сказал, что все боги других народов – призраки по сравнению с богами Карфагена! Он назвал вас трусами, ворами, лгунами, псами и собачьими сынами! Если бы не вы. Республике (так он сказал) не пришлось бы платить дань римлянам: ваше нашествие лишило их ароматов и благовоний, рабов и сильфия, ибо вы вошли в соглашение с кочевниками на киренской границе! Но виновных покарают! Он прочел список наказаний, которым их подвергнут: их заставят мостить улицы, снаряжать корабли, украшать сисситские дома, а других пошлют рыть землю на рудниках в Кантабрии.
Спендий повторил то же самое галлам, грекам, кампанийцам, балеарам. Узнав несколько имен, донесшихся до их слуха, наемники были убеждены, что он точно передает речь суффета. Несколько человек крикнули ему: «Ты лжешь!», – но их голоса потерялись в общем гуле. Спендий прибавил:
– Разве вы не заметили, что он оставил у входа в лагерь часть конницы? По его знаку они примчатся, чтобы всех вас умертвить.
Варвары повернулись в сторону входа, и, когда толпа расступилась, в центре очутился человек, двигавшийся медлительно, точно призрак, сгорбленный, худой, совершенно голый, покрытый до пояса длинными взъерошенными волосами с торчащими в них сухими листьями и шипами, весь в пыли. Бедра и колени его были обмотаны соломой, смешанной с глиной, и холщовым тряпьем; сморщенная землистая кожа свисала с костлявого тела, как лохмотья с сухих сучьев; руки дрожали непрерывной дрожью, и он шел, опираясь на палку из оливкового дерева.
Он приблизился к неграм, державшим факелы. Тупая, бессмысленная усмешка обнажила его бледные десна. Он рассматривал широко раскрытыми, испуганными глазами толпу варваров вокруг себя.
Вдруг он бросился назад, прячась за их спины.
– Вот они, вот они! – бормотал он, указывая на охрану суффета, неподвижно застывшую в своих сверкающих латах.
Лошади вздымались на дыбы, ослепленные факелами, с треском пылавшими во мраке. Человек, казавшийся призраком, бился и вопил:
– Они их убили!
При этих словах, которые он выкрикивал на балеарском наречии, прибежали балеары и узнали его; не отвечая им, он повторял:
– Да, убили, всех убили! Раздавили, как виноград! Таких молодых, таких красавцев! Метателей из пращи! Моих товарищей и ваших!
Ему дали вина, и он заплакал; потом он стал без устали говорить.
Спендий едва сдерживал свою радость, объясняя грекам и ливийцам, о каких ужасах рассказывал Зарксас. Он боялся верить его словам, до того все, что он говорил, было кстати. Балеары бледнели, слушая о том, как погибли их товарищи.
Речь шла об отряде в триста пращников, прибывших накануне и слишком поздно вставших утром. Когда они пришли на площадь к храму Камона, варвары уже ушли, и они очутились без всяких средств защиты, так как их глиняные ядра были навьючены на верблюдов вместе с остальной поклажей. Им дали вступить в Сатебскую улицу и дойти до дубовых ворот, обшитых изнутри медью; тогда все население общим напором ринулось на них.
Солдаты действительно вспомнили, что до них донесся страшный крик; Спендий, бежавший во главе колонн, ничего не слышал.
Потом трупы положили на руки богов Патэков, которые стояли вдоль храма Камона. На убитых взвели все преступления наемников: обжорство, воровство, безбожие, глумление, а также убийство рыб в саду Саламбо. Тела их позорно изувечили; жрецы жгли им волосы, чтобы мучилась их душа; затем развесили по кускам в мясных; кое-кто даже вонзал в них зубы, а вечером, чтобы покончить с ними, на перекрестках зажгли костры.
Это и были те огни, что светились издали на озере. Но так как от костров загорелось несколько домов, то остальные трупы, так же как и умирающих, выбросили за стены. Зарксас прятался до следующего дня в камышах на берегу озера; потом он бродил по окрестностям, отыскивая войско по следам в пыли. Утром он скрывался в пещерах, а вечером снова отправлялся в путь. Из его открытых ран струилась кровь, он шел голодный, больной, питаясь кореньями и падалью. Наконец, однажды он увидел на горизонте копья и пошел следом за ними; ум его помутился от ужаса и страданий.
Возмущение солдат, сдерживаемое, пока он говорил, разразилось, как буря; они хотели тотчас же уничтожить охрану вместе с суффетом. Некоторые, однако, воспротивились, говоря, что нужно выслушать суффета и, по крайней мере, узнать, заплатят ли им. Тогда все стали кричать:
– Наше жалованье!
Ганнон ответил, что привез деньги.
Все бросились к аванпостам и при участии варваров поклажу суффета привезли в лагерь; не дожидаясь рабов, они сами развязали корзины; там оказались одежды из фиолетовых тканей, губки, лопаточки для почесывания, щетки, благовония, палочки из сурьмы, чтобы подводить глаза; все это принадлежало конной охране, людям богатым и изнеженным. Среди клади оказался также большой бронзовый чан, навьюченный на верблюда: он принадлежал суффету, который брал в нем ванны во время пути. Суффет принимал всякие предосторожности, заботясь о своем здоровье; он вез в клетках даже ласок из Гекатомпиля, которых сжигали живыми для изготовления лекарственного питья. А так как болезнь Ганнона вызывала большой аппетит, то он взял с собою много съестных припасов и вина, рассолы, мясо и рыбу в меду, а также горшочки из Коммагена, наполненные топленым гусиным жиром, покрытым снегом и рубленой соломой. Таких горшочков припасено было очень много, их находили в каждой корзине, которую развязывали, и это вызывало каждый раз взрыв смеха.
Что же касается жалованья наемникам, то оно наполняло не более двух плетеных корзин; в одной из них оказались даже кожаные кружочки, которыми Республика пользовалась, чтобы тратить поменьше звонкой монеты; и когда варвары очень этому удивились, Ганнон объяснил, что ввиду трудности счетов старейшины не успели еще рассмотреть их и пока посылают вот это.
Тогда наемники стали бить и опрокидывать все, что попадалось: мулов, слуг, носилки, провизию, поклажу. Они брали пригоршнями деньги из мешков и побивали ими Ганнона. Он с трудом сел на осла и, уцепившись за его шерсть, пустился в бегство, рыдая, вопя, изнемогая от тряски и призывая на войско проклятие всех богов. Широкое ожерелье из драгоценных камней прыгало у него на груди, подскакивая до ушей. Он придерживал зубами длинный плащ, который волочился за ним, а варвары кричали ему издали:
– Убирайся, трус! Боров! Клоака Молоха! Улепетывай со своим золотом, своей заразой! Скорей! Скорей!..
Охрана его скакала за ним в полном беспорядке.
Но бешенство варваров не утихало. Они вспомнили, что несколько человек из войска, ушедшие в Карфаген, не вернулись: их, наверное, убили. Несправедливость карфагенян приводила их в неистовство, и они стали вырывать шесты палаток, свертывать плащи, седлать лошадей; каждый брал свой шлем и копье, и в одно мгновение все было готово к походу. У кого не нашлось оружия, те бежали в лес, чтобы нарезать себе палок.
Занимался день; население Сикки, проснувшись, взволнованно забегало по улицам. «Они идут на Карфаген!» – говорили кругом, и этот слух вскоре распространился по всей стране.
На каждой дорожке, из каждого рва появлялись люди. Пастухи бегом спускались с гор.
Когда варвары ушли, Спендий объехал равнину, сидя верхом на пуническом жеребце; рядом с ним раб вел третью лошадь.
Из всех палаток осталась только одна. Спендий вошел в нее.
– Вставай, господин! Мы выступаем!
– Куда? – спросил Мато.
– В Карфаген! – крикнул Спендий.
Мато вскочил на лошадь, которую раб держал наготове у входа в палатку.
3. Саламбо
Луна поднялась вровень с морем, и в городе, еще покрытом мраком, заблестели светлые точки и белые пятна: дышло колесницы во дворе, полотняная ветошь, развешенная на веревке, выступ стены, золотое ожерелье на груди идола. Стеклянные шары на крышах храмов сверкали местами, как огромные алмазы. Но смутные очертания развалин, насыпи черной земли и сады казались темными глыбами во мраке, а в нижней части Малки сети рыбаков тянулись из дома в дом, как гигантские летучие мыши, распростершие свои крылья. Уже не слышно было скрипа гидравлических колес, поднимавших воду в верхние этажи дворцов; верблюды спокойно отдыхали на террасах, лежа на животе, как страусы. Привратники спали на улицах у порога домов. Тень колоссов удлинялась на пустынных площадях; вдали из бронзовых плит вырывался еще иногда дым пылающей жертвы, и тяжелый ветер с моря приносил вместе с ароматами запах морских трав и испарения стен, раскаленных солнцем. Вокруг Карфагена сверкали недвижные воды, ибо луна одновременно проливала свой блеск и на залив, окруженный горами, и на Тунисское озеро, где среди песчаных мелей виднелись длинные ряды розовых фламинго, а дальше, ниже катакомб, широкая соленая лагуна сверкала, как серебро. Свод синего неба сливался на горизонте с пылью равнин по одну сторону, с морскими туманами – по другую, и на вершине Акрополя пирамидальные кипарисы, окружавшие храм Эшмуна, покачивались с тихим рокотом, подобно медленному прибою волн вдоль мола у подножья насыпей.
Саламбо поднялась на террасу своего дворца, ее поддерживала рабыня, которая несла на железном подносе зажженные угли.
Посередине террасы стояло небольшое ложе из слоновой кости, покрытое рысьими шкурами, с подушками из перьев попугая, вещей птицы, посвященной богам; в четырех углах расставлены были высокие курильницы, наполненные нардом, ладаном, киннамоном и миррой. Рабыня зажгла благовония. Пол был посыпан голубым порошком и усеян золотыми звездами наподобие неба. Саламбо обратила взор к Полярной звезде; она медленно сделала поклоны на четыре стороны и опустилась на колени. Потом, прижав локти к бокам, отведя руки и раскрыв ладони, запрокинула голову под лучами луны и возвысила голос:
– О Раббет!.. Ваалет!.. Танит!..
Голос ее звучал жалобно и протяжно, точно призыв.
– Анаитис! Астарта! Деркето! Асторет! Миллитта! Атара! Элисса! Тирата!.. Скрытыми символами, звонкими систрами, бороздами земли, вечным молчанием и вечным плодородием, властительница темного моря и голубых берегов, царица всей влаги мира, приветствую тебя!
Она два-три раза качнулась всем телом, потом, вытянув руки, распростерлась лицом в пыли.
Рабыня быстро подняла ее, ибо по обряду нужно было, чтобы кто-нибудь поднял распростертого в молитве: это значило, что боги вняли ее мольбе; и кормилица Саламбо всегда неуклонно исполняла этот благочестивый долг.
Торговцы из Гетулии Даритийской привезли ее еще ребенком в Карфаген; отпущенная на свободу, она не пожелала оставить своих господ, что видно было по широкому отверстию в ее проколотом правом ухе. Пестрая полосатая юбка, обтягивавшая ее бока, спускалась до щиколоток, где звенели два оловянных кольца. Лицо ее, несколько плоское, было желтого цвета, как ее туника. Длинные серебряные иглы образовали ореол позади головы. В одну ноздрю продета была коралловая серьга. Опустив глаза, она стояла подле ложа, прямее гермы.
Саламбо подошла к краю террасы. Она окинула взором горизонт, потом устремила взгляд на спящий город, и вздох ее, поднимая грудь, всколыхнул длинную белую симарру, свободно облекавшую ее, без застежек и пояса. Сандалии с загнутыми носками исчезали под множеством изумрудов, распущенные волосы были подобраны пурпуровой сеткой.
Она подняла голову, созерцая луну, и, примешивая к словам обрывки гимнов, шептала:
– Как легко ты кружишься, поддерживаемая невесомым эфиром! Он разглаживается вокруг тебя, и это ты своим движением распределяешь ветры и плодоносные росы. По мере того как ты нарастаешь или убываешь, удлиняются или суживаются глаза у кошек и пятна пантер. Жены с воплем называют твое имя среди мук деторождения! Ты наполняешь раковины! Благодаря тебе бродит вино! Ты вызываешь гниение трупов! Ты создаешь жемчужины в глубине морей!..
И все зародыши, о богиня, исходят из тьмы твоих влажных глубин.
Когда ты появляешься, на земле разливается покой, чашечки цветов закрываются, волны утихают, усталые люди ложатся, обращая к тебе грудь, и мир со своими океанами и горами глядится, точно в зеркало, тебе в лицо. Ты – чистая, нежная, лучезарная, непорочная, помогающая, очищающая, безмятежная!..
Рог луны поднялся над горой Горячих источников в выемке между двумя вершинами по другую сторону залива. Под луной светилась небольшая звездочка, окруженная бледным сиянием. Саламбо продолжала:
– Но ты и страшна, владычица! Это ты создаешь чудовища, страшные призраки, обманчивые сны. Глаза твои пожирают камни зданий, и обезьяны болеют при каждом твоем обновлении.
Куда ты идешь? Зачем постоянно меняешь свой образ? То, изогнутая и тонкая, ты скользишь в пространстве, точно галера без снастей, то кажешься среди звезд пастухом, стерегущим стадо. Сияющая и круглая, ты катишься по вершинам гор, «точно колесо колесницы.
О Танит! Ведь ты меня любишь, я знаю! Я так неустанно гляжу на тебя! Но нет! Ты носишься по лазури, а я остаюсь на неподвижной земле...
Таанах, возьми небал и тихо сыграй что-нибудь на серебряной струне, ибо сердце мое печально!
Рабыня взяла в руки инструмент из черного дерева, вроде арфы, выше ее, треугольной формы.
Глухие и быстрые звуки чередовались, как жужжание пчел, и, нарастая, улетали в ночной мрак вместе с жалобной песнью волн и колыханием больших деревьев на верху Акрополя.
– Перестань! – воскликнула Саламбо.
– Что с тобой, госпожа? Каждое дуновение ветра, каждое облачко на небе – все тебя тревожит и волнует.
– Не знаю, – сказала Саламбо.
– Ты утомляешь себя слишком долгими молитвами!
– О Таанах, я хотела бы раствориться в молитве, как цветок в вине!
– Может быть, дым курений вреден тебе?
– Нет, – сказала Саламбо, – в благовониях обитает дух богов.
Рабыня заговорила об отце Саламбо. Думали, что он уехал в страну янтаря, за Мелькартовы столпы.
– Но если он не вернется, – сказала она, – тебе придется – такова его воля – избрать себе супруга среди сыновей старейшин, и печаль твоя пройдет в объятиях мужа.
– Почему? – спросила девушка.
Все мужчины, которых она видела до сих пор, вкушали ей ужас своим животным смехом и грубым телом.
– Иногда, Таанах, из глубины моего существа поднимаются горячие вихри, более тяжелые, чем дыхание вулкана. Меня зовут какие-то голоса. Огненный шар клубится в моей груди и подступает к горлу, он душит меня, и мне кажется, что я умираю. А потом что-то сладостное, пронизывающее меня от чела до пят, пробегает по всему моему телу... меня обволакивает какая-то ласка, и я изнемогаю, точно надо мной распростерся бог. О, как бы я хотела изойти в ночном тумане, в струях ручья, в древесном соке, покинуть свое тело, быть лишь дыханием, лучом скользить и подняться к тебе, о мать!
Она высоко воздела руки, вся выпрямившись, бледная и легкая, как луна, в своей белой одежде. Потом снова спустилась на ложе из слоновой кости, с трудом переводя дыхание. Таанах надела ей на шею янтарное ожерелье с дельфиновыми клыками, которое рассеивало страхи, и Саламбо сказала почти угасшим голосом:
– Пойди позови Шагабарима.
Отец Саламбо не желал, чтобы она вступила в коллегию жриц или даже знала, каково народное представление о Танит. Он берег дочь для какого-нибудь брачного союза, который мог быть полезен его политическим целям. Поэтому Саламбо вела во дворце одинокую жизнь; мать ее давно умерла.
Она выросла среди лишений, постов, постоянных очищений, окруженная изысканными торжественными предметами; тело ее было пропитано благовониями, душа полна молитв. Она никогда не касалась вина, не ела мяса, не дотрагивалась до нечистого животного, не переступала порог дома, где лежал мертвый.
Она не знала непристойных изображений, ибо каждый бог проявлялся в различных видах и одно и то же божественное начало славили в самых противоречивых богослужениях. Саламбо поклонялась богине в ее лунном образе, и луна оказывала воздействие на девственницу: когда она убывала, Саламбо слабела. Она томилась весь день и оживала только к вечеру. Во время одного лунного затмения она чуть не умерла.
Но ревнивая Раббет мстила за то, что девственность Саламбо не посвятили служению ей, и она мучила Саламбо искушениями тем более сильными, что они были смутные, сливались с верой и загорались от молитв.
Дочь Гамилькара была неустанно занята Танит. Она узнала про все ее приключения и скитания, знала все ее имена и повторяла их, не понимая, что каждое имеет особый смысл. Чтобы проникнуть в глубину учения богини, ей хотелось увидеть в самом тайнике храма старинную статую Танит и ее пышное покрывало, от которого зависели судьбы Карфагена. Представление о божестве не было отчетливо отделено от его изображения, и держать в руках или даже глядеть на изображение божества значило как бы овладевать частицей его могущества и до некоторой степени подчинять его себе.
Саламбо обернулась. Она узнала звон золотых колокольчиков, которыми был обшит нижний край одежды Шагабарима.
Он поднимался по лестнице; взойдя на террасу, он остановился и скрестил руки.
Глубоко сидевшие глаза его сверкали, как светильники во мраке гробницы; длинное худое тело терялось в льняной одежде, отягченной бубенчиками, которые чередовались у пят с изумрудными шариками. У; него было хрупкое тело, скошенный череп, острый подбородок. Кожа казалась холодной наощупь, и желтое лицо с глубокими морщинами точно все судорожно сжалось от напряженного желания, от вечной печали.
То был верховный жрец Танит, воспитатель Саламбо.
– Говори, – сказал он. – Чего ты желаешь?
– Я надеялась... Ты мне почти обещал...
Она запиналась от волнения, потом вдруг сказала твердым голосом:
– Почему ты меня презираешь? Что я забыла в исполнении обрядов? Ты мой учитель, и ты мне сказал, что никто не умеет так служить богине, как я. Но есть в этом служении нечто, чего ты не хочешь мне открыть. Это правда, отец?
Шагабарим вспомнил приказания Гамилькара и ответил:
– Нет, мне нечего больше открывать тебе!
– Какой-то Гений, – продолжала она, – преисполняет меня любовью к Танит. Я поднималась по ступеням Эшмуна, бога планет и духов, я спала под золотым масличным деревом Мелькарта, покровителя тирских колоний, мне открывались двери Ваал-Камона, бога света и плодородия, я приносила жертвы подземным Кабирам, богам лесов, ветров, рек и гор. Но все они слишком далеки, слишком высоки, слишком бесчувственны. Ты понимаешь меня? Танит же, я чувствую, причастна моей жизни, она наполняет мою душу, и я вздрагиваю от ее устремлений. Она точно срывается с места, чтобы высвободиться. Мне кажется, что я сейчас услышу ее голос, увижу ее лицо. Меня ослепляют молнии, и потом я снова погружаюсь во мрак.
Шагабарим молчал. Она устремила на него умоляющий взгляд.
Наконец, он знаком велел удалить рабыню, которая не принадлежала к ханаанскому племени. Таанах исчезла; и Шагабарим, подняв к небу руку, заговорил.
– До того как явились боги, – сказал он, – был только мрак, и в нем носилось дыхание, тяжелое и смутное, как сознание человека во сне. Потом мрак сплотился, создав Желание и Облако, и из Желания и Облака вышла первобытная Материя. То была грязная, черная ледяная глубокая вода. Она заключала в себе нечувствующих чудовищ, разрозненные части будущих форм, которые изображены на стенах святилищ.
Потом Материя сгустилась. Она сделалась яйцом. Яйцо разбилось. Одна половина образовала землю, другая – небесный свод. Появилось солнце, луна, ветры, тучи, под ударами грома проснулись разумные существа. Тогда в звездном пространстве распростерся Эшмун, Камон засверкал на солнце. Мелькарт толкнул его своими руками за Гадес, Кабиры ушли вниз под вулканы, и Раббет, точно кормилица, наклонилась над миром, изливая свой свет, как молоко, и расстилая ночь, как плащ.
– А потом? – спросила Саламбо.
Он рассказал ей о тайне рождения мира, чтобы развлечь ее ум более высокими представлениями, но вожделения девственницы загорелись от его последних слов, и Шагабарим, наполовину уступая ей, сказал:
– Она рождает в людях любовь и управляет ею.
– Любовь в людях! – повторила Саламбо мечтательным голосом.
– Она – душа Карфагена, – продолжал жрец, – и хотя она разлита повсюду, но живет здесь, под священным покрывалом.
– Скажи, отец, – воскликнула Саламбо, – я увижу ее? Ты поведешь меня к ней? Я долго колебалась. Я сгораю от желания увидеть облик Танит. Сжалься! Помоги мне! Идем к ней!
Он оттолкнул ее гневным и гордым движением.
– Никогда! Разве ты не знаешь, что при виде ее умирают? Ваалы-гермафродиты открываются только нам, мужам по уму, женщинам по слабости. Твое желание нечестиво. Удовлетворись знанием, которым ты владеешь!
Она упала на колени, заткнув уши пальцами в знак раскаяния, и долго рыдала, раздавленная словами жреца, преисполненная гневом против него, а также ужасом и чувством унижения. Шагабарим стоял перед нею бесчувственный. Он глядел на нее, распростертую у его ног, испытывая странную радость при мысли, что она страдает из-за богини, которую и он не мог объять всецело. Уже запели птицы, подул холодный ветер, на побледневшем небе носились тонкие облачка.
Вдруг он заметил на горизонте, за Тунисом, точно легкие полосы тумана, стлавшиеся по земле; потом в воздухе повисла большая завеса из серой пыли, и в вихрях тумана и пыли показались головы дромадеров, копья, щиты. Это войско варваров шло на Карфаген.
4. У стен Карфагена
В город примчались из окрестностей верхом на ослах или пешком обезумевшие от страха, бледные, запыхавшиеся люди. Они бежали от надвигавшегося войска. Оно в три дня вернулось из Сикки в Карфаген, чтобы все уничтожить.
Карфагеняне закрыли городские ворота. Варвары уже подступали, но остановились посередине перешейка, на берегу озера. Сначала они не обнаруживали своей враждебности. Некоторые приблизились с пальмовыми ветвями в руках. Их отогнали стрелами – до того был велик страх перед наемниками.
Утром и под вечер вдоль стен бродили иногда какие-то пришельцы. Особенно обращал на себя внимание маленький человек, старательно кутавшийся в плащ и скрывавший лицо под надвинутым забралом. Он часами пристально разглядывал акведук, очевидно, желая ввести карфагенян в заблуждение относительно своих истинных намерений. Его сопровождал другой человек, великан с непокрытой головой.
Но Карфаген был хорошо защищен во всю ширину перешейка – сначала рвом, затем валом, поросшим травой, наконец, стеной, высотою в двадцать локтей, из тесаных камней, в два этажа. В ней устроены были помещения для трехсот слонов и склады для их попон, пут и корма. Затем шли конюшни для четырех тысяч лошадей и для запасов овса, для упряжи, а также казармы для двадцати тысяч солдат с вооружением и военными снарядами. Над вторым этажом возвышались башни, снабженные бойницами; снаружи башни были защищены висевшими на крючьях бронзовыми щитами.
Эта первая линия стен служила непосредственным прикрытием для квартала Малки, где жили матросы и красильщики. Издали видны были шесты, на которых сушились пурпуровые ткани, и на последних террасах – глиняные печи для варки рассола.
Сзади расположился амфитеатром город с высокими домами кубической формы. Дома были выстроены из камня, досок, морских валунов, камыша, раковин, утоптанной земли. Рощи храмов казались озерами зелени в этой горе из разноцветных глыб. Город разделен был площадями на неравные участки. Бесчисленные узкие улички, скрещиваясь, разрезали гору сверху донизу. Виднелись ограды трех старых кварталов, примыкавшие теперь одна к другой; они возвышались местами в виде огромных подводных камней или тянулись длинными стенами, наполовину покрытые цветами, почерневшие, исполосованные нечистотами, и улицы проходили через зиявшие в них отверстия, как реки под мостами.
Холм Акрополя, в центре Бирсы, весь исчезал в хаосе общественных зданий. Там были храмы с витыми колоннами, с бронзовыми капителями и металлическими цепями, каменные конусы сухой кладки с лазурными полосами, медные купола, мраморные перекладины, вавилонские контрфорсы, обелиски, стоящие на своей верхушке, как опрокинутые факелы. Перистили лепились к фронтонам; среди колоннад извивались волюты, гранитные стены поддерживались кирпичными переборками; все это, наполовину прячась, нагромождалось одно на другое странным и непонятным образом. Чувствовалось чередование веков и как бы память о далеких отчизнах.
Позади Акрополя, среди полей с красной почвой, тянулась прямой линией от берега к катакомбам маппальская дорога, окаймленная могилами. Дальше шли просторные дома, окруженные садами, и третий квартал, Мегара, новый город, простиравшийся вплоть до скалистого берега, на котором высился гигантский маяк. Его зажигали каждую ночь.
Таким представился Карфаген солдатам, занявшим равнину.
Они узнавали издали рынки, перекрестки и спорили о местонахождении храмов. Храм Камона, против Сисситов, выделялся своими золотыми черепицами; на крыше храма Мелькарта, слева от холма Эшмуна, виднелись ветви кораллов. За ними стоял храм Танит, и среди пальм круглился его медный купол; черный храм Молоха высился у подножия водоемов со стороны маяка. На углу фронтонов, на верхушке стен, на углах площадей – всюду ютились божества с уродливыми головами гигантских размеров или приземистые с огромными животами, или чрезмерно плоские с раскрытой пастью, с распростертыми руками; они держали или вилы, или цепи, или копья; а в конце улиц сверкала синева моря, и улицы казались от этого еще более крутыми. С утра до вечера их наполняла суетливая толпа. У входа в бани кричали, звеня колокольчиками, мальчишки; в лавках, где продавались горячие напитки, стоял густой пар; воздух оглашался звоном наковален; на террасах пели белые петухи, посвященные Солнцу; в храмах раздавался рев закалываемых быков; рабы бегали с корзинами на голове, а в углублении портиков появлялись жрецы в темных плащах, босые, в остроконечных шапках.
Зрелище Карфагена раздражало варваров. Они восхищались им и в то же время ненавидели его; им одновременно хотелось и разрушить Карфаген, и жить в нем. Но что скрывалось в военном порту, защищенном тройной стеной? Дальше, за городом, в глубине Мегары, над Акрополем, возвышался дворец Гамилькара.
Глаза Мато ежеминутно устремлялись туда. Он взбирался на масличные деревья и нагибался, прикладывая руку к глазам. В садах никого не было, и красная дверь с черным крестом оставалась все время закрытой.
Более двадцати раз обошел Мато укрепления, выискивая брешь, через которую мог бы пройти. Однажды ночью он бросился в залив и в течение трех часов плыл без остановки. Приплыв к подножью Маппал, он хотел вскарабкаться на утес, но изранил до крови колени, сломал ногти, потом вновь кинулся в волны и вернулся.
Он приходил в бешенство от своего бессилия и чувствовал ревность к Карфагену, скрывающему Саламбо, как будто это был человек, владевший ею. Прежний упадок сил сменился безумной, неустанной жаждой деятельности. С разгоревшимся лицом, с гневным взглядом, что-то бормоча глухим голосом, он быстро шагал по полю или же, сидя на берегу, натирал песком свой большой меч. Он метал стрелы в пролетавших коршунов. Гнев свой он изливал в проклятиях.
– Дай волю своему гневу, пусть он умчится вдаль, как колесница, – сказал Спендий. – Кричи, проклинай, безумствуй и убивай. Горе можно утолить кровью, и так как ты не можешь насытить свою любовь, то насыть ненависть свою, она тебя поддержит!
Мато вновь принял начальство над своими солдатами и беспощадно мучил их маневрами. Его почитали за отвагу и в особенности за силу. К тому же он внушал какой-то мистический страх; думали, что он говорит по ночам с призраками. Другие начальники воодушевились его примером. Вскоре войско стало дисциплинированнее. Карфагеняне слышали в своих домах звуки букцин, которыми сопровождались военные упражнения. Наконец, варвары приблизились.
Чтобы раздавить их на перешейке, двум армиям нужно было оцепить их одновременно, одной – сзади, высадившись в глубине Утического залива, другой – у подножия горы Горячих источников. Но что можно было предпринять с одним Священным легионом, в котором числилось не более шести тысяч человек? Если бы варвары направились на восток, они соединились бы с кочевниками и отрезали киренскую дорогу и сообщение с пустыней. Если бы они отступили к западу, взбунтовались бы нумидийцы. Наконец, нуждаясь в съестных припасах, они рано или поздно опустошили бы окрестности, как саранча. Богатые дрожали за свои замки, виноградники, посевы.
Ганнон предложил принять невыполнимо жестокие меры: назначить большую денежную награду за каждую голову варвара или же поджечь лагерь наемников при помощи кораблей и машин. Его товарищ, Гискон, напротив, требовал, чтобы им уплатили, что следовало. Старейшины ненавидели Гискона за его популярность: они боялись, чтобы случай не навязал им властителя; страшась монархии, они старались ослабить все, что от нее оставалось или могло ее восстановить.