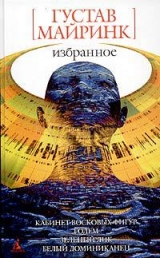
Текст книги "Голем"
Автор книги: Густав Майринк
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 15 страниц)
В милой деревушке Кртш, около Праги, идиллически настроенный Бабинский создал себе неустанным трудом маленькое, но уютное жилище. Домик, сиявший чистотой, и возле него садик с кустами герани.
Так как доходы не позволяли ему расшириться, он счел необходимым, для того, чтобы иметь возможность незаметно хоронить свои жертвы, отказаться от цветочного партера, как он его не любил, и заменить его простою, заросшею травою, подходящею могильной насыпью, которую можно было бы без труда удлинять, в зависимости от обстоятельств или от времени года.
На этом холме каждый вечер, после дневных трудов и забот, сиживал Бабинский в лучах заходящего солнца и насвистывал на флейте меланхолические песенки…
– Стоп! – хриплым голосом прервал Иосуа Прокоп, вытащил из кармана ключ, приставил его к губам, как флейту, и запел:
«Цимцерлим… цамбусля… дэ».
– Вы так хорошо знаете мелодию, разве вы там были? – удивленно спросил Фрисландер.
Прокоп злобно взглянул на него.
– Нет, Бабинский жил слишком давно. Но то, что он играл, я, как композитор, знаю отлично. Вы в этом ничего не понимаете: вы не музыкант… Цимцерлим… цамбусля… бусля… дэ.
Цвак с увлечением слушал, пока Прокоп не спрятал своего ключа, затем продолжал:
– Непрерывное увеличение холма возбудило у соседей подозрение, и одному полицейскому из предместья Жижково, который случайно видел издали, как Бабинский душил одну старую даму из высших кругов общества, принадлежит заслуга прекращения злостной деятельности этого чудовища.
Бабинский был арестован в своем убежище.
Суд, принимая во внимание как смягчающее вину обстоятельство его славу, приговорил его к смертной казни через повешение. Он вместе с тем поручил фирме бр. Лайнен доставить необходимые принадлежности для казни, насколько такие материалы соответствовали товарам фирмы. Эти вещи должны были быть вручены правительственному чиновнику за умеренную цену с выдачею квитанции.
Случилось, однако, так, что веревка оборвалась, и Бабинскому казнь была заменена пожизненным заключением.
Двадцать лет просидел убийца в стенах Св. Панкратия и за все это время не обмолвился ни одним словом упрека – еще и до сих пор в том заведении не нахвалятся его образцовым поведением. В торжественные дни рождения нашего повелителя ему разрешалось даже играть на флейте.
Прокоп снова полез за ключом, но Цвак остановил его.
По всеобщей амнистии Бабинский был освобожден от дальнейшего отбывания наказания и получил место швейцара в монастыре «Милосердных сестер».
Легкие садовые работы, которые ему приходилось исполнять, не слишком обременяли его, благодаря приобретенной ранее сноровке в обращении с лопатой. Таким образом, у него оставалось достаточно досуга для просвещения своего разума и сердца путем чтения осмотрительно выбираемых книг.
Последствия этого были в высшей степени отрадны.
Когда в субботу вечером настоятельница отпускала его в трактир развлечься, он каждый раз возвращался затем домой к наступлению ночи. Он говорил, что общий упадок нравственности печалит его, что громадное число всякого рода темных личностей делает улицы небезопасными, так что мирному обывателю разумнее всего возвращаться домой пораньше.
Среди выделывателей восковых фигур возник в это время скверный обычай продавать маленькие изображения, обвешанные красной материей и представлявшие разбойника Бабинского.
В каждой потерпевшей семье оказывалась такая статуэтка.
Статуэтки обычно стояли в витринах магазинов, и Бабинского ничто так не раздражало, как если ему случалось увидеть такую фигурку.
«В высшей степени недостойно и свидетельствует о грубости сердца постоянно напоминать человеку о грехах его юности, – говорил обычно в таких случаях Бабинский. – И можно только скорбеть о том, что власти не принимают никаких мер против такого открытого безобразия».
Даже на смертном одре он продолжал говорить в таком же смысле.
И не напрасно: вскоре после этого власти воспретили торговлю вызывавшими раздражение статуэтками Бабинского…
…Цвак хлебнул большой глоток грогу из своего стакана, и все трое дьявольски перемигнулись; потом он осторожно повернул голову к бесцветно серой кельнерше, и я заметил, как она отерла слезу.
– А вам больше нечего прибавить, кроме… понятно… того, чтo вы, из благодарности за испытанное вами наслаждение, заплатите по нашему счету, досточтимый коллега, резчик камей? – спросил меня Фрисландер после долгой глубокомысленной паузы.
Я рассказал им о своем блужданин в тумане. Когда я дошел до описания увиденного мною белого дома, все трое, живо заинтересовавшись, вынули трубки изо рта, а когда я кончил, Прокоп, ударив по столу, воскликнул: – Да ведь это просто!.. Все существующие легенды этот Пернат переживает собственной персоной! – Кстати, тогдашний Голем… вы знаете: дело выяснилось.
– Как выяснилось? – спросил я.
– Вы знаете помешанного еврейского нищего Гашиле? Нет? Так вот этот Гашиле оказался Големом.
– Нищий… Големом?
– Да, да, Гашиле был Големом. Сегодня днем это привидение в самом благодушном настроении гуляло на солнышке в своем знаменитом костюме ХVII века, по Сальпитергассе, и тут его поймал арканом один собачник.
– Что такое? Я не понимаю ни слова, – вскричал я.
– Я ведь говорю вам: это был Гашиле. Он, как говорят, недавно нашел этот костюм за какими-то воротами. Но вернемся к белому домику: это в высшей степени интересно. Существует старинная легенда о том, что там наверху, на улице Алхимиков, стоит дом, видный только в тумане, да и то только счастливцам. Он называется: «дом последнего фонаря». Тот, кто днем бывает там, видит только большой серый камень, за ним – крутой обрыв и глубокий олений ров, и вы должны считать счастьем, Пернат, что вы не сделали шага дальше: вы бы безусловно скатились туда и переломали себе все кости.
Под камнем, говорят, лежит огромный клад. Камень этот будто бы положен орденом «азиатских братьев» в качестве фундамента для дома. В этом доме, в конце времен, должен поселиться человек… лучше сказать Гермафродит… Создание из мужчины и женщины. У него в гербе будет изображение зайца… Между прочим: заяц был символом Озириса, и отсюда-то и происходит наш обычный пасхальный заяц.
До того времени, пока не настанет этот срок, значится в легенде, это место охраняется Мафусаилом, дабы сатана не совокупился с камнем и не родил от него сына: так называемого Армилоса. Вы еще об этом Армилосе не слышали… Известно даже, какой у него будет вид (т. е. об этом знают старые раввины), когда он появится на свет: у него будут золотые волосы, собранные сзади в косичку, два затылка, серповидные глаза и длинные до ступней руки.
– Этого уродца стоит нарисовать, – пробормотал Фрисландер и стал искать карандаш.
– Итак, Пернат, – закончил Прокоп, – когда вас постигнет счастье стать Гермафродитом и en passant найти скрытый склад, не забывайте, что я всегда был вашим лучшим другом!
Мне было не до шуток, и на душе у меня заныло.
Цвак заметил это по мне, хотя и не понял причины; он пришел мне на помощь.
– Во всяком случае, в высшей степени странно, почти страшно, что Пернату видение явилось именно в том месте, которое связано со старинной легендой. Это путы, из которых человек по-видимому не может освободиться, пока душа его имеет способность видеть предметы, недоступные осязанию. Ничего не поделаешь: сверхчувственное – все же самое прелестное в мире! Как вы думаете?
Фрисландер и Прокоп приняли серьезный вид, и никто из нас не счел нужным ответить.
– Как вы думаете, Эвлалия? – повторил Цвак свой вопрос, обернувшись назад.
Старая кельнерша почесалась вязальной иглой, вздохнула, покраснела и сказала:
– Ах, убирайтесь. Вы – проказник!
– Сегодня весь день мне было не по себе, – начал Фрисландер, как только улегся взрыв смеха, – ни одна черточка мне сегодня не удалась, я думал все время о Розине, как она танцевала тогда во фраке.
– А она снова нашлась? – спросил я.
– Еще как нашлась! Полиция нравов предложила ей длительный ангажемент. Может быть, она тогда у Лойзичек – приглянулась комиссару. Во всяком случае, она теперь лихорадочно работает и заметно увеличивает приток чужестранцев в еврейский квартал. Она сделалась чертовски ловким человеком за короткое время.
– Подумайте только, что женщина делает из мужчины, если он влюбится в нее, – просто удивительно, – заметил Цвак. – Чтоб достать денег и иметь возможность бывать у нее, бедный мальчик Яромир сразу стал художником. Он ходит по кабакам и вырезает силуэты посетителей, которые позволяют делать с себя портреты.
Прокоп, не расслышавший последних слов, чмокнул губами:
– Правда? Она стала такой красавицей, эта Розина! Вы еще не сорвали у нее поцелуя, Фрисландер?
Кельнерша вскочила и, возмущенная, вышла из комнаты.
– Этот стреляный воробей! Этой еще не хватало припадков добродетели! Фи! – досадливо пробормотал Прокоп.
– Ну, что же! Она ушла на непозволительном месте. А кстати и чулок был готов, – примирительно заметил Цвак.
Хозяин принес еще грогу, и беседа постепенно приняла очень фривольный характер. Она мутила мне кровь, и без того лихорадочно кипевшую.
Я противился таким впечатлениям, но чем больше я сосредоточивался и думал об Ангелине, тем навязчивее лезло все это мне в уши.
Я неожиданно встал и распрощался.
Туман становился прозрачнее, проникал в меня своим холодом, но все еще оставался настолько густым, что я не мог разобрать названий улиц и отошел несколько в сторону от моего пути.
Я попал на другую улицу и хотел уже повернуть, как услышал, что меня окликают.
– Господин Пернат! Господин Пернат!
Я оглянулся кругом, посмотрел вверх.
Никого!
Открытые ворота, над ними мелькнул маленький, красный фонарь, и светлая фигура, как показалось мне, почудилась мне в глубине.
И снова:
– Господин Пернат! Господин Пернат!
Шепотом.
С удивлением вошел я в ворота, – теплые женские руки охватили мою шею, а в полосе света, от медленно открывшейся двери, я узнал Розину, пламенно прижимавшуюся ко мне.
ХV. Хитрость
Серый тяжелый день.
До позднего утра я спал мертвым сном без сновидений.
Моя старая служанка отлучилась или, может быть, забыла затопить.
В печке лежал холодный пепел.
На мебели пыль.
Пол не выметен.
Я зябко прогуливался взад и вперед по комнате.
Отвратительный запах выдыхаемого спирта наполнял комнату. Пальто и костюм пропахли табаком.
Я открыл окно, но тотчас же захлопнул: холодный грязный воздух улицы был невыносим.
Воробьи, с промокшими крыльями, неподвижно торчали на крышах.
Куда ни глянешь – беспросветная тоска. Все во мне было разорвано, растоптано.
Каким потертым казалось мне сидение на кресле! Конский волос так и торчал из-под краев.
Надо будет послать за обойщиком… Или уж так все оставить… вести нищенскую жизнь, пока все не разлезется в лохмотья.
А там, что за безвкусица, эти нелепые обрывки материи на окнах!
Почему я не скрутил из них веревки и не повесился на ней?!
Тогда бы я, по крайней мере, не видел больше этой мерзости, и вся серая терзающая тоска исчезла бы – раз и навсегда.
Да! Это самое разумное! Положить конец всему.
Сегодня же.
Сейчас же, с утра. До обеда. Какая гадость! Что за отвратительная перспектива убить себя с полным желудком! Лежать в мокрой земле с животом, наполненным непереваренной, разлагающейся пищей!
Ах, если бы никогда не всходило больше солнце и не роняло бы в сердца своей жизнерадостной лжи!
Нет! Я не позволю больше себя дурачить, не хочу больше быть мячом в руках неуклюжей бессмысленной судьбы, то подбрасывающей меня вверх, то кидающей в лужу только для того, чтобы доказать непрочность всего земного – то, что я давно знаю, что знает каждый ребенок, знает каждая уличная собака.
Бедная, бедная Мириам! Если бы хоть ей помочь!
Значит, надо решиться, серьезно и бесповоротно решиться, прежде чем инстинкт жизни снова проснется во мне и станет рисовать новые призрачные образы.
К чему послужили все эти вести из мира Нетленного?
Ни к чему, решительно ни к чему.
Только к тому разве, чтобы я закружился в своем вихре и ощутил жизнь, как невыносимую муку.
Оставалось только одно.
Я мысленно подсчитал, сколько денег лежало у меня в банке.
Да, именно так. Только это одно при всей своей ничтожности могло иметь еще какую-нибудь ценность в моей ничтожной жизни!
Все, что я имел – несколько драгоценных камней в шкатулке – все это связать и отослать Мириам. Это обеспечит ее, по крайней мере, на несколько лет. А Гиллелю послать письмо и объяснить как было дело с «чудом».
Он одни поможет ей.
Да, он нашел бы выход.
Я разыскал камни, собрал их, посмотрел на часы: если я сейчас пойду в банк, – через час все может быть готово.
И затем еще купить букет красных роз для Ангелины!.. Я весь был охвачен болью и невыносимой тоской… Только бы один день пожить! Один единственный день!
А затем что же? Опять это удушающее отчаяние?
Нет! Ни минуты больше. Меня ободряла мысль, что я справился со своим колебанием.
Я оглянулся вокруг. Что еще оставалось сделать?
Вот напильник. Я положил его в карман, – решил бросить его где-нибудь на улице. Такой план был у меня и раньше.
Я ненавидел этот напильник. Ведь я чуть не сделался убийцей из-за него.
Кто это опять собирается мне помешать?
Это был старьевщик.
– Одну минутку, господин Пернат, – заговорил он умоляющим голосом, когда я намекнул, что у меня нет времени. – Одну маленькую минуточку. Только два слова.
По лицу его бежали струйки пота, он весь дрожал от возбуждения.
– Можно с вами здесь говорить с глазу на глаз, господин Пернат? Я не хочу, чтобы этот – этот Гиллель опять пришел. Заприте дверь, или пойдемте в ту комнату. Резким движением он потащил меня за собой.
Затем, робко оглянувшись, он хрипло прошептал:
– Знаете, я передумал… все это. Так лучше. Ничего не выйдет. Хорошо. Прошло, так прошло.
Я старался читать в его глазах.
Он выдержал мой взгляд, но это стоило ему таких усилий, что он судорожно схватился рукою за спинку кресла.
– Это радует меня, господин Вассертрум, – как можно дружелюбнее сказал я, – жизнь и так слишком печальна, зачем еще отравлять ее ненавистью.
– Правильно, как будто вы читаете по печатной книге, – облегченно промычал он, полез в карман и снова вытащил золотые часы с выпуклой крышкой. – И чтобы вы поняли, что я это говорю серьезно, вы должны взять у меня эту безделушку. В подарок.
– Что вам пришло в голову, – запротестовал я. – Не думаете же вы… – я вспомнил то, что Мириам говорила о нем, и протянул руку, чтобы не обидеть его.
Он не заметил этого, вдруг побледнел, как стена, насторожился и прошипел:
– Вот, вот. Я знал. Опять этот Гиллель! Это он стучит! Я прислушался и вышел в первую комнату, для его успокоения полузакрыв за собой дверь.
На этот раз был не Гиллель. Вошел Харусек, приложил палец к губам, чтобы дать понять, что он знает, кто здесь, и сейчас же, не дав мне опомниться, обрушился на меня целым потоком слов.
– О, досточтимый и дражайший майстер Пернат, как найти мне слова, чтобы выразить мою радость по поводу того, что я застал вас дома и совершенно одного… – Он говорил по-актерски, и его напыщенная ненатуральная речь так не гармонировала с его перекосившимся лицом, что мне стало жутко.
– Никогда, маэстро, никогда я не осмелился бы зайти к вам в моих лохмотьях, в которых вы наверное не раз видали меня на улице – что я говорю: видали! неоднократно вы милостиво протягивали мне руку.
И если я сегодня могу предстать перед вами в белом воротничке и в чистом костюме – вы знаете, кому я обязан этим? Одному из благороднейших и, увы, самых непризнанных людей нашего города. Я не могу спокойно думать о нем.
Сам обладая весьма скромным состоянием, он щедрой рукой помогает бедным и нуждающимся. Когда я вижу его печально стоящим у своего лотка, из самой глубины души встает во мне желание подойти к нему и без слов пожать ему руку.
Несколько дней тому назад он подозвал меня к себе, когда я проходил мимо, подарил мне денег и дал мне возможность купить в рассрочку костюм.
И знаете, майстер Пернат, кто оказался моим благодетелем? Я говорю это с гордостью, потому что и до того я был единственным человеком, который прозревал, какое золотое сердце бьется в его груди:
Это был – господин Аарон Вассертрум!
…Не трудно было понять, что Харусек ломает комедию перед старьевщиком, который все это слышал, но вместе с тем для меня было неясно, для чего все это происходит; лесть была слишком груба и не могла обмануть недоверчивого Вассертрума. По моему недоумевающему виду Харусек угадал, о чем я думаю, с усмешкой мотнул головой, и все дальнейшие его слова должны были мне подтвердить, как хорошо он знает Вассертрума и как нужно перед ним говорить.
– Да! да! господин Аарон Вассертрум! У меня сердце сжимается при мысли, что я не могу ему самому сказать, как бесконечно ему обязан. Заклинаю вас, майстер, не выдайте меня, не говорите ему, что я здесь был и все вам рассказал… Я знаю, как ожесточила его человеческая алчность и какое глубокое, неизлечимое и – увы – справедливое недоверие она поселила в его груди.
Я психиатр, но и мое непосредственное чувство говорит мне, что так лучше: господин Вассертрум не узнает никогда из моих уст, как высоко я ценю его. Сказать это, значило бы поселить сомнение в его несчастном сердце, а этого я не хочу. Пусть он лучше считает меня неблагодарным.
Майстер Пернат! Я сам несчастен и с детских лет знаю, что значит быть в мире одиноким и покинутым! Я даже не знаю имени моего отца. Своей матери я никогда в лицо не видал. Она очевидно умерла молодой, – голос Харусека звучал необычайно таинственно и проникновенно, – и была, я уверен, из тех глубоких и скрытых натур, которые никогда не могут высказать всей беспредельности своен любви, из натур, к которым принадлежит и Аарон Вассертрум.
У меня есть вырванная страница из дневника моей матери – я всегда ношу ее при себе на груди – и в ней сказано, что, несмотря на уродство отца, она любила его так, как еще никакая смертная женщина не любила мужчину. Но об этом, кажется, она никогда не говорила ему, по такой же приблизительно причине, по какой я, например, не могу сказать Вассертруму, – хоть разорвись у меня сердце, – о всей глубине моей благодарности.
Но еще одно вытекает из этой странички дневника, хотя об этом я могу лишь догадываться, так как строчки неразборчивы от слез: 12 мой отец – да сотрется память о нем на земле и на небе – жестоко поступил с моей матерью.
Харусек вдруг упал на колени, так стремительно, что пол задрожал, и закричал таким исступленным голосом, что я не знал, все еще продолжает он комедию или сошел с ума:
– О ты, Всемогущий, чьего имени человек не дерзает произнести, вот на коленях я пред тобой: проклят, проклят, проклят, да будет мой отец во веки веков! Он едва произнес последние слова и в течение секунды прислушивался с широко раскрытыми глазами.
Затем у него появилась мефистофельская улыбка. Мне тоже послышалось, что Вассертрум, рядом с нами, тихо простонал.
– Простите, маэстро, – продолжал Харусек, выдержав паузу, притворно задыхаясь. – Простите, что я увлекся, но я с утра до ночи молюсь о том, чтобы Всевышний даровал моему отцу, кто бы он ни был, самый горький конец, какой только можно представить себе.
Мне хотелось возразить, но Харусек быстро перебил меня.
– Теперь, майстер Пернат, я перехожу к моей просьбе. Господин Вассертрум оказывал поддержку одному человеку, которого он чрезмерно любил – это был, по-видимому, его племянник. Говорят даже, что это был его сын, но я не допускаю этого, потому что в таком случае у него была бы та же фамилия, а его звали Вассори, доктор Теодор Вассори.
Слезы навертываются у меня на глазах, когда вспоминаю о нем. Я был предан ему всей душой, как если бы меня соединяли с ним неразрывные узы любви и родства.
Харусек всхлипнул, как будто не мог от волнения продолжать дальше.
– Ах, и этот благороднейший человек должен был расстаться с жизнью! Увы! увы!
Что довело его до этого – я так и не узнал, – но он сам покончил с собой. Я был в числе тех, которых позвали на помощь… увы, слишком поздно, слишком поздно! И когда я потом стоял у его смертного одра и осыпал поцелуями его бледную холодную руку – зачем скрывать, майстер Пернат? – это ведь была не кража… но я присвоил себе одну розу с груди покойника и захватил склянку с ядом, так преждевременно пресекшим его цветущую жизнь.
Харусек вынул скляночку и продолжал с дрожью в голосе:
– И то и другое я оставляю у вас на столе, и увядшую розу, и пузырек: они были мне памятью об умершем друге.
Как часто, в часы глубокого уныния, когда в моем сердечном одиночестве и в тоске по моей покойной матери я хотел смерти, я играл с этой склянкой и чувствовал тихое утешение при мысли: стоит мне только пролить эту жидкость на платок и вдохнуть ее – и я безболезненно перенесусь в те края, где мой добрый, дорогой Теодор нашел отдохновение от трудов нашей скорбной юдоли.
И я прошу вас, уважаемый маэстро, – для этого я и пришел, – взять эти вещи и передать их господину Вассертруму.
Скажите ему, что вы получили их от лица, которое было близко к доктору Вассори, но имени которого вы поклялись не называть – пусть от какой-нибудь дамы.
Он поверит, и для него это будет драгоценной памятью, как было для меня.
Пусть это будет выражением моей тайной благодарности ему. Я беден, и это все, что у меня есть, но мне радостно знать: это будет теперь у него, и ему и в голову не придет, что я дал ему это.
Это доставляет мне необычайное удовольствие.
А теперь прощайте, дорогой маэстро, я заранее тысячу раз благодарю вас.
Он крепко схватил меня за руку, подмигнул, я все еще недоумевал, и он едва слышно прошептал мне:
– Подождите, господин Харусек, я вас провожу немного. – Механически повторил я слова, которые прочел на его губах и вышел с ним.
Мы остановились в темном углу лестницы в первом этаже, и я хотел попрощаться с ним.
– Я понимаю, чего вы добивались этой комедией… Вы… вы хотите, чтоб Вассертрум отравился из этой склянки.
Я сказал ему это прямо в лицо.
– Конечно, – возбужденно ответил Харусек.
– И вы думаете, что к этому я приложу руку?
– В этом нет надобности.
– Но ведь вы просили меня передать эти вещи Вассертруму? – Харусек отрицательно покачал головой.
– Когда вы вернетесь, вы увидите, что он уже взял их.
– Почему вы так думаете? – с удивлением спросил я. – такой человек, как Вассертрум, никогда не лишит себя жизни, он слишком труслив, и никогда не повинуется непосредственному импульсу.
– Тогда вы не знаете, что такое медленный яд внушения, – серьезным тоном перебил меня Харусек. – Если бы я говорил простыми словами, вы, пожалуй, оказались бы правы, но я заранее обдумал каждую интонацию. Только самый отвратительный пафос действует на этих собак. Верьте мне! Я могу воспроизвести вам игру его физиономии при каждой моей фразе. Нет такой самой отвратительной «мазни», как говорят художники, которая не могла бы исторгнуть слезу до мозга костей изолгавшейся черни, – уколоть ее в сердце. Разве вы не думаете, что будь это иначе, уже давно все театры были бы истреблены огнем и мечом? По сентиментальности узнают сволочь. Тысячи бедняков могут умирать с голоду, и это никого не проймет, но если какой-нибудь размалеванный паяц, одетый в лохмотья, закатит глаза на сцене, – они начинают выть, как собака на цепи… Если мой батюшка Вассертрум и забудет завтра то, от чего он так страдал сегодня – каждое слово мое оживет в нем в тот час, когда он сам себе покажется бесконечно жалким. В такие минуты величайшей скорби нужен только незначительный толчок – а об этом я позабочусь, – и самая трусливая лапа хватается за яд. Надо только, чтоб он был под рукою! И Теодорхен не глотнул бы яда, пожалуй, если бы я столь любезно не позаботился о нем.
– Харусек, вы ужасный человек, – возмущенно вскрикнул я. – Вы разве не чувствуете никакого…
Он быстро зажал мне рот рукой и толкнул меня в нишу стены.
– Тише! Вот он!
Спотыкаясь, держась за стену, Вассертрум спускался с лестницы и проскользнул мимо нас.
Харусек торопливо пожал мне руку и шмыгнул за ним.
…Когда я вернулся к себе в комнату, я увидел, что, действительно, нет ни розы, ни бутылочки, а на их месте на столе – золотые выпуклые часы старьевщика.
«Чтоб получить денег, вы должны подождать неделю. Это обычный срок востребования». Так заявили мне в банке.
Я потребовал директора, решил объяснить ему, что время не терпит, что через час я должен уехать.
Директора нельзя видеть, как оказалось, да он не мог бы ничего изменить в правилах банка. Какой-то молодчик со стеклянным глазом, подошедший одновременно со мной к окошечку, злорадно засмеялся…
Целую неделю, серую, мучительную, придется мне ждать смерти!
Это показалось мне бесконечной оттяжкой… Я был этим так убит, что почти не сознавал, что уже очень долго хожу взад и вперед перед каким-то кафе.
Наконец, я вошел, только чтоб отделаться от этого неприятного субъекта со стеклянным глазом. Он шел следом за мной из банка, не отставая от меня ни на шаг, и когда я на него поглядывал, он начинал рассматривать мостовую, точно ища чего-то.
На нем был светлый, клетчатый, слишком узкий пиджак и черные, лоснившиеся от жира брюки, болтавшиеся на нем, как мешки на ногах. На левом сапоге у него оттопыривалась заплата яйцевидной формы, так что казалось, что у него на пальце ноги был перстень.
Не успел я присесть, как вошел и он и уселся у соседнего столика.
Я подумал, было, что он хочет попросить у меня денег, и полез за бумажником, но тут я заметил большой бриллиант, сверкавший на его опухшем мясистом пальце.
Не один час просидел я в кафе; мне казалось, что я сойду с ума от какого-то внутреннего беспокойства; но куда идти? Домой? шляться по улицам? Одно казалось мне ужаснее другого.
Спертый воздух, неумолкающий нелепый стук биллиардных шаров, непрерывный кашель какого-то подслеповатого газетного тигра за соседним столиком; пехотный лейтенант с журавлиными ногами, попеременно то ковырявший в носу, то прилаживавший желтыми от табаку пальцами свои усы, держа перед собой карманное зеркальце; в углу за карточным столиком шум одетых в бархат отвратительных, потных, болтливых итальянцев, которые то с резким визгом, стуча кулаком по столу, выкидывали карты, то плевали на пол. И все это удваивалось и утраивалось в стенных зеркалах. У меня это медленно высасывало кровь из жил…
…Мало-помалу становилось темно. Кельнер со своими плоскими ступнями и кривыми ногами поправлял стержнем огонь на газовых рожках и затем, покачивая головой, отходил от них, убедившись, что они не хотят гореть.
Оборачиваясь, я каждый раз встречал острый волчий взгляд молодчика. Он быстро скрывался за газету или опускал свои грязные усы в давно уже выпитую чашку кофе.
Он низко нахлобучил свою твердую, круглую шляпу, так что уши его торчали почти горизонтально, но уходить он еще не собирался.
Это стало невыносимо.
Я расплатился и вышел.
Когда я закрывал за собой стеклянную дверь, кто-то схватился за ее ручку – я обернулся.
Опять этот субъект.
Я с досады хотел повернуть налево по направлению к еврейскому кварталу, но он оказался предо мной и заградил мне дорогу.
– Да отстаньте вы, наконец! – крикнул я.
– Пожалуйте направо, – коротко сказал он.
– То есть, как это?
Он нагло посмотрел на меня.
– Вы – Пернат!
– Вы хотели, вероятно, сказать: господин Пернат?
Он злорадно улыбнулся.
– Без фокусов! Пожалуйте за мной!
– Да вы с ума сошли? Да кто вы такой? – возмутился я.
Он ничего не ответил, распахнул пиджак и осторожно показал мне истертый металлический значок, прикрепленный к подкладке.
Я понял: этот хлыщ был сыщиком и хотел арестовать меня.
– Да скажите, ради Бога, в чем дело?
– Узнаете, будьте покойны. В департаменте, – грубо ответил он. – Марш за мной!
Я предложил ему взять извозчика.
– Не стоит!
Мы пошли в полицию.
Жандарм подвел меня к двери. На фарфоровой дощечке я прочитал:
АЛОИЗ ОТШИН
Полицейский советник
– Войдите, пожалуйста, – сказал жандарм.
Два грязных письменных стола с грудами бумаг стояли друг против друга.
Между ними несколько поломанных стульев.
На стене портрет императора.
Банка с золотыми рыбками на подоконнике.
Больше ничего не было в комнате.
Кривая нога и толстый сапог под обтрепанными серыми брюками виднелись под левым столом.
Я услышал шум. Кто-то пробормотал несколько слов по-чешски, и тотчас же из-за правого стола показался сам полицейский советник. Он подошел ко мне.
Это был невысокого роста мужчина с седой бородкой. Прежде чем начать говорить, он оскаливал зубы, как человек, который смотрит на яркий солнечный свет.
При этом он как-то сводил глаза под очками, что придавало ему отвратительно гнусный вид.
– Вы Атанасиус Пернат, – он взглянул на лист бумаги, на котором ничего не было написано, – резчик камней?
Тотчас же оживился кривоногий за своим столом: он заерзал на стуле, и я услышал скрип пера.
Я подтвердил:
– Пернат. Резчик камей.
– Ну, вот мы и встретились, господин… Пернат… да, да… господин Пернат. Да, да. – Господин полицейский советник сразу стал удивительно любезен, точно он вдруг получил откуда-то очень радостное известие, протянул мне обе руки и, улыбаясь, попробовал придать себе выражение довольного обывателя.
– Итак, господин Пернат, расскажите, что вы делаете целый день?
– Я думаю, что зто вас не касается, господин Отшин, – холодно ответил я.
Он прищурил глаза, подождал минуту и быстро продолжал:
– С каких пор графиня в связи с Савиоли?
Я ждал чего-нибудь в этом роде, и не моргнул глазом.
Он ловко пытался путем сбивчивых и повторных вопросов уличить меня в противоречиях, но я, как ни билось у меня сердце от возмущения, не выдал себя и все возвращался к тому, что имени Савиоли я никогда не слыхал, что с Ангелиной я дружу еще с тех пор, когда был жив мой отец, и что она уже неоднократно заказывала мне камеи.
Несмотря на все, я чувствовал, что полицейский советник угадывает всю мою ложь и что он задыхается от ярости, не будучи в состоянии добиться чего-нибудь от меня.
Он на минуту задумался, затем привлек меня за лацкан пиджака близко к себе, предостерегающе указал толстым пальцем на левый стол и начал шептать мне на ухо:
– Атанасиус! Ваш покойный отец был моим лучшим другом. Я хочу спасти вас, Атанасиус! Но вы должны рассказать мне все, что знаете о графине. Вы слышите: все.
Я не мог понять смысл его слов.
– Что значит: вы хотите меня спасти? – громко спросил я.
Кривая нога раздраженно топнула. Советник посерел от злости. Вытянул губу. Ждал. Я знал, что он сейчас еще раз наскочит (его система огорашивать напомнила мне Вассертрума), и ждал.
Я заметил козлиную физиономию, принадлежавшую обладателю кривой ноги. Она прислушивалась, выглядывая из-за стола… Вдруг полицейский, обращаясь ко мне, пронзительно вскрикнул:








