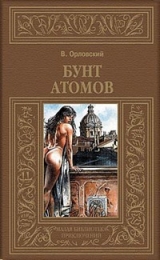
Текст книги "Бунт атомов (др. изд.)"
Автор книги: (Грушвицкий) Орловский
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
– Командира батареи к телефону...
– Командира – к телефону...
Майор, придерживая рукою саблю, побежал к телефонному посту. В трубку глухо забубнил знакомый бас командира группы, с которым он еще третьего дня мирно играл в преферанс.
Голос вздрагивал нервными нотами и срывался, так что нельзя было понять, командует ли он или смертельно испуган и сам ищет совета и поддержки.
– Противник показался, движется вдоль западного берега Вислы... Быть готовыми к открытию огня по видимой цели... гранатой...– Потом другим тоном: – Пан Болеслав, гвоздите этого дьявола в хвост и в гриву, выручайте, голубчик... Нельзя пустить его дальше Млоцин...
Козловский взобрался на наблюдательную вышку и стал осматривать далекий горизонт. Уже через четверть часа можно было различить в бинокль столб дыма, подымающийся за синею стеною леса. Он увеличивался с каждою минутой, словно вырастая из земли. Еще немного, и на далекую опушку из-за деревьев брызнуло ослепительным потоком света в ореоле дымной завесы, клубившейся черными вихрями. Было похоже, будто солнце сорвалось с голубого свода и катилось по земле пламенным шаром. Нельзя было различить подробностей, но веяло стихийной, неодолимой силой от этого невиданного зрелища.
Козловский почувствовал, как скверный холодок заполз в сердце и сжимал его медленной хваткой. Срывающимся голосом он передал команду на батарею:
– К бою!.. Гранатою! – и потом отрывисто, словно ища спасения: Огонь!
Ухнули резкие удары один за другим, и черные зевы плюнули огнем в серое небо.
Стальные чудовища дернулись назад и снова уставились кверху круглыми глотками.
– Огонь! – уже вне себя кричал Козловский, не отрывая глаз от бинокля и глядя, как пламенеющий шар сквозь завесу черных взметов дыма, окутанный ими слева и справа, плавно катился вперед, вырастая на глазах и вздымая кверху вихри пыли, дыма и огня, то закрываясь облаками от разрывов снарядов, то прорываясь сквозь них, как яростное солнце из-за клубящихся грозовых туч. И снова грохали пушки, снова копошились вокруг них в дыму и пыли оглушенные люди, и теперь гремело уже далеко вокруг все поле, справа и слева, где линия орудий от леса за дорогой перекидывалась далеко на юг по направлению к Повонзкам.
И майор, стоя во весь рост у крайнего орудия, кричал не своим голосом, стараясь превозмочь дикий рев и стон, потрясавшие землю:
– Огонь! Первое!
Ему вторили такие же неистовые крики, а где-то рядом хорунжий вопил, приставив рупором руки к губам:
– Огонь! Второе! Огонь! Третье!
И уж нельзя было различать отдельных ударов в сплошном грохоте канонады, как нельзя было разобрать вокруг приближавшегося огненного шара отдельных вспышек снарядов,– он весь был окутан темным облаком и сквозь него неизменно прорывался вперед неуязвимый и неотвратимый, как стихия.
Козловский растерянно оглянулся. Сзади батареи, шагах в двухстах, в немом ужасе остановилась толпа людей под золотою парчою хоругвей. Ксендз жестом отчаяния протягивал вперед распятие; вокруг толпа на коленях стонала и плакала; длинные желтые свечи давно погасли и ненужными палками торчали в дрожащих руках; колокольчик умолк, и тонкая струйка дыма вилась возле белой фигуры священника, слабой и беспомощной.
Козловский взглянул вперед. Пламенный шар был уже впереди батареи метрах в двухстах. Временами, в короткие промежутки между выстрелами, оттуда несся треск и шум, словно от большого пожара, были видны тысячи молний, брызжущих к земле от пламенного вихря.
Шар двигался.
– Орудия шрапнелью! На картечь! Беглый огонь! – В грохоте, шуме и звоне потонули окончательно отдельные звуки.
В дыму и пыли, поднятой выстрелами, люди метались, как в адской кузнице. Орудия вздрагивали при каждом ударе, точно живые, и от них веяло жаром раскаленной печи. Впереди не было видно ничего из-за густого облака, окутавшего батареи. Пушки уже без прицела брызгали огнем и дождем картечи в серую пропасть.
И вдруг, словно по команде, захлопнулись горластые зевы: пушки молча осели, зарывшись хоботами во взрыхленную землю, а люди испуганными кучками сбились в стороне, с ужасом глядя на невиданную картину: по металлическим частям орудий и аммуниции колебались и прыгали синеватые огоньки, и при каждом прикосновении к металлу из него вырывались с треском короткие искры-молнии, сотрясая тело людей резкими ударами, от которых они падали на землю, вскакивали и бежали прочь, спотыкаясь и сбивая друг друга с ног.
В следующую минуту ветром снесло прочь завесу пыли, окутывавшую батарею, и на фронте пушек показался огненный шар, пульсировавший и вздрагивавший, как огромная студенистая медуза, налитая огнем и дымом.
Майор окаменел, прислонившись спиною к дереву и обводя дикими глазами фантастическую картину. Он видел, как подхваченный порывом ветра пламенный шар вдруг прыгнул, словно сорвавшись с привязи, на толпу обуянных ужасом людей. Правее, по направлению к хатам деревни, в паническом беге неслись врассыпную люди, только что воссылавшие молитвы к безучастному небу. Впереди дикими прыжками, подобрав белую сутану, мчался священник; блестели в пыли на дороге брошенные хоругви, затоптанные ногами бегущей толпы.
Шар катился вслед за нею, подгоняемый ветром, и видно было, как падали, будто сраженные молнией, люди, которых он настигал своими огненными стрелами.
Левее кучка солдат бежала к лошадям. Майор хотел приказать им вернуться к орудиям, но голоса его никто не слушал. Он видел, как хорунжий первый вскочил на своего коня и, не оглядываясь назад, весь съежившись, стал бешено пришпоривать, направляя дикий бег по шоссе к Варшаве. Рядом бежали пешие и скакали, обгоняя друг друга, всадники.
Огненный шар катился к дубовой рощице, где стояли запряжки. Майор в ужасе закрыл глаза. Еще минута, и грохот взрыва потряс землю, и море пламени охватило лесок: шар налетел на зарядные ящики и взорвал их.
Теперь за дымом пожара не было видно пламенного вихря, несшегося между рекою и дорогой к беззащитной Варшаве.
Глава IX В доме на Доротеенштрассе
Эйтель Флиднер ходил один по опустевшему дому из комнаты в комнату и не мог найти себе места. Смерть отца сильно поразила Эйтеля, но всё, что последовало за нею, было настолько необычно, что заслонило собою дела семейные. Порою ему казалось, что он грезит и не может стряхнуть с себя тяжелый кошмар.
Развертывая утром газетные листы, он читал тревожные телеграммы, крикливые, истеричные корреспонденции, официальные и полуофициальные, осторожные и лживые сообщения и чувствовал, что не в силах справиться со всей этой путаницей.
Первые дни, пока сведения приходили из Германии, все происходящее, хотя и казалось загадочным, но не носило угрожающего характера. Писали о большой шаровой молнии, причинившей пожары в нескольких селах и городках в долине Нейсе,– и только. Это были сообщения, которые можно было поставить наряду с другими, пестревшими обычно на газетных столбцах: где-то пронесся ураган, где-то произошло наводнение или землетрясение, разразилась эпидемия. Все это имело начало и конец, и затем, каковы бы ни были разрушения,– проходило, раны затягивались, и постепенно все забывалось.
Но здесь было другое.
Это был какой-то снежный ком, который катился по взбудораженной Европе, и перед ним бессильными оказывались люди со всеми орудиями и машинами, со всеми ухищрениями современной техники.
Пожар Варшавы был первым ударом такого рода, который заставил почувствовать, что в мир ворвалось что-то новое. Первоначальные сообщения были смутны и сбивчивы, но затем газетная шумиха выбросила сразу столько подробностей, что в них можно было захлебнуться.
В общем картина рисовалась в таком виде. После взрыва фортов в Торне весть об этом облетела Варшаву с невероятной быстротой и взбудоражила город, который к вечеру уже шумел, как разворошенный пчелиный улей.
В костелах ксендзы служили молебны, прося заступничества невидимых сил, по городу метались толпы народа, возбуждаемые разноречивыми слухами, рождавшимися неведомо где и как. Вся ночь прошла в смутной тревоге ожидания.
Перед рассветом лязг и грохот катившихся орудий разбудил беспокойный сон обывателей. Батареи, одна за другой, в угрюмом молчании катились по каменной мостовой на запад, к старой цитадели. С утра словно тяжелая туча нависла над столицей, и в кочующих по улицам толпах поползли новые слухи, сплетаясь со страшным словом "война!"
А затем сюда перебросилась родившаяся в редакциях газет нелепая легенда – виноваты немцы. Это они напустили на Польшу страшное бедствие, их инженеры бросили в ход дьявольское изобретение, и следом за ним надо ждать наступления полков проклятых швабов.
Этого было достаточно. Лихорадочное возбуждение толпы нашло выход. Людская волна хлынула к германскому посольству, разгромила и подожгла его.
Случилось это около 11 часов утра.
А в то же время у города показался увлекаемый ветром огненный шар. Он был встречен огнем батарей, выставленных на запад от столицы, но вся эта цепь пушек и гаубиц остановила его столько же, сколько могли бы это сделать оловянные солдатики.
Шар прорвал гремевшую линию около Млоцин, разогнал крестный ход, взорвал несколько орудий и зарядных ящиков, через полчаса миновал цитадель и очутился в лабиринте переулков старого города и еврейских кварталов.
Спустя четверть часа узкие кривые переходы пылали, окутанные дымом. Громовые раскаты, шум огня, треск пылающих стен, крики и вопли обезумевших людей наполнили собою тихие еще недавно улицы. Пламенный шар вылетел из их пустынной сети на площадь у съезда к Висле, задел статую Сигизмунда, рухнувшую грудой мусора, и двинулся вдоль Краковского Предместья и Нового Света. Крестные ходы, толпы людей, наводнивших с утра бульвары, праздные зеваки на тротуарах,– всё это неслось теперь, сломя голову, в невыразимом ужасе среди свиста пламени и шума пожара.
В течение получаса грозный смерч пересек весь город по направлению к Мокотову и исчез на востоке, а за ним в дыму и огне несчастный город корчился в судорогах и клубился черными тучами.
Вот что случилось в Варшаве. И это, пожалуй, было не самое страшное. Следом за катастрофой газетные столбцы сообщали, что возбужденные толпы позволили себе ряд эксцессов, что к столице стянуты войска, и, по всей вероятности, порядок будет быстро восстановлен.
Эйтель вспомнил баррикады в Моабите третьего дня и ненавистное лицо Дерюгина в тот момент, когда он опустил свою саблю на эту рыжую, словно огнем полыхающую голову.
Проклятый азиат! В нем олицетворялся для Флиднера мятежный хаос, страшное лицо апокалиптического зверя, подымающего свою многомиллионную голову над старым, таким благоустроенным, покойным и удобным миром.
Он скомкал газету и швырнул ее на пол.
Да, на мир надвигалось что-то такое, перед чем стал в тупик не только он, волонтер кавалерии,– сведущий лишь в достоинствах лошадей и эскадронном учении. По крайней мере, когда он пытался разобраться во всей истории по двум-трем статьям в последних книжках научных обозрений и журналов, пришедших уже после смерти отца на его имя,– то и здесь не нашел путеводной нити. Правда, в этом не было ничего удивительного.
Статьи были написаны языком, который сам по себе являлся китайской грамотой.
Эрги, джоули, диссоциация, ионизация, ионы, протоны, нуклеарные заряды, кванты,– вся эта дикая тарабарщина делала совершенно непонятными самые обыкновенные фразы. И она, разумеется, была переплетена хитроумными формулами, разбивавшими там и здесь ровные строчки убористого шрифта замысловатыми кривыми и диаграммами, схемами и таинственными обозначениями,– словом, всем ассортиментом специальных статей, представлявшим непроходимую преграду для непосвященных. Эйтель с нетерпением перелистывал их и вчитывался в короткие послесловия, подводившие итоги изложенному, и хоть сколько-нибудь похожие на обыкновенный человеческий язык. Но и в этих всё же туманных сводках Флиднер не нашел ничего утешительного. Две основных мысли то робко, то более открыто сквозили всюду: во-первых, начавшийся процесс, несомненно, захватывал в свою сферу всё большую массу вещества, иначе говоря, проклятый, шар, хотя и медленно, рос с каждою минутой, будто снежный ком, катящийся по мягкому насту, и, во-вторых, что было хуже всего, наука в данный момент была бессильна бороться с этой неожиданной опасностью.
Правда, в газетах и популярных журналах за теми же подписями появлялись другие статьи, где авторы старались успокоить общественное мнение, но даже для неиск) шейного мозга Эйтеля был ясен их казенный оптимизм, которому не верили ни на грош те, кто писал эти заметки. Некоторые из авторов были знакомы Флиднеру, как сотрудники и товарищи покойного отца, бывавшие у них в доме. Один из них, длинный и сухой, как жердь, старик с желтым, болезненным лицом и свалявшейся неопрятной бородою, слегка презрительно называвший Эйтеля "наш юный воин", писал в "Berliner Tageblatt", что "на определенной стадии процесса должно наступить равновесие, когда количество выделившейся энергии будет равно ее естественному рассеянию в пространство, после чего шар перестанет расти, а тем временем несомненно будет найден способ ликвидировать охваченную разрушением материю".
Между тем в "Zeitschrift fur Physikalische Chemie" тот же Мельцер кончал свою статью туманной фразой:
"Конечно, влияние массы вещества в таком значительном объеме, какой имеется налицо в данном случае, еще не исследовано, и хотя по аналогии можно было бы предполагать возможность установления равновесия, трудно сказать, когда именно оно наступит и в какой мере сможет послужить гарантией в развитии новых, еще более разрушительных процессов".
Наконец, самым страшным было даже не сознание растущей опасности,– она казалась еще далекой,– а то, что виновником всех несчастий был его отец, что здесь было замешано их имя, которое трепали с пеною у рта газеты, словно собака треплет грязную тряпку, подхваченную ею в мусорной яме.
Глава Х Статья в "Фигаро"
По внешнему виду ничто, по-видимому, не изменилось на улицах города. Так же катились людские волны, так же гудел, грохотал и звенел тысячами металлических голосов механизм, опутавший жизнь человека. Поверхностный наблюдатель не заметил бы ничего особенного в привычной сутолоке, автоматически управляемой торжественными фигурами в кожаных касках на перекрестках.
Но внимательное ухо открывало в этом гудении новые ноты – тревожные, гневные и растерянные. С окраины, где третьего дня происходило что-то грозное,– ползли зловещие слухи. На стенах улиц появились беленькие квадратики, возвещавшие установление в городе военного положения. А газеты приносили все новые сведения о бедствиях и пожарах, выжигавших на востоке долину Буга и Днепра. Эти известия вливались в напряженную, полную тревожных ожиданий атмосферу улиц и зажигали глаза удвоенным страхом. Дагмара чувствовала себя бесконечно затерянной и одинокой в этом трепетном, насыщенном как будто грозовым электричеством хаосе. Она не отдавала себе отчета в том, что видела на улицах, так как была слишком подавлена своим личным горем. Но инстинктивно она отзывалась на трепетание толпы, и это усиливало ее тревогу до физической боли.
Выйдя из дому, она некоторое время шла бесцельно по Доротеенштрассе, почти не замечая прохожих и не зная, что с собой делать.
– Арестован, в тюрьме,– вот все, что стучалось в мозг назойливыми ударами.
Этот высокий, кряжистый человек с серыми глазами заслонил сейчас для нее все совершающееся вокруг. Он казался ей одним из тех немногих, которые твердо стоят на ногах и уверенно смотрят вперед. А несколько дней, проведенных вместе,– дней, когда так мало еще было сказано слов в быстрой смене странных и грозных событий,– связали их неразрывными нитями. Дагмаре стало ясно, что вся ее тревога, тоска и одиночество происходят от того, что нет подле этого крепкого, ясного и спокойного человека. Она не знала еще, какими словами встретила бы его, если бы вдруг он стал сейчас перед нею, но это были бы значительные слова, полные ласки и доверия. И вот его не было рядом. Между ними выросла тюремная решетка. Дагмара перебирала в уме всех, к кому можно было бы обратиться за помощью, за советом, но как-то вдруг оказалось, будто она – одна в шумной, но мертвой пустыне. Еще утром, прежде чем позвонить у дверей мрачного дома, в котором прошла ее юность, она зашла в институт. Но знакомые профессора, к которым она обращалась, ассистенты отца, замкнулись в холодной, вежливой настороженности, а когда девушка заговаривала о Дерюгине,– на лицах появлялось выражение удивления и негодования, и разговор прекращался. В группах студентов она подметила кислые усмешечки и шепоток, замолкавший при ее приближении. Очевидно, история ее ухода из дому была уже известна и, конечно, была связана с именем инженера.
Дома, у брата, она встретила ту же слепую злобу, которая, казалось, захлестывала теперь весь мир.
Она остановилась в. недоумении. Ну, что же? Опять к фон Мейдену? Он, как официальное лицо, должен был знать больше других. Дагмара колебалась несколько минут, вспоминая сцену в его кабинете на прошлой неделе, но затем решительно направилась к ратуше.
Советник принял ее необычайно учтиво, бросился усаживать в кресло, рассыпался в тысячах извинений по поводу "досадного недоразумения".
– Согласитесь, фрейлен, это было слишком необычайно – то, что вы рассказали мне тогда. Мне и сейчас иногда кажется, что я сплю, когда читаю газеты...– он кивнул головою на ворох печатных листов на столе.
– Вот господин Горяинов находит все это в порядке вещей,– добавил он, указывая на собеседника, расхаживавшего большими шагами по кабинету. Дагмара невольно взглянула на него, и ей показалось, что она видела где-то высокий голый череп, выцветшие глаза и остренькую бородку.
Старик слегка поклонился ей и продолжал свою прогулку, изредка взглядывая на нее исподлобья.
– Но, послушайте, все же это безумие – печатать подобные статьи,обратился фон Мейден к Горяинову, продолжая начатый разговор и нервно черкая карандашом по строчкам свежего номера "Figaro".
– Они там с ума сошли в Париже! Они готовят революцию!
Собеседник пожал плечами и усмехнулся углами рта, тогда как серые глаза смотрели устало и равнодушно.
– А если все же это правда?
– Безразлично,– ответил советник, ломая карандаш сильным нажимом,бывает правда, которая опаснее всякой лжи.
Нельзя в политике применять мещанские мерки ходячей морали.
– Да, да, разумеется,– улыбался, гримасничая, старик,жалко, что господа политики избегают говорить об этом вслух.
– Нет, вы только послушайте этого сумасшедшего,– продолжал фон Мейден, обращаясь к новой собеседнице и медленно переводя вслух фразы из подчеркнутой карандашом статьи.
"Уже давно человечество знакомо с явлением новых звезд, вспыхивающих внезапно с необычайной силой то там, то здесь в мировых пространствах. Такова была легендарная звезда Нового Завета, предвещавшая якобы рождение Христа, подобного же рода была на нашей памяти так называемая "Новая" в созвездии Орла, загоревшаяся в июне 1918 года, и много других.
Эти звезды, вспыхнув на несколько месяцев, затем постепенно гаснут, возвращаясь к своей первоначальной небольшой яркости.
Не так давно причину явления видели в столкновении двух светил, кончающемся грандиозным пожаром. Но при колоссальной разбросанности небесных тел во вселенной такая причина очень маловероятна. И за последнее время стали высказываться предположения, что новые звезды – след необычайной силы вспышек внутриатомной энергии, охватывающих по неизвестной нам пока причине то одно, то другое из светил.
И вот перед нами – начало такой катастрофы. На Земле разыгрался процесс, который должен кончиться колоссальным пожаром, и тогда в небе загорится новая звезда, которую астрономы где-нибудь в системе Сириуса будут наблюдать через несколько лет в свои телескопы и занесут в звездные каталоги".
Фон Мейден остановился, снял пенсне и обвел недоумевающими глазами посетителей. Волнуясь, он кусал кончик давно потухшей сигары, не замечая, что она не курится.
Дагмара молчала, Горяинов продолжал ходить по комнате, и с лица его не сходила насмешливая гримаса.
Фон Мейден снова нагнулся над газетой:
– А вот не угодно ли – конец. "Итак, вывод наш таков: процесс, начавшийся две недели назад в Берлине, уже не может быть остановлен никакими силами. Он будет идти с увеличивающейся скоростью, захватывая все новые массы вещества, освобождая все растущие количества энергии, пока бушующее пламя не охватит весь земной шар. Еще задолго до этого, разумеется, на земле погибнет все живое и вместе с ним человечество со всей своей техникой, своим кичливым разумом, со всеми страданиями и иллюзиями. Это неизбежно и является только вопросом времени. Борьба бесполезна и смешна. Человечество выполнило свою миссию, дошло до кульминационной точки развития и должно сойти со сцены. Пора подводить итоги. Земля доживает последние дни".
Советник уронил пенсне, стукнул кулаком по столу, и лицо его покрылось красными пятнами.
– Я вас спрашиваю,– почти кричал он, комкая газету,разве это не бред умалишенного? Разве нормальный человек может говорить таким образом? Ведь это значит – будить зверя, звать на улицы бунт, революцию – разнуздывать дикие силы!
Теперь уже фон Мейден бегал по кабинету от окна к двери, дергаясь всем телом и сжимая руками виски, а Горяинов сидел у стола и ленивым движением стряхивал пепел папиросы.
– Мне кажется, господин советник, вы красного флага на улицах боитесь больше, чем стихийной катастрофы, которая грозит Земле? – саркастически спросил он, покачиваясь в кресле и охватив обеими руками колено.
– О, да,– сердито ответил фон Мейден,– фантазии господ кабинетных ученых мы слышали не однажды по поводу каждой новой их теории, однако мир здравствует до нынешнего дня. Но революция – это то, что носится в воздухе! Это то, что лезет изо всех щелей, это то, что было вашим вчера и может каждую минуту стать нашим сегодня! Мир весь содрогается, как гигантский котел под непомерным давлением, он бурлит и клокочет, а эти идиоты подбрасывают угля в топку ради сенсации, ради лишнего десятка тысяч тиража!
– А если дело вовсе не в этом?
– Так в чем же, скажите на милость?
– Если на этот раз здесь не иллюзия, а в самом деле Земля доживает последние дни? Попробуйте на минуту предположить подобную вещь...
Фон Мейден досадливо махнул рукой.
– Удивляюсь я вам, русским. Вам, прошедшим через горнило революции, меньше всего к лицу подобная беззаботность! А вы говорите так, точно сами являетесь автором этой статьи...
Горяинов пожал плечами и загадочно улыбнулся. Дагмара воспользовалась наступившей паузой и встала.
– Господин советник, я к вам зашла по делу. Может быть, вам случайно известно...– она на минуту замялась.– Видите ли, я хотела бы знать, что случилось с русским инженером, работавшим в лаборатории отца... Вы как должностное лицо, вероятно, в курсе дела... Его фамилия Дерюгин, Александр Дерюгин...
Фон Мейден круто повернулся, и лицо его, только что полное тревоги и негодования, вдруг замкнулось в холодном недоумении.
– Я удивляюсь, фрейлен, вашему вопросу. Судьба господина Дерюгина меня нимало не интересует, она зависит от решения военного суда,-вот все, что я могу сказать. Грустно, что приходится слышать имя этого человека из уст дочери профессора Флиднера. И должен вас предупредить, фрейлен, что за последнее время имелось и без того много оснований для весьма странных предположений по отношению к вам... Только из уважения к памяти вашего покойного отца на это закрывали глаза...
Лицо девушки залилось пурпуром.
– Я не просила об этой милости,– произнесла она холодно, направляясь к выходу.
Фон Мейден не тронулся с места и только угрюмым, взглядом медленно проводил ее до двери.
Горяинов слегка поклонился, но не сказал ни слова.
На улице Дагмара в нерешительности остановилась, не зная, что предпринять дальше... Чья-то рука легла на ее плечо. Она обернулась. Перед нею стоял высокий старик с лицом утомленного Мефистофеля, бывший только что в кабинете у фон Мейдена.
– Милая барышня,– заговорил он задушевным голосом,– я имел честь быть... почти другом покойного профессора Флиднера и мне хотелось бы в мере сил моих оказаться полезным его дочери... Наступают тяжелые дни, и вы в этой сумятице должны чувствовать себя страшно одинокой. Дагмара порывисто схватила протянутую ей руку.
– О, если бы вы знали,– вырвалось у нее почти стоном,– я точно в лесу заблудилась в бурную ночь...
– Да, да, милая барышня, идет гроза, и жутко быть человеку одному. Но разве ваш брат...
– О нем я не хочу говорить,– остановила Горяинова девушка,– у него я встретила поддержки не больше, чем сейчас там, наверху.
Она кивнула в сторону ратуши. Горяинов покачал головою.
– Я так и думал. Это очень грустно, потому что, боюсь, хороших известий о господине Дерюгине я дать вам не смогу...
– Вы знаете, что с ним?
– За четверть часа до вашего прихода советник фон Мейдеы произнес передо мной целую филиппику по адресу злополучного соотечественника... Он сейчас – во Фридрихсгайнской тюрьме...
– Это я знаю уже от брата... Но как все случилось и что его ожидает?
– Арестован во время усмирения рабочих волнений в Моабите вместе с редактором "Rote Fahne", чуть ли не с оружием в руках, такова по крайней мере официальная версия.
Дагмара побледнела.
– Это грозит большими неприятностями?
– Боюсь, что да. Иностранный подданный и вдобавок русский, следовательно, a priori человек опасный... Задержан вооруженным на месте преступления... И затем военное положение.
– Значит, что же? – побелевшими губами почти шепотом спросила Дагмара.
– Я не хочу вас пугать, но положение серьезное. И что хуже всего очень трудно что-либо предпринять. Человек – единица, песчинка, бессилен перед сложной машиной, им самим созданной.
Видя искаженное болью лицо девушки, Горяинов вдруг остановился и сказал нерешительно:
– Пожалуй, одно я вам могу посоветовать. Попробуйте обратиться в советское посольство. Если они примут участие в судьбе соотечественника, то во всяком случае дело может затянуться, и будет выиграно время...
– А дальше?
– А дальше многое может случиться. Слышите?
И оба обернулись в сторону Нейкельна, откуда заглушенные расстоянием долетели звуки выстрелов, и, цокая подковами по асфальту, проскакал вдоль по улице по тому же направлению отряд конной полиции. Люди на тротуарах вытягивали шеи, прислушиваясь к далекой перестрелке.
– Нужно только получить отсрочку,– повторил Горяинов,– а освобождение придет оттуда,– он махнул рукою в сторону выстрелов: – дело идет к развязке. У меня на это есть нюх... и опыт на собственной шкуре.
Он засмеялся коротко и невесело.
– Вы говорите так, как будто сами бы этого хотели,– невольно вырвалось у Дагмары: – между тем такой исход должен только ужасать и отталкивать вас...
– Отталкивать? Нет, милая барышня...– он покачал головою,– для меня это безразлично. Мне все равно: монархия, республика, социализм, коммунизм, красные, белые, синие... я давно научился расценивать явления с точки зрения значения их для узкого кружка близких и интересующих меня людей. В данном случае это может помочь вам и моему компатриоту, к которому я чувствую искреннюю симпатию. Вот и все. А к тому же, теперь не все ли равно? Идет гроза, которая сметет не только плесень, копошащуюся на земле, но обратит в прах и самую землю... Какое значение имеет рядом с этим все остальное: революции, войны, радости, страдания, героизм и преступление, любовь и ненависть, слава, наука,– если завтра все это исчезнет в пожаре, навсегда, навеки и без малейшего следа?
Девушка остановилась, потрясенная этим мрачным пророчеством.
Горяинов сказал, устало улыбаясь:
– Простите, я напугал вас. Иногда .необыкновенно весело быть Кассандрою, но сейчас мне это было больно. Пока до свиданья, милая барышня. Если вы дадите мне свой адрес, я завтра забегу сообщить новости.
Он пожал руку Дагмары, и она еще несколько минут видела его высокую сутуловатую фигуру в толпе.
Со стороны Нейкельна все чаще хлопали выстрелы то в одиночку, то целыми залпами.
Глава XI Европа в огне
Фон Мейден оказался прав. Статья в "Фигаро" послужила сигналом. Уже на следующий день телеграф принес известия о волнении на парижской бирже, этом чувствительнейшем барометре общественной погоды. Полетели вниз бумаги многих предприятий, территориально связанных с районами, угрожаемыми атомным вихрем.
Толпы рантье, дрожащих за свои франки больше, чем за судьбу мира, уже осаждали банки. Ходили слухи о полном крахе двух крупных металлургических фирм.
Все это раздувалось сообщениями очевидцев о движении пламенного шара. Прокатившись долиною Буга, он выжигал все более широкую полосу лесов и пашен, задел несколько деревень, уничтожил Фастов и около Очакова вылетел в море. Вот как описывалось это событие со слов местных жителей.
В воскресенье поздно вечером на севере показалось яркое зарево, окутанное облаками густого дыма. При все усиливающемся ветре вскоре из-за гряды прибрежных холмов выплыло пламенное облако, пронизанное изнутри ярким голубоватым светом, который, несмотря на застилавшую его пыль и дым, был настолько ослепителен, что вокруг стало светло почти как днем.
Облако двигалось довольно быстро на некоторой высоте над землею, распространяя на большое расстояние вокруг непереносимый жар, от которого воспламенялась трава, деревья и все, что могло гореть. Из дымного вихря несся непрерывный треск, шипение и отдельные резкие удары грома. Все живое, разумеется, бежало прочь в паническом страхе. Но кучка любопытных издали осталась наблюдать грозное явление.
Приблизительно в половине двенадцатого ночи клокочущее огнем облако приблизилось к берегу и, не останавливаясь, понеслось к морю. В тот же момент произошло нечто вроде сильного взрыва. Вода под шаром забурлила; огромный столб пара поднялся к ночному небу и окутал пламенный вихрь туманной пеленой. Видно было, как шар подпрыгнул кверху, подброшенный силою газов, и понесся в открытое море уже на большей высоте, на глаз до десяти метров, причем вода под ним не переставала кипеть и клокотать.
Теперь вся картина представляла большое облако пара, подымающегося из взбаламученного моря, и пронизанное изнутри целыми снопами света, напоминающего солнце, прорывающее своими лучами грозовые тучи. Через полчаса грохочущий вихрь исчез в море, но еще долго на юге виден был отблеск далекого зарева.
Другую встречу уже в открытом море описывал капитан итальянского парохода "Умберто", шедшего в Константинополь из Одессы. В понедельник утром невдалеке от Змеиного острова рулевой доложил, что что-то неладное творится с компасом.




