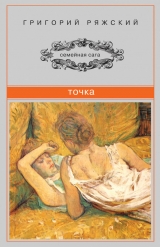
Текст книги "Точка"
Автор книги: Григорий Ряжский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Григорий Рижский
Точка
Нинку-Мойдодыр в отличие от меня и Зебры в детстве никто не насиловал: не то что бы отчим, например, или же дядя, там, а вообще – никто и никогда. Так ей в жизни по-особенному повезло, если учесть, что родом Нинка происходит из сильно промышленного и всегда пьяного города Магнитогорска, где так или иначе, рано или поздно под тамошний мужицкий прибор подпадали все почти девчонки, которые из наших. Из наших – это я уже много лет безошибочно определяю – из каких. И дело вовсе не в том, что работаем, а просто я научилась по другим корешкам организма угадывать, по особым таким отличительным кусочкам: ходит как, к примеру, и по глазам – как зыркает, а найдя, чего хотела, в секунду оценивает остальное всё тоже и всегда близко к делу прикидывает: что будет с кем и как, и даст ли на такси после всего. А ещё из наших – те, что проверку прошли временем, не малолетки которые и не отмороженные, а нормальные, как мы и другие с нашей точки, с ленинской, те, что из середины на показе, не слева и не справа – российская провинция в основном, русский юг чуть отдельно, и СНГ с белой жопой: Украина там, Молдавия, Белоруссия. Вообще, мы делимся между собой на классы, или, если хотите, нас делят на такое: супер, средние и никакие.
Супер – это за сотку баксов кто отъезжает без вопросов и за меньше не отъедет.
Средние – полтишок, и таких большинство.
Ну, а никакие – они и есть никакие, и что получится у них в финале пьесы, сами не знают с точной стоимостью: может и штука быть в деревянных, и чуть больше, и поменьше: от клиентской неразборчивости зависит и от мамкиной наглости.
Так вот, мы – это средние, за полтинник зелени, и мы же самая обильная фракция в нижней палате парламента, про верхнюю не скажу – не знаю там, как у них. Зебра – та вообще ничего в этом не смыслит, ее в ящике только погода интересует, как на точке будет: на воздухе стоять, в машине курить или же там и там получится по совокупности конкретного климата. Но возила у нас принципиальный – Руль кликуха. Не курит совершенно, крепкого себе, кроме пива, не позволяет, так же и ненавидит скверные слова. Когда девки сзади него качнут, как водится, про что-нибудь свое блякать и ржать между показами, его просто мутит от этого и наизнанку выворачивает всего. Я-то знаю об этом и курить всегда на улицу выскакиваю, даже если мороз или дождь, но не сильный, терпимый, чтобы пару раз дернуть успеть. А другие девчонки говорят ему: мол, затыкай, Руль, зажми нюхальник и тяни через тормозной шланг или же кислородную подушку дома заряжай, а то Лариске снова нажалуемся. И тогда Руль умолкает, но карежить его продолжает, и ломать не меньше, чем до этих грозных пугательств: не окончательно умеет он через образование перешагнуть, через имеющуюся моральную ценность, все-таки кандидат наук по сейсмологии – это про подземные извержения земли наука. А Лариску, вообще-то, правильно боится. Лариска женщина строгая, потому что она наша мамка и защитница. Мамки бывают очень разные, бывают совершенно не защитницы, а похуистки – бабки только считать, а дальше – как само выйдет. Она мне как-то честно пояснила, Лариса: понимаешь, говорит, другим мамкам бывает продать тебя выгодней кодле или отморозку и надежно бабки разом снять, и будь что будет: одной, если что, – больше, одной – меньше; вас на сегодня 120 штук на ленинской точке стоит и душ двадцать еще место ждут, а бабки – вот они, сразу, а я – нет, сама знаешь, я вижу кого отдать, чтоб отъехала, а кого сама не пущу, так-то. Так вот она Рулю сказала в строгой форме, вернее, начальник точки наш, Джексон, с ее слов распорядился, что, мол, кончай, Руль, персональный здоровый образ жизни гнать, а то мне проще тебя от заработков отлучить, чем девчонок на погоде морозить в убыток делу и рабочему настроению. И пойдешь, добавил, с нашего Ленинского проспекта на Красные Ворота по новой, если примут еще там с твоей копейкой 78-го года выпуска.
Джексоном Аркадий стал в течение одной всего секунды с легкой руки злюки и суки Светки-Москвы. Как только он сменил на точке прежнего владельца, точнее говоря, выкупил точку и сел на хозяйство, то собрал быстренько что-то типа производственного совещания с сообщением ленинскому персоналу о своих новых властных полномочиях. Сообщение было нехитрым и состояло из весьма лаконичной фразы типа: Ну, в общем, я тут теперь, так что смотрите, девчонки, чтоб все нормально было по возможности, ясно? Сказал и машинально почесал яйца.
– Ну Джексон просто, – тут же заявила преданность новому хозяину Светка-Москва, – Майкл Джексон, натурально, та же пластика и краткость таланта.
Девки грохнули, вся точка грохнула и опрокинулась насмерть: Что думать про это, Аркадий так и не понял, так как не знал – это про него хорошо или наоборот. Но Светке-Москве на всякий случай тогда запомнил. Так или не так, не было на точке после того случая живого человека, включая охрану, крышу и возил, чтоб не звал Аркашу Джексоном. Впрочем, вскоре тот и сам к прозвищу своему привык и даже стал немного таким фирменным погонялом гордиться, хотя зуб на сучару-Москву тоже при себе оставил.
Так вот, к чему это я этот разнобой затеяла? Плавно иду назад, обратно к жилью, что снимаем на троих с Зеброй и Мойдодыром. Про палаты и парламент я знаю из воскресных «Парламентских часов», когда после субботы отсыпаюсь, как вернусь – это как раз около трех дня, когда он идет, а до работы ещё рано, до точки. Нинулька-Мойдодыр тоже, как и Зебра, телевизор не очень, просит только обычно потише, потому что голова. А я отвечаю, что, Нинуль, мол, в голову кроме порошка и минета нужно еще чего-нибудь класть, так ведь? Беззлобно говорю это и даже не в шутку, вполне серьезно говорю, и она, кстати, это знает и не обижается на меня.
Вообще, мы живем дружно и не только потому, что примерно равный профессиональный стаж имеем при разном возрасте и статус: отъезжаем, как правило, за полтинник баксов, не тысяча двести в рублях, как девчонки, которых мамка с левого края держит, дальше от центра фар – те могут и за тыщу отъехать, а мы строго – полтинник. Сразу скажу – не стольник. Это не значит, конечно, что за стольник я не отъезжала – отъезжала сколько угодно, и девчонки отъезжали. Просто дело в том, что каждая из нас внутри себя знает точно – цена мне правильная вот эта. И это не понты, несмотря на всякий любой случай, что подворачивается и нередко. Эту определенность вырабатываешь в себе сама, преодолевая со временем внутренние противоречия из-за недооценки своей женской личности. А критерий один – доволен внутри тебя остался маленький совестливый человечек или не доволен.
Одним словом, все мы трое живем на Павлике и дружим. Павлик – это Павелецкий вокзал по-московски, хотя из Москвы нас родом никого. Мойдодырка, как я сказала, родом с Магнитки; Зебра – с Бишкека, и вообще звать ее Диляра, Диля, отец узбек, мать татарка; а меня зовут Кирой, и родилась я с самого западного края бывшей географии – в двух часах на автобусе от города Бельцы. Всё это, как вы понимаете, теперь заграничная Молдованская республика, но от этого мне не легче, а, наоборот, в сто раз хуже. Во-первых, потому что появилась я там на свет не вчера, а двадцать девять лет тому назад, когда не думала, что дом, где родилась, будет по сегодняшней жизни стоить полуторамесячный размер арендной платы за тесную двушку на Павлике с окном на перекресток. Во-вторых, потому что в доме том у меня двое деток, Соня – старшая и маленький Артемка, на попечении мамы, учительницы начальных классов. В третьих, потому что я проститутка со стажем и нескладной для такой жизни фамилией Берман. Ну а в четвертых и самых главных, потому что мне это нравится и я уже никогда не захочу обратно. Да! Вообще-то мы не говорим так про себя – проститутка, мы говорим – «работаем». И про других, кстати, таким же порядком – они тоже «работают». Но это к слову.
Так вот, Нинку никто в детстве не насиловал, у неё история по другому завернулась пути, через обычное алкоголическое родительское наследие, но в любом случае нервы у нее были в большем, чем у нас с Зеброй порядке, но именно тихая Мойдодырка первой узнала и заорала, как не в себе, когда передали по ящику в новостях. А сообщение было, что всего лишь три дня остается до открытия очередного чемпионата мира по футболу, который состоится одновременно в Корее и Японии. Я тогда как раз от парламентского часа до уборной отошла, а Нинка вслушалась и на себя вынужденно новость приняла первой.
– Бляди! – заорала она, как умалишенная. – Суки, мать вашу!
– Что??? – заорали мы с Зеброй, когда принеслись на Мойдодыркин крик. – Что такое???
Но Нинка уже стояла потерянная, вновь по обыкновению неслышная, тем более, что была больная, с температурой и простывшая после бассейна, и потому казалась смирившейся с ужасными обстоятельствами предстоящего куска жизни.
– Футбол у них начинается, – в тихом ужасе сообщила Мойдодыр. – Пиздец нам на целый месяц, без бабок останемся теперь. Клиент на ящик присядет, жди на точке обвала, а мне без допинга кранты, девки.
Мы с Зеброй тихо присели. Действительно, не прошло и четырех лет, как вновь нагрянули объективные финансовые неприятности, совершенно не связанные ни с бандитами, ни с ментами, ни с трехдневными женскими недомоганиями. И это серьезно, это не короткое вам усиление по ментовской линии типа Буш приехал, или 8-е марта, или же Новый год с Пасхой. Там быстро все – пара дней, разогнали и обратно становись, работай. А если крепко заряжена точка по бабкам, отстегивает регулярно властям и не имеет практических перебоев, как наша, например, то и власть ей тоже полнейшим либерализмом соответствует и при полуважных городских мероприятиях не гоняет, разрешает продолжать привычный труд. Кстати, Пасха святая – тоже немалая неприятность для девчонок: с одной стороны, посту конец и клиент навалится сразу после крестного хода, кто веровал весь пост. Но с другой – особенно последняя неделя – то ли чистая, то ли вербная, то ли ещё какая – она очень строгая, чтоб в неё трахаться, и многие бизнесмены держат простой, кто в жизни сильно нагадить успел, – думают, отсидятся за неё, потом сходят, «смертью смерть поправ» споют и пиздец, снова гадить своему же народу можно, по налогам и вообще, по оффшорам по их. А мы в прогаре по такой их прихоти, без бабок сидим, на чистяке голом.
– А, может, они в этот раз раньше гонять закончат? – неуверенно предположила Зебра, – если явный фаворит окажется и остальных всех уделает до срока, а? Бразилия, я знаю, всех маму уделывает обычно.
Я представила себе бразильскую маму по типу женской пиратки и прыснула. Смешно так слышать от черноокой красавицы восточного образца про такую бандитскую маму – никак к этому не привыкну за столько лет, именно к этим словесным соединениям, вовсе не матерным, а причудливым совсем по другому закону устных русских слов. Нинка, однако, не согласилась, прокашлялась с сухими хрипами ниже бронхов и все еще огорченно уточнила:
– Бразилия главная по карнавалу, а не по футболу. По футболу Англия лучше, мне клиент рассказывал, а потом за анал не заплатил, пьяным притворился и захрапел под утро. Я так и ушла, не растолкала гадину. Но это до точки ещё, когда я на апартаменте работала.
Зебра задумалась, было видно, что вопрос для нее на самом деле нешуточный:
– Как бы он мамке не сказал зверям нас продавать и отморозкам, а то он сам ведь в жопе весь июнь теперь, Джексон-то.
На этот раз не согласилась я:
– Нет, – твердо обозначила я свою позицию, – Лариса на это не пойдет, не верю. Она себе до сих пор того со скальпелями простить не может, – я сама забыла почти, год прошел, а она всё помнит, точно знает, что промахнулась.
Тот со скальпелями и кучей других блестящих матовой нержавейкой инструментов, был милым с виду пацаном лет девятнадцати, весь в коже и на сияющей черным лаком бээмвухе пятой серии, тоже черной. Девки на показе сразу решили, что «сынок», и подбоченились под будущее благополучие. Однако Светка-Москва как-то странно посмотрела в сторону кожаного пацана и брезгливо поморщилась. Мне почему-то тогда это тоже не понравилось, поэтому пацан, наверное, и выбрал меня. Бабки выдал без разговора: так выдал, что понятно было совершенно – впереди еще выдача и, возможно, не одна. Девки дополнительно облизнулись и сглотнули. Я подошла к мамке, взяла ее за рукав и сказала:
– С этим не отъеду.
– Щас решим, – равнодушно ответила Лариса и наклонилась к окну иномарки. Затем она поднялась обратно и твердо сообщила: – Отъедешь, он другую не хочет.
– Нет, – сказала я.
– Да, – сказала мамка. – Он две сотки дал за тебя, конкретно хочет, значит нормальный, я отвечаю.
Тогда я посмотрела на мамку и поняла, что дискуссия беспредметна. Предмет оставался один – куда завтра выходить работать, на какую другую точку. Снова на Красные Ворота к тамошней мамке на поклон? И я сломалась…
…Пацан вез меня не знаю куда – говорил, по дачному варианту работаем, но дачей не пахло, а пахло хвоей сначала, а затем болотом, потому что съехали с дороги не на твердый грунт даже, а на какую-то узкую тропку и пробирались дальше, чуть не задевая автомобилем стволы деревьев: и оттого было особенно страшно, так как стало совершенно очевидно, что пацан с кожаным верхом ориентируется хорошо в такой непривычной для BMW глуши. А еще стало жутко, так как до меня вдруг дошло, что пацану этому ничуть не жалко сияющих бочин своей тачки и ему на нее в высшей степени наплевать, на всю сразу, потому что нечто гораздо более важное и волнительное у него на уме, другое совсем вожделение, другой кайф и другая его занимает в этом болотистом запахе трясучка.
Он остановил, когда дальше ехать было некуда. Бампер его уперся в ствол крайнего дерева перед начинающейся топью, обозначив место будущего досуга за 200 твердых баксов, и я поняла, что хорошим дело не кончится. Если не убьет, подумала, завяжу это дело, и почувствовала, как внутри ухнуло болотной выпью. Между тем пацан заглушил движок, но не стал выключать дальнего света фар. Он вышел из машины и сладко потянулся.
Пронесет, – вдруг подумала я, – просто мудель-романтик при бабках.
В том году как-то, помню, Подхорунжая рассказывала: приехал на точку джип, стекло черное открыл, кто там – так и не понял никто, даже Джексон расшифровать не сумел потом – так оттуда рука интеллигентская высунулась с пакетом, а интеллигентская, потому что тонкая, белокожая и с отведенным слегка мизинцем – именно так она руку эту осознала, их всегда видно, интеллигентов, даже по отдельным частям тела и гардероба. Потом рука та самая пакет наземь опрокинула, а оттуда бабки посыпались, ровно десять банковских пачек по десять штук было баксов. Девки поначалу пасти пораскрывали, думали всех скупают до конца дней, а Подхорунжая, не будь дурой, хоть и задней к событию стояла, где столичная фракция тусовалась, те, что при Светке-Москве отирались, первой к сброшенным котлетам кинулась, всем телом разом об них, чтоб перекрыть как можно больше собственной плотью. Но тут мамка в себя пришла от изумления такого как по книге Гиннеса и заорала во всю силу власти второго человека на точке:
– Всем блядям стоя-я-я-ть!!! – и сама подбирать кинулась сброс тот.
А Светка-Москва губу презрительно поджала, плюнула в сторону и спокойно так сообщила:
– Фуфло – бабки.
А джип уже отъехал к тому времени так же незаметно, как и появился, с одними подфарниками, несмотря на темное время суток. Лариса пакет обратно соорудила, как изначально был, и побрела за угол в машину Джексона с отчетом. Чем дело закончилось, долго никто не знал. А после все равно узнали через возилу Джексона. Бабки оказались – натуральней не бывает, самые подлинные, чисто американского производства, каждая пачка – целка. А Джексон придумал, что ему долг так отдали для передачи дальше, но все равно поставил всей точке фуфлового шампуня с Дорогомиловской просрочки. Подхорунжая потом простить себе не могла целый год, что лоханулась так дешево, на мамкину угрозу повелась. Сейчас, говорила потом уже, когда история подтихла и неясность улеглась, сама бы мамковала где-нибудь уже не хуже вашей точки ленинской. Нашей, в смысле.
И то правда, – подумала я тогда о ней, – ведь не от хорошей жизни кликуху такую носит, а оттого, что отказа своего против своей же услуги не признает принципиально, считает, нет клиента, под которого есть причина не лечь. Нет такого и все тут. Вот тебе и Москва – столица. Но об этом отдельно…
…Так этот тоже, может, романтик, только не в джипе, а в BMW. Он багажник открыл, оттуда бутылку с чем-то – у меня сил все равно не было рассмотреть, даже если отрава там была для меня, – дальше фужеры два красивых, одеяло какое-то и дипломатник черный, кожаный, как и сам весь. Иди, говорит, сюда, Кира, размещайся со мной на одеяле. А сам все время улыбается. Я иду и присаживаюсь, дрожу все еще, но уже не так, вспомнив про романтика из новеллы Подхорунжей. Раздевайся, говорит, Кира, пожалуйста, а сам откупоривать начинает. Ну тут меня окончательно почти отпустило, я юбку сняла, маечку и смотрю на него – трусики потом можно, спрашиваю, или сразу? А он разливает, подает мне и весело так говорит, что зачем, мол, потом, когда я сейчас предполагаю начать тебе аборт делать, как мы с тобой только выпьем. И пригубляет. А другой рукой меня резко за запястье прихватывает, и я обнаруживаю, что хватка у него мертвая. Шутишь, говорю, а уже все понимаю, что это на самом деле со мной происходит, и всё предыдущее был для него зловещий разгон лишь. И начинаю дрожать страшно, всем телом, меня просто бить изнутри начинает и мотать всю целиком. А он, как будто, дрожь мою почувствовал и сам затрясся, но не от страха, как я, а от своего какого-то внутреннего изнеможения, от того, как всё со мной у него получается. Он фужер свой на одеяло вернул и той же рукой стал из дипломатника все, что было там, вываливать, чтобы я хорошенько это видела. А были это всякие хирургические инструменты: скальпели с разными резаками на концах, зажимы, лопаточка небольшая, щипцы – их он отдельно положил, не вместе с другими предметами. Медленно раскладывал, подправлял по ходу предстоящей операции: мы, говорил, аборт тебе делать не спеша будем, жидовочка, аккуратненько чтоб получился наш абортик, по всем правилам медицины. Но только, добавил, незадача у нас одна – нет никакой нужной анестезии у меня для этого, ничего?
А мне уже все равно было тогда почти. Но спасли меня дети мои в конце концов плюс его ошибка. Слишком понадеялся, наверно, на мой паралич. А у меня он и вправду был сильный, но тут же вспомнился Артемка младший и тут же Соня, оба разом, и мне хватило этого. В этот самый миг я свободной рукой перехватила бутылку и резко, со всего размаха ударила пацана кожаного по голове, в самый затылок удар пришелся. Пацан, как сидел и раскладывал, так на инструментах своих и обмяк. Я так и не знаю до сегодня: убила – не убила, но только подхватила юбку и маечку и понеслась бешеным галопом во тьму, в сторону от болота и джипа, и бежала так, сколько могла, пока не завалилась на что-то мягкое типа моха, но все равно раскровянила ногу и лоб об осину. А когда отрыдалась, то пошла искать дорогу, то есть шоссе в город обратно, там поймала частника, и он до Павлика меня дотряс по тройному тарифу с учетом внешнего вида, темного времени и предположительного отсутствия столичной регистрации. Так я в живых осталась, а пацана того больше не видала…
Лариса наша, мамка, как узнала, заохала, но проохала, правда, недолго, самая работа была тогда на точке, как будто с ума мужичье посходило в те дни: брали всё подряд, бригадами, без отсмотра почти, живым весом, не торгуясь, как будто фракция какая аграрная гуляла, подвалившая к очередному съезду на полноприводных тачках со всех концов республик, где сняли небывалый урожай. Но потом Ларка призналась, что ошиблась с пацаном, повелась на две сотни его: я, говорит, думала, ему жгучая нужна девочка, почерней чтобы и южней по виду, он евреечку спросил – нет ли у меня, а я чего скрывать-то буду тебя, да за бабки еще, у меня ж нет других из ваших, ты у меня одна с такой уникальностью по происхождению, хоть и наполовину, а все ж. Сам-то он сладенький из себя мальчик, молодой, чисто пиздатый, из сынков. Прости, Кирк, а?
Сама Ларка была натуральной москвичкой, родилась здесь, но я заметила, что при этом она любила голосом дуркануть и неправильное слово вовремя вставить для сближения с контингентом, чтоб некоторые девчонки излишне не заводились, когда вопрос спорный по бабкам. Психолог тот ещё. Со мной она почему-то мягкое «гэ» не применяла и до тупого упрощения в разговоре не скатывалась, чувствовала, наверно, что меня изнутри брать легче, а не снаружи. Так оно и было на самом деле. А что до евреечки оправдание её и до моей уникальности, так это я по отчиму Берман, а по жизни мы Масютины были до маминой с дядей Валерой женитьбы, ну а в черное окрашена до самых корней для дополнительной профессиональной молодости. Но мамке в это вникать не с руки было, даже такой, как Лариска, да и понять можно, с другой стороны, – сколько нас у неё на контроле.
Я тогда, помню, и простила и не завязала, как себе обещала сама, – снова про Артемку с Сонечкой вспомнила, тем более, что мамка мне в тот день, как повинилась, весь полтинник отдала, свой четвертак отделять не стала, когда я отъезжала – небывалый случай у нас на Ленинке. А я ещё подумала, что время пройдет потом, уляжется смертельная эта абортная история с кожаным уродом, и Лариска между делом повод найдет и оштрафует, но это не сразу будет, не впрямую и не сейчас. Никуда мне с подводной лодки моей не выплыть, подумала я тогда, некуда просто выплывать – вода кругом простая, соленая и больше ничего. Да и неохота мне.
Итак, три дня ещё и месяц впереди неоплаченного футбольного отпуска. Зебра закинула голову к потолку и принялась вычислять. О чем – мы и так с Мойдодыркой знали наверняка: прикидывала билет до Бишкека туда-сюда, подарки родне и частичную потерю квалификации. По-любому получалось неподходяще, но в основном по бабкам. Но мы же с Нинкой и знали, как никто, что ни в какой Бишкек Зебра не соберется, не хватит у нее решимости, коль за все годы не хватило. Там ее не ждет никто давно, с жизни списали и искать уже, надо думать, перестали. Я, правда, злилась тайно на подружку лучшую, что нет маяка ясного у неё в жизни: детей не будет, домой не явится – теперь уже факт, сколько узкие щелочки свои к потолку не задирай, а бабки грамотно на что-нибудь другое направить не хватает таланта, желания и цели – сплошная долбежка у Дильки в перспективе при нестихающей обиде на человека, не конкретно, а вообще. Меня, когда у человека лишние средства без нужды имеются, ужасно огорчает, а если ещё прямее сказать, то даже злит. А Зебра мимо этого вопроса проезжает, не тормозя, как будто сваливаются бабки с неба, зависают без нужды и пусть себе. Она даже не говорит типа там – посмотрим, что делать буду, куда направлять их, словно другая совершенно метафизика ее занимает, а все остальное – между делом делается, работа наша. А остальное это всё – и есть дело, расстройство, радость и выбранная судьба.
Была еще одна тема – та самая из-за чего Дилька стала Зеброй. А Зеброй она стала уже в Москве, но еще до химкинской точки. Ту точку, в отличие от нашей, крышевали не мусора, а бандиты, потому что она из первых была, наравне с Тверской или около того. Тогда мусора ещё правильный разгон не взяли, только примеривались пока. Дилька прибыла в Москву еле живой, потому что за последние два месяца оказалась дважды изнасилованной и единожды ограбленной. Было это лет пять тому, если мотать обратно, сразу, как стукнуло ей двадцать один. И считалась она тогда не просто хорошенькой, а очень хорошенькой – сил нет: скуластая через отца, чернявая через мать и кареглазая через них обоих. А взломить красоту ее такую хотелось всем, включая отца, отцова брата, ее же родного племянника и всех остальных мужских соседей. Правда, отец вожделел этого с помощью мысленных лишь образов, а все остальные – в натуральном исполнении. Диляра же знать ничего про это не ведала, потому что училась на бухгалтера и честно хотела надежного мужа и сытых детей. Больше всех за Дилькину невинность переживал дядя, отцов брат, законный муж одной своей жены и незаконный – двух ещё дополнительных. Таким образом, отцом он уже получался семерым разновозрастным отпрыскам, старший из которых годился Дильке в сильно старшие братья.
Бить дядя решил на жалость. Не к себе, имелось в виду, а к многочисленной семье, которая осталась бы без главного кормильца и оплодотворителя в случае уголовного развития события, отвечающего предстоящему плану. Дильку он заманил на базар и насиловал её там в вагончике охраны, с которой договорился заранее. Дилька ничего не понимала, ревела каспийской белугой и умоляла отпустить. Отпустить ее дядя уже не мог, потому что вынашивал насилие племянницы все последние лет десять, и в результате так и вышло – оргазм дядькин был слаще спелой чарджоузской дыни и на суму, тюрьму и родственную обиду ему было в тот мучительный по конвульсиям момент в высшей степени наплевать. Люблю, сказал он Дильке, когда все окончилось и он утер следы сделанного и натянул штаны. Люблю как родную тебя, Диля, добавил для убедительности, в полной уверенности, что победил собственную похоть единственно верным способом. Ты не позорь меня, дочка, предупредил он ее, пока ехали домой, а то себя больше опозоришь, ладно?
И Дилька стерпела и не открылась никому больше. Проблема, кроме имевшейся, началась, когда в сиськах стало тянуть и набухать, а в животе разлаживаться привычная картина женской регулярности. К доктору она не пошла, все сообразила сама. Все совершенно, как и то, что если её не убьет мать, то отец убьет наверняка. Но в этом случае жертв будет на одну больше с учетом пылкого отцова брата. Бухгалтерская наука на фоне имевшихся вполне жизненных обстоятельств разом потеряла для Дильки актуальность, несмотря на несомненные способности девчонки в области баланса и бухучета. Решения искать не понадобилось – другого просто не существовало, но и о нем она не известила даже единственного из возможных пособников – насильника-дядю.
Денег хватило на купейный билет в одну сторону – до Москвы; также оставалось ещё около пятисот рублей на обживание в столице. Кроме паспорта и аттестата зрелости в наличии имелось четыре пресных лепешки, немного конской колбасы, смена белья, учебник по бухучету на всякий случай, столбик туши для ресниц, зубная щетка, полтюбика пасты «Лесная», домашние тапочки из бордового плюша и фотография родителей. Все это помещалось в студенческом портфеле из натурального кожзаменителя фальшивого вьетнамского крокодила.
Ехали нормально, потому что соседом был веселый парень-аспирант по холодильным агрегатам. Весь путь он травил анекдоты и таскал из буфета прохладительную воду с газом. Последний раз, перед самой уже Москвой, когда оставалось ночь ехать всего лишь, а на утро уже сама мать городов-героев ожидалась, притащил снова, на этот раз зелёной какой-то, с травой, сказал, тархуном и мятой, и она попила, перед тем, как укладываться окончательно. А утром её еле добудилась проводница, еле глаза ей сумела разомкнуть и трусы обратно натащить на голые бедра. Крокодиловый портфель валялся в стороне от события, в тамбуре, но без 500 рублей под боковой молнией и без паспорта. Тапки, паста «Лесная», учебник, все такое было на месте, но осознать ни того, что утрачено, ни того, что осталось во владении, Диляра не могла еще в течение ближайших трёх-четырёх часов, пока внутренность головы восстанавливалась после воздействия порции клофелина, растворенного в тархуновом питье, а душа – после ночного «аспирантского» надругательства над обездвиженным и повторно обесчещенным телом. До зала ожидания на Курском вокзале Диляру доволокли две сердобольные студентки и курсант-пограничник. Испытывая легкую неловкость, они помялись для виду около невменяемой Дильки, но сумели-таки преодолеть внеплановый неудобняк и, наскоро кивнув друг другу, то ли на прощанье, то ли с целью обозначить намерения насчёт частично спасенной ими девушки, растворились в людской толпе, каждый в своем безвозвратном направлении.
Окончательно Диляра пришла в себя лишь к концу дня, снова оказавшись в нечистом купе одиноко стоящего в дальнем тупике вокзала брошенного вагона. Рядом был неопрятный мужик с хитрыми и сухими глазами и делового вида баба, похожая на ушлую билетную кассиршу. Портфель с остатками имущества тоже был здесь. Интересовалась в основном баба, а мужик сочувственно ей поддакивал. Чтобы разобраться в Дилькиной новелле, бабе хватило минуты четыре, причем с деталями, включая историю бишкековского невольного греха.
– Значит так, девка, – жестко объявила решение баба, – жить селю тебя сюда, аборт организую, но аборт, жилье и харчи отработаешь. А там посмотрим, что с тобой делать, ясно?
– Ясно, – согласилась Диляра, совершенно не понимая, чего хотят от нее эти люди, кроме как помочь в ее беде. – Спасибо вам.
– Тогда выпей, – обрадовался мужик и налил ей в стакан чего-то прозрачного. – Это для тебя укрепляющее.
Диля выпила и почувствовала, что ей действительно становится лучше.
– Работать начнем сегодня, – перешла к делу баба, – с вечера прям.
И снова Диля согласно кивнула, потому что ей стало ещё лучше, гораздо лучше, окончательно нормально и хорошо…
Клиентов в вагон приводил мужик и доставлял непосредственно в купе, куда заодно приносил воду и поесть и из которого водил Дильку по нужде в вагонный туалет, где вместо вырванного с корнем унитаза в полу зияла дырка в черноту, если дело было вечером или ночью, или же мутный, рваный световой цилиндр упирался в загаженную рельсовую шпалу, которую она с трудом разбирала почти невидящими при дневном свете глазами.
Сопротивляться появляющимся и исчезающим с механической регулярностью разновеликим мужским объектам сил не было. Да силы были, в общем-то, и не причем. Не было нужного соображения головы, не хватало ни времени, ни умения собрать все, что было вокруг нее, в одну понятную картину, загнать происходящее в середину страшного купейного вагона и охватить все это разом: умом, глазами и животом. Одежды не было никакой, так как баба унесла все, что на ней было, а ее просто прикрывали после быстрой случки суконным одеялом, говорили раздвинуть ноги, но в итоге делали все за нее сами, поворачивали, как надо, к себе или в обратном от себя направлении, дышали в нее кто чем, но всегда гадким и через одного присасывались ртами и отдельно зубами к молодым кускам бесчувственного Дилькиного тела. Один раз возникла баба, но другая, не билетная кассирша, она тоже лизала и сосала Дильку повсюду, как делали другие мужики, но, кажется, осталась недовольна получившейся Дилькиной безответностью и ушла, обругав ее грязными словами.








