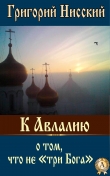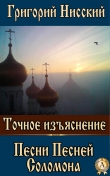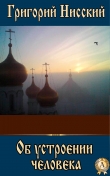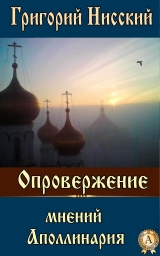
Текст книги "Опровержение мнений Аполлинария"
Автор книги: Григорий Святитель
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
ГЛАВА 19
И как ни ужасно сие, однако наше слово, следя далее за последовательным выводом из его учения, находит у него богохульство и на самого Отца. Он говорит, что человек есть сияние славы Божией и что в «плотяном боге», которого он, как бы идола, создал в своих суетных помыслах, изображается Ипостась Божия. Посему как луч имеет сродство с солнцем и сияющий из лампады свет – со светильником, и образ человека указывает человеческое существо; так, конечно, (если то, что явилось нам, воссияло от славы Отца, и образ Ипостаси Его есть плоть) и естество Отца по строгой последовательности должно быть признаваемо плотяным. Ибо нельзя сказать, что бестелесное изображается телом и из невидимого сияет видимое. Но какова слава, таково, очевидно, и сияние, и каков образ, такова, конечно, и Ипостась, так что если первый есть тело, то, конечно, не может быть представляема бестелесной и последняя. Упоминает он и о догмате (утвержденном) в Никее, где Собор всех отцов провозгласил единосущность.
Но никто не назовет единосущным разнородного, а тем (лицам), у коих сущность понимается тождественной, конечно, приличествует и единосущность. Итак, если Сын, «плотяной бог», и есть, и именуется плотью предвечно по самому естеству, а что Он единосущен Отцу, в том не сомневается и сам сочинитель; единосущны же один другому те предметы, понятие о сущности которых тождественно, то следует, что Аполлинарий должен допустить предположение, что и естество Отца некоторым образом человеческое и плотяное, чтобы сохранить по отношению к обоим имя единосущности. Так что одно из двух: или, называя Отца бестелесным, а Божество Сына плотяным, допустит их разносущность, или, признавая общность по Божеству и сущности равно в Отце и Сыне, сделает плотяным естество Божества и в Отце. Но как бы желая исправить такую нелепость, выше, где произвольно изъясняет изречение Захарии, говорит, что от лица Отца сказано о Сыне «соплеменник» (συμφυλος) (Зах.13:7), что значит: соестественный и единосущный. Правильно или нет понял он слова Захарии, другой вопрос, а что выводит отсюда, таково: «пророческое слово, – говорит, – показывает сим, что Сын единосущен Богу не по плоти, но по духу, соединенному с плотью». Но каким образом плотяной Бог его прежде сложения мира соединяется с плотью? Ибо когда не было веков, не было и ничего другого из твари, в ряду же сотворенных вещей плоть явилась после всего и последней. Итак, с какою же плотью соединился Сын, когда естество человеческое не пришло еще в бытие? Но Аполлинарий знает некоторую другую плоть кроме человеческой. Каким же образом утверждает, что самый человек, глаголавший нам о делах Отца, и есть оный Бог Творец веков? Кто изъяснит нам нелепость сих новых загадок? Человек прежде бытия человека, плоть, существующая прежде, чем сама была создана, и предвечное, происшедшее в последнее время, и все другое подобное сему, о чем беспорядочно рассуждает!
ГЛАВА 20
Но пусть писатель наш по произволу блуждает по распутьям своих рассуждений; мы же в обличение нечестивых мыслей, предложив апостольское учение, и им самим упоминаемое, перейдем к дальнейшему.
«Иже во образе Божий сый» (Флп.2:6), говорит (Апостол); не сказал: имеющий образ, подобный Богу, как говорится о созданном по подобию Божию, но в самом «образе Божий сый»; ибо в Сыне все, что принадлежит Отцу, следовательно, и вечность, и неколичественность, и невещественность, и бестелесность; так что в Сыне во всем сохраняется образ Отческих свойств. И будучи «равен Богу», равенство допускает ли мысль о каком-либо различии и отменности? Как равенство может приличествовать тому, что по естеству различно? Ибо если одно по естеству плотяно, а другое свободно от плотяности, то каким образом кто-либо будет почитать равным первое с последним? «Себе умалил», говорит Апостол, «зрак раба приим». Какой «зрак раба»? Конечно, тело, ибо от отцов слышим мы, что оный зрак есть не иное что, как тело. Итак, говоря, что принял зрак раба, а зрак есть плоть, утверждаем, что, будучи по Божескому образу нечто другое, Он принял рабский образ, как нечто иное по естеству. Впрочем и слово «умалил» ясно представляет, что не всегда Он был тем, чем явился нам, но в полноте Божества Он равен Богу, недостижим и неприступен и тем более невместим в ничтожной человеческой малости; сделался же вместимым смертному естеству плоти только тогда, когда, как говорит Апостол, умалил неизреченную славу собственного Божества и уничижил Себя до нашей малости; так что то, чем был, было велико, совершенно и необъятно, а то, что принял, было равномерно с мерой нашего естества. Ибо говорит: «в подобии человечестем быв» и образе (Флп.2:7), очевидно, как от начала не имеющий в себе подобие такому естеству и не облеченный ни в какой телесный образ. Ибо как на бестелесном может быть напечатлен чувственный образ? Но тогда является в образе, когда, облекаясь, возлагает оный на Себя, образ же этот есть естество тела.
ГЛАВА 21
Итак, «обретеся якоже человек». Ибо и человек Он, хотя и не во всем человек, но «якоже человек», по причине таинства рождения от Девы; чтобы из сего явно был что не во всем Он покорился законам человеческого естества, но божественно восприяв жизнь и не имев нужды в действии брака для образования собственного тела, не во всем обретается обыкновенным человеком по особенности Его происхождения, но «якоже человек», и таким образом умалил Себя, соделавшись человеком без изменения (Своего естества). Ибо если бы от начала был им, то в чем заключалось бы умаление?
Ныне же Всевышний чрез соединение с уничиженностью нашего естества умалил Самого Себя, ибо соединившись с принятым им образом раба и став едино с ним, усвояет немощи раба. И как бывает у нас по связи между членами, если что случится с оконечностью ногтя, то все тело разделяет боль с страждущим членом, так как сочувствие проходит по всему телу; так соединившийся с нашим естеством усвояет и наши немощи, как говорит Исайя:
«Той недуги наша прият, и болезни понесе» (Мф.8:17), подвергшись язвам за нас, чтобы язвою Его мы исцелели (Ис.53:4–5); не Божество потерпело язвы, но соединенный с Божеством чрез единение человек, естество которого может быть доступно уязвлению. Совершается же сие для того, чтобы разрушить зло тем же путем, каким оно вошло. Поелику смерть вошла в мир ослушанием (первого) человека, то изгоняется она послушанием второго человека (Рим.5:12–19). Посему (Господь) бывает послушным «даже до смерти» (Флп.2:8), чтобы уврачевать послушанием преступление прсслушания, а воскресением из мертвых уничтожить вошедшую преслушанием смерть, ибо воскресение человека от смерти есть уничтожение смерти. «Темже», говорит, «и Бог Его превознесе» (Флп.2:9), эти слова служат как бы некоторой печатью предшествующего рассуждения. Ибо явно, что высочайшее не нуждается в возвышении, но уничиженное подъемлется на высоту, как скоро теперь становится тем, чем прежде не было. Ибо соединенное с Господом человеческое естество подъемлется на равную высоту вместе с Божеством, и возносится именно то, что подъемлется из уничиженности, а уничиженное есть образ раба, чрез вознесение становящийся Христом и Господом. Поелику же человек, восприятый Христом, как следует между людьми, назван был особенным именем вследствие таинственного извещения Деве от Гавриила, и человеческое в Нем было наименовано, как сказано, Иисусом (Лк.1:31); Божеское же естество не может быть объято именем, между тем чрез срастворение два стали едино, то посему и Бог именуется от человеческого (естества) заимствованным именем. Ибо «о имени Иисусове всяко колено поклонится» (Флп.2:10), и человек становится превыше всякого имени, что свойственно Божеству, Которое не может подчиниться именовательному обозначению, так чтобы как высокое является в уничиженном, так и уничиженное прияло взамен того высокие свойства. Ибо как Божество получает имя чрез человека, так превыше имени становится от уничиженности вознесенное до Божества; и как бесславие рабского образа имеет отношение к соединенному с рабом Богу, так и воздаваемое от всей твари поклонение Божеству приносится соединенному с Божеством (человеку); и таким образом, «о имени Иисусове всяко колено поклонится небесных и земных и преисподних, И всяк язык исповесть, яко Господь Иисус Христос в славу Бога Отца» (Флп.2:10–11). Аминь.
ГЛАВА 22
Но как бы краснея пред самим собою и стыдясь нелепости сказанного, Аполлинарий, кажется, отменяет некоторым образом то, что доказывал прежде, и намеревается допустить, что подобие Сына с человеками есть после привзошедшее (επιγεννητικη). Ибо говорит: «вот равенство того же Иисуса Христа с Отцом прежде существовало, а подобие с человеками после привзошло…» По-видимому, он раскаивается в сказанном прежде, и если бы сделал сие, если бы только от сердца отверг нелепое мнение, то и мы прекратили бы обличение. Но из сделанного им оказывается, что добрая мысль, заключающаяся в сих словах, дает ему повод к другой нелепости; потому что буквально говорит так: «и что яснее того, что не иной соединился с иным, то есть совершенный Бог с совершенным человеком?». Что эти слова не имеют ничего общего с предыдущими, очевидно всем способным следить за смыслом слов. Ибо каким образом равенство с Отцом, прежде существовавшее, и после привзошедшее, как сам говорит, подобие с человеками доказывают, что не был совершенным человеком тот, чрез коего вочеловечился совершенный Бог? Это подобно тому, как если бы кто, сказав, что небо отстоит от земли, потом стал бы утверждать, что из сего ясно, что свинец равного объема тяжелее олова, и сочел бы тяжесть за небесное расстояние. Точно так же никто не скажет, что несовершенство человечества, чрез которое Бог является в нашем естестве, доказывается тем, что подобие Сына с человеками признается после привзошедшим. Но я отложу пока доказывать нечестие и безумие такого мнения, теперь же попытаюсь обратить исследование на то, что у него буквально написано по порядку далее, чтобы с первого же раза открылись его погрешности. Говорит, что (Христос) не есть совершенный Бог с совершенным человеком. Доселе оставил под сомнением, кого из сказанных назвал несовершенным, так что, по неясности обозначения, мысль может относиться равно к тому и к другому, и из того, что слышали, нельзя узнать, кого почитает он несовершенным – Бога или человека, или то же самое думает об обоих. «Он, – говорит, – по духу есть Бог, обладающий славою Божией, по телу же – человек, носивший бесславный образ человеческий». Назвал Бога, назвал и человека, но всякому известно, что значение сих наименований не одно и то же, но что особый смысл имеет слово «Божество» и особый – «человечество». Ибо Бог есть всегда тожественная вина всех благ, которая всегда была и никогда не престанет быть; человек же в некоторых отношениях имеет сродство с естеством бессловесных, подобно им живет при помощи плоти и ощущений, но отделяясь от бессловесных прибавлением ума, в сем имеет особенность естества; ибо никто, определяя человека, не станет определять его по плоти, костям и органам чувств; никто также, сказав о силе питания и пищеварения, не укажет в этом особенности человеческого естества, но признаком человека служит способность мышления и разумность. Итак, одно и то же – обозначать ли естество посредством имени или посредством особенности, принадлежащей естеству; ибо кто скажет: человек, укажет тем на разумность; кто поименует разумность, этим же словом укажет на человека.
Так и Аполлинарий, поименовав Бога и человека, если под (первым) выражением понимал все те признаки, которые открываются в Божестве, то при помощи (своего) толкования не мог также уничтожить и того, что означается словом человек; но если называется человек, то, конечно, это название истинное, а не лжеименное; истина же имени выражается в том, что он есть животное разумное. А разумность, конечно, происходит от ума, так что, если человек, то необходимо и разумен, если же не разумен, то и не человек.
ГЛАВА 23
«Но по телу, – говорит, – был человек, носивший бесславный образ человеческий». Это он предлагает нам от себя, а не из учения Писания.
Впрочем, чтобы сии самые слова превратить в противное тому, что он имеет в виду, рассмотрим его слова таким образом. «Носил, – говорит, – бесславный образ человеческий». Посмотрим сначала, в чем состоит слава человека, и таким образом из того, что будет следовать отсюда, уразумеем, что такое бесславие. Слава человека, то есть истинная слава, есть, конечно, жизнь по (правилам) добродетели; ибо только изнеженным свойственно определять славу или бесславие людей по здоровому цвету лица, или свежести плоти, или, наоборот, по безобразию тела. Итак, если славным у людей признается добродетель, то бесславным, конечно, порок. Между тем Аполлинарий говорит, что Бог восприял бесславный образ человеческий. Итак, если бесславие в пороке, а порок есть постыдное направление произвола, произволяет же разумение, а разумение есть некоторое движение ума; то следует, что кто видит в Боге человеческое бесславие, тот не может отнять разума у человека, чрез которого Бог жил человеческой жизнью. И это согласно с божественным Писанием, именно, что Он соделался грехом ради нас (2Кор.5:21), то есть соединил с Собою способную (саму по себе) ко греху (αμαρτικην) душу человеческую. «Господа, – говорит, – явившегося в рабском виде», но раб сей, вид которого принял на себя Господь, был ли совершен или нецелостен? Ибо недостаточность и изувеченность в отношении к полноте живого существа по справедливости должна быть названа повреждением. «Не человек, – говорит, – но «якоже человек», потому что неодносущен с человеком по владычественной части Его». Если неодносущен, то, конечно, иной сущности; что же имеет другую сущность, у того и естество, и название не может быть общее. Иное существо огня и иное воды, и обоих название различны. А Петр и Павел, поелику одно естество, то и имя существа у них общее, ибо каждый из них человек. Итак, если по существу (Господь) был нечто другое, – не человек, а только по видимости принял образ, подобный человеку, на самом же деле различествовал по естеству, то должен он сказать, что и все было только какою-то призрачностью и обманчивой мечтою; ложно у Него было ядение, ложен сон, не существенны все чудеса исцелений, не было креста, пе было положения во гробе, не было и воскресения после страдания; но все являлось только призрачно, и, по мнению сочинителя, не было ничего из того, что представлялось. Ибо если Он не был человек, то как было повествуемое о Нем?
Как назовет кто-либо человеком того, кто чужд человеческого существа? «Не был, – говорит, – односущен с человеком по владычественной части его». Но кто отнимает владычественную часть у человека, которая и есть ум, тот в остальном видит скота, скот же не человек. Потом говорит: «уничиженного по плоти, но превознесенного от Бога на Божескую высоту». Здесь опять кроме нечестия еще более безумия, нежели в прежде сказанном. Одно, говорит, уничижено, другое превознесено. Плоть, говорит, уничижена, хотя оная и нисколько не имела нужды в уничижении, будучи уничиженной по естеству; Божество же, говорит, превознесено, хотя высочайшее и не нуждается в возвышении. Итак, куда же превознесено Божество, которое превосходит все и превыше всякого возвышения? Напротив, хочет ли то признать сочинитель или нет, возвышается уничиженное по естеству, как несколько выше рассуждали мы о сем в нашем слове.
ГЛАВА 24
Подобно тем, которые проговариваются во сне, он, оставив последовательность в рассуждении, снова употребляет в дело наши слова и вставляет в свои речи то, что мог бы сказать и здраво рассуждающий о догмате. Он различает то, что прославляется, и того, кто имеет славу.
«Прославляется, – говорит он, – как человек, а славу имеет прежде (сложения) мира, как Бог, сый прежде век». Доселе он рассуждает здраво, если бы слова его этим и ограничились, может быть, кто-нибудь подумал бы, что он, раскаявшись, дошел до мыслей более согласных с благочестием. Но теперь, как бы окольным каким путем обойдя в своей речи эту здравую мысль, он снова возвращается на поприще заблуждения, и, обратив к нам множество ругательств и приравнив нас по учению к иудеям и еллинам, опять возвращается в своем слове к той блевотине, которую извергал прежде при помощи суетных умствований, вымышляя для Христа предвечную плоть и утверждая, что Сын, Который родился от Девы, был воплощенным умом; не в Деве восприяв плоть, но прошед чрез нее, как чрез канал (παροδικως), Он по внешнему образу явился таковым же, каковым был прежде век, то есть богом плотяным или, как он выражается, воплощенным умом. говорит он, и распятый называется Господом славы (1Кор.2:8) и Господом сил, по слову пророческому (Ис.8:13.); посему же Он произносил и такие изречения, свидетельствующие о Его самовладычестве и господстве: «Аз тебе глаголю» (Лк.7:14), «Аз ти повелеваю» (Мк.9:25), «Аз делаю» (Ин.5:17) и другие многие с таковым же высшим значением. Но что скажет сей именитый муж, где он поместит сосцы, пелены (повивальные), прилив и отлив жизненной силы, постепенное возрастание тела, сон, утомление, подчинение родителям, тоску, скорбь, желание пасхи, требование воды, принятие пищи, узы, заушения, раны от бичей, ношение терния на главе, облечение в багряницу, биение тростью, копие, оцет, гвозди, желчь, плащаницу, погребение, гроб, камень? Как все это он отнесет к Богу? Ибо если его плотяной бог всегда был тем, чем явился чрез Марию, и являемое взору было Божество, то Божество претерпевает все упомянутое – сосет, пеленается, питается, утомляется, растет, наполняется, извергает, спит, тоскует, скорбит, стенает, ощущает жажду и голод, с поспешностью приходит к смоковнице, не знает, есть ли и время ли быть плодам на дереве, не ведает дня и часа, подвергается биению, терпит узы, заушается, пронзается гвоздями, проливает кровь, умирает, погребается, полагается в новом гробе. Неужели он соглашается признать, что все это свойственно и естественно предвечному Божеству, что Оно не возросло бы, если бы не питалось сосцами, и что Оно совершенно не могло бы и жить, если бы (с) помощью питания не возмещало истощение силы? А как его плотяной бог не знает того дня и часа? Как он не знает времени смокв – того, что в пасху нельзя найти на дереве плод, годный для снедения (Мк.11:13)? Скажи, кто это неведущий? Кто это скорбящий? Кто находится в беспомощном положении?
Кто вопиет, что он оставлен Богом? Если Божество Отца и Сына едино, то от кого последовало это оставление, о котором Он возгласил на кресте? Ибо если Божество страдало (а благочестиво мыслящие признают, что у Отца с Сыном едино Божество), и если страждущий говорит: «Боже мой, Боже мой, векую Мя еси оставил» (Мф.27:46), то как единая сущность Божества во время страдания разделяется, и одна» часть его оставляет, а другая оставляется; одна подвергается смерти, а другая пребывает в жизни; одна умерщвляется, а другая воскрешает умерщвленное? Или он не будет исповедывать единство Божества Отца и Сына и поэтому явится поборником Ария? Если же, восставая против Ария, скажет, что (Божество Отца и Сына) едино, то никак не останется в согласии с самим собою, не имея возможности удержать придуманный им вымысл; эти восклицания и состояния духа, свидетельствующие о страдании и уничижении, он по необходимости отнесет к человеческой природе и согласится, что естество Божеское и при общении с человеческими страданиями осталось неизменным и бесстрастным.
Свидетельствует о сем и сам Аполлинарий, говоря о Нем, что «прославляется как человек, восходя из (состояния) бесславия, а славу имеет прежде (создания) мира, как Бог, сый прежде век». Ибо бесславие, конечно, есть плотское естество, подверженное страданию, следовательно, вечная слава есть чуждое страдания и бессмертное могущество.
ГЛАВА 25
А чтобы не казаться нам в своих словах клеветниками, передам и буквально то самое, смысл чего был изложен нами. «Еллины и иудеи, – говорит он, – явно впадают в неверие, не желая слышать, что Бог рожден от жены».
Почему, говоря здесь о рождении, он умолчал о плоти, хотя «рожденное от плоти», конечно, было «плоть», как негде говорит Господь (Ин.3:6)? Желая доказать, что самая рожденная плоть есть Божество и что Бог не во плоти явился, он говорит: «Бог, будучи во плоти прежде веков, после родился от жены и пришел (в мир) испытать страдания и подъять нужды естества (человеческого)». Говоря сие, он не признает в Нем даже человечества, однако же как человека подвергает Его страданиям, хотя человеческого естества и не усвояет Ему. Ибо как может быть человеком тот, о котором говорит, что Он не от земли? Писание говорит, что человеческий род произошел от Адама, и он первый Божественной силою произведен из земли. Посему и Лука, излагая родословие мнимого сына Иосифова, называет Его Адамовым (Лк.3:38), соединяя начало Его рождения с именем каждого из праотцов. Итак, происходящий не от рода человеческого, конечно, есть что-либо иное, а не человек. Если же Он не человек, так как не имеет начала, принадлежащего роду человеческому, и не Бог, так как не бестелесен, то что такое этот бог во плоти, придуманный сочинителем, – на сие пусть отвечают ученики и поборники его лжеучения. «Но, – говорит он, – нас приняли бы еллины и иудеи, если бы мы сказали, что рожденный есть божественный человек, подобно Илии». Но кто же из еллинов принимал за истину чудеса, которые были с Илией; то, например, что огонь, получив двоякий образ, – вид колесницы и вид коней, движется в направлении, противном его природе, именно, несясь сверху вниз, и что Илия, поднимаясь на огненной колеснице, правит огнем и среди пламени сохраняется невредимым, причем огонь влечет за собою огонь, то есть огонь коней – огонь колесницы? Ибо если кто поймет все это как должно, тот сим самым откроет себе путь к принятию тайны (воплощения), усматривая в сем повествовании некое образное пророчество о вочеловечении Господа, предызображенное событиями. Ибо как огонь, по природе своей стремящийся вверх, силою Божией приближается к земле, а Илия, охваченный небесным огнем, снова воспринявшим свое естественное движение, и сам возносится с ним, так невещественная и безвидная сущность (ουσια) – Сила Вышнего, восприяв зрак рабий, естество (υποςτασις), родившееся от Девы, возвела оное на собственную высоту, преобразовав в Божеское и совершенное естество. Таким образом, не верующий сему не поверит и чудесным событиям с Илией; а прежде научившийся истине, прикровенно изображенной в его жизни, не будет враждебно относиться и к сей самой истине.