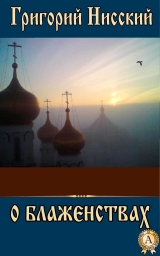
Текст книги "О БЛАЖЕНСТВАХ"
Автор книги: Григорий Святитель
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Слово 3
«Блаженны плачущие, ибо они утешатся»
(Матф. 5:4.)
Не взошли мы еще на вершину горы, но в мысленном пока подгории; хотя и миновали уже два некие холма, блаженствами возведенные в блаженную нищету и высшую нищеты кротость, откуда слово ведет нас к большим еще возвышениям, и показывает между блаженствами третью по порядку возвышенность, на которую, без сомнения, надлежит поспешить, как говорит Апостол, леность «всяку отложше, и удобь обстоятельный грех» (Евр. 12:1.); чтобы легкими и проворными став на вершине, приблизиться душою к чистейшему свету истины. Посему, что значит сказанное: «блажени плачущии: яко тии утешатся»?
Посмеется, конечно, у кого в виду этот мир, и, издеваясь над словом сим, скажет так: если ублажаются по жизни истощаемые всяким бедствием; то следует, конечно, что бедствуют те, у кого жизнь беспечальна и благоденственна. И таким образом увеличит еще смех, перечисляя роды бедствий, выставляя на вид худые последствия вдовства, горькое состояние сиротства, убытки, кораблекрушения, взятие в плен на войне, несправедливые решения в судах, изгнания из отечества, описания имуществ, бесчестия, бедствия от болезней, как то: увечья, отъятие членов, и всякого рода телесные повреждения, и если еще какое страдание, касающееся или тела, или души, приключается людям в сей жизни, все опишет в слове, и тем, по его мнению докажет, будто бы достойно осмеяния слово, ублажающее плачущих. Но мы, не обращая много внимания на тех, которые имеют тесный и низкий взгляд на мысли Божественные, постараемся, сколько возможно, рассмотреть заключающееся в глубине сказанного богатство; чтобы и чрез это сделалось явным, сколько разности в разумении плотском и перстном с разумением возвышенным, небесным.
С первого взгляда блаженным можно признать плач о проступках и о грехах, по учению о печали Павла, который сказал, что не один вид печали, но есть печаль мирская, и есть печаль «по Бозе содеваемая», и дело печали мирской – смерть, а вторая печаль покаянием «соделовает» печалющимся спасение (2 Кор. 7:10.). Ибо подлинно не недостойно ублажения такое состояние души, когда, пришедши в чувство худости, оплакивает она порочную жизнь. Как в телесных недугах, в которых одна из частей тела от какого либо повреждения делается недействующею, знаком омертвения недействующей части служит ее бесчувственность; если же каким врачебным искусством телу снова возвращено будет жизненное чувство, то радуются уже болям члена, и сам страждущий, и прислуживающий больному, признаком переворота болезни на здравие принимая то, что член стал уже чувствовать причиняемую ему боль: так, когда иные, как говорит Апостол, «в нечаяние вложшеся» предадут «себе» (Еф. 4,19.) жизни греховной, став подлинно какими-то мертвыми и недействующими для жизни добродетельной, ни мало не чувствуют они того, что делают. Если же коснется их какое либо врачующее слово, как бы горячими какими и опаляющими составами, – разумею строгие угрозы будущим судом, – и страхом ожидаемого до глубины проникнет сердце, и в нем, оцепеневшем от страсти сластолюбия, как бы растирая и согревая, подобно какому-то горячительному и острому врачевству, – страх геенны, огнь неугасимый, червя не умирающего, скрежет зубов, не престающий плачь, тьму кромешную и все сему подобное, заставит почувствовать ту жизнь, какую проводить; то соделает его достойным ублажения, произведя в душе болезненное чувство. Как и Павел восшедшего неистово на отцово ложе до тех пор бичует словом, пока остается он бесчувственным к своему греху; а когда врачевство укоризн коснулось этого человека, как соделавшегося уже блаженным за свой плачь, начинает утешать, да не многою как говорить, «скорбию пожерт будет токовый» (2 Кор. 2:7.).
Положим, что и эта мысль в предлагаемом взгляде на учение о блаженстве небесполезна будет для жизни добродетельной, потому что грех в естестве человеческом как-то умножается, а покаянный плачь оказывается врачевством от него; но мне кажется, что слово усильнейшим действием плача означает нечто имеющее более глубокий смысл, нежели сказанное, заставляя разуметь кроме сего нечто иное. Ибо если бы слово указывало на одно покаяние по прегрешении, то последовательнее было бы ублажать плакавших, а не всегда плачущих. Так если для сравнения взять болезненное состояние; то ублажаем излечившихся, а не тех, которые всегда лечатся, потому что продолжение лечения показывает вместе и неукрощаемость недуга. Но и по другой причине, кажется мне, не хорошо ограничиться такою одною мыслию, будто бы словом сим уделяется блаженство одним плачущим о грехах. Ибо найдем многих, проведших жизнь безукоризненно, и, по свидетельству самого Божия Слова, отличившихся всяким Добрым делом. Какая любостяжательность у Иоанна? Какое идолослужение у Илии? Какое малое или большое прегрешение в их жизни известно истории? Что же? Неужели слово сие предположит, что вне блаженства и они, и первоначально не болевшие, и недошедшие до потребности в сем врачевстве, разумею покаянный плачь? Не будет ли нелепо признать таковых лишенными божественного ублажения за то, что не грешили, и не врачевали греха плачем? Или в таком случае грешить не будет ли предпочтительнее того, чтобы жить безгрешно, если одним кающимся дана в удел Утешителева благодать? Ибо сказано: «блажени плачущии: яко тии утешатся». Посему, сколько можно, последовав, как говорит Аввакум, «на высокая» Восходящему (Авв. 3:19.), еще поищем заключающегося в сказанном смысла, чтобы дознать, какому плачу уготовано утешение Святаго Духа.
Посему посмотрим сперва, что такое в человеческой жизни самый плачь, и отчего иногда бывает он? Всякому явно, что плачь есть унылое расположение души, появляющееся при лишении чего либо любимого; каковое состояние в живущих благополучно не имеет места. Например: человек благоуспешен в жизни, все дела идут, как по течению реки, в приятность ему, веселит его супруга, радуют дети, подкрепляют своим содействием братья, в народном собрании он пользуется почетом, а у начальства добрым о себе мнением, страшен противникам, уважается подчиненными, обходителен с друзьями, изобилует богатством, живет в свое удовольствие, приятен, беспечален, крепок телом, имеет все, что почитается в этом мире дорогим: такой человек, конечно, живет в веселье, наслаждаясь каждою вещью, какая есть у него. Но если благоденствия сего коснется какая либо превратность, и, по дурному какому-то стечению обстоятельств, произведет или разрыв с наиболее любимыми, или утрату в имуществе, или какие либо телесные повреждения; тогда лишением увеселяющего производится противоположное расположение, которое называем плачем. Посему истинно данное о нем понятие, что плачь есть скорбное некое ощущение утраты того, что увеселяет. Если же понять нами плачь человеческий, то пусть очевидное послужит некоторым путеуказанием к незнаемому, и сделается явным, что такое плачь ублажаемый, за которым следует утешение.
Ибо, если здесь плачь производится лишением благ, какие у кого есть, и никто не станет оплакивать того, что желает утратить; то надлежит прежде узнать самое благо, что оно такое в действительности, а потом составить понятие о человеческом естестве; ибо сим достигнется и то, чтобы преуспеть в ублажаемом плаче. Например из живущих во тьме, когда один родился в темноте, а другой привык наслаждаться внешним светом, но насильно стал заключенным, настоящее бедствие не одинаково действует на обоих. Ибо один, зная, чего лишился, тяжелым для себя почтет утрату света; а другой, совсем не знавший такой благодати, проживет беспечально, как выросший во мраке, и рассуждая, что не лишен ни одного из благ. А посему пожелание насладиться светом одного поведет ко всякому усилию и примышлению снова увидеть то, чего лишен насильно; а другой состарится, живя в темноте, потому что не знал лучшего, признавая для себя благом настоящее. Так и в рассуждении того, о чем у нас речь, кто возмог усмотреть истинное благо, и потом уразумел нищету человеческого естества, тот, конечно, почтет душу бедствующею, оплакивая то, что настоящая жизнь не пользуется оным благом. Посему, кажется мне, слово ублажает не печаль, но познание блага, по причине которого человек страждет печалью о том, что нет в жизни сего искомого.
Посему порядок требует исследовать, действительное ли нечто есть оный свет, которым темный этот вертеп естества человеческого не озаряется в настоящей жизни? Или, может быть, пожелание стремится к тому, чего нет, и что непостижимо? Ибо таков ли наш рассудок, чтобы следить ему за естеством искомого? Таково ли значение имен и речений, чтобы передать нам ими достойное понятие о высшем свете? Как наименую незримое? Как представлю невещественное? Как покажу не имеющее вида? Как постигну то, что не имеет ни величины, ни количества, ни качества, ни очертания, не находится ни в месте, ни во времени, вне всякого ограничения и определенного представления? Чье дело – жизнь и самостоятельность всего представляемого благом? К чему прилагается мыслию всякое высокое понятие и именование: Божество, царство, сила, присносущие, нетление, радость, радование, и все высоко мыслимое и сказуемое? Посему, как и при каких помыслах возможно, чтобы таковое благо стало доступным взору, – было и созерцаемым и не видимым? Всем существам сообщило бытие, а само было присносущим, и не имело нужды приведения в бытие?
Но чтобы не утруждал себя напрасно разум, простираясь до пределов беспредельного, прекратим пытливое исследование об естестве превысших благ, так как все подобное сему не может и быть постигнуто; извлечем же ту одну пользу из своих изысканий, что, по самой невозможности увидеть искомое, отпечатлеется в нас некое понятие о величии искомого. Но в какой мере, по нашему верованию, благо по естеству своему выше нашего ведения, в такой паче и паче усиливаем в себе плачь о благе, с которым мы разлучены, и которое так высоко и велико, что даже ведение о нем не может быть вместимо. И сего-то блага, превышающего всякую силу постижения, мы люди были некогда причастниками; и в естестве нашем оное превысшее всякого понятия благо было в такой мере, что обладаемое человеком, по самому точному сходству с первообразом, казалось новым благом, принявшим на себя образ первого. Ибо что теперь гадательно представляем об оном благе, все то было у человека: нетление и блаженство, самообладание и неподвластность, беспечальная и не озабоченная жизнь, занятие божественным, – тем, чтобы взирать на благо и чистым и обнаженным от всякого покрывала разумением. Ибо все сие дает нам в немногих речениях гадательно уразуметь слово о миробытии, говоря, что человек создан по образу Божию, жил в раю, и наслаждался насажденным там; а плод оных растений – жизнь, ведение и подобное сему. Если же это было у нас; то как не востенать о бедствии, сравнительно с тогдашним блаженством сличающему настоящую ныне бедность? Высокое унижено; созданное по образу небесного оземленилось; поставленное царствовать поработилось; сотворенное для бессмертия растлено смертью; пребывающее в райском наслаждении преселено в эту болезненную и много трудную страну; воспитанное в бесстрастии обменяло сие на жизнь страстную и кратковременную; неподвластное и свободное ныне под господством столь великих и многих зол, что невозможно исчислить наших мучителей. Ибо каждая в нас страсть, когда возобладает, делается властелином порабощенного, и подобно какому-то преобладателю, заняв твердыню души, чрез самих подчинившихся ей мучить подвластного, наши же помыслы в угодность себе употребляя на свою прислугу. Так раздражительность, гнев, страх, боязнь, дерзость, состояние печали и удовольствия, ненависть, ссора, бесчеловечие, жестокость, зависть, ласкательство, памятозлобие, нечувствительность, и все страсти, представляющиеся против нас действующими, составляюсь список каких-то мучителей и властелинов, как пленника какого, власти своей порабощающих душу. А если кто исчислит и беды постигающие тело, тесносоединенные и неразлучные с естеством нашим – разумею различные и разнообразные роды болезней, которых в начале вообще не испытывало человечество; – то гораздо обильнейшие прольет слезы, взирая вместо благ сравнительно с ними на скорби и благоденствию противоположные бедствия.
Посему Ублажающий плачь, кажется, втайне учит душу обращать взор к истинному благу, и не погружаться в настоящую прелесть сей жизни. Ибо невозможно, как вникающему тщательно в дела прожить без слез, так глубоко погрязшему в житейских удовольствиях думать, что он печален. Подобное сему можно видеть на бессловесных. Хотя жалости достойно устройство их естества (ибо что жалостнее сего – быть лишенным разума?); однако же нет у них никакого чувства о своем несчастии; напротив того и ими проводится жизнь с некоторым удовольствием: конь поднимает вверх голову, вол взрывает пыль, свинья щетинит волосы, молодые псы играют, тельцы прыгают, и всякое животное, как можно видеть, какими-нибудь знаками показывает свое удовольствие. А если было бы у них какое либо понятие о даре разума; то не проводили бы они в удовольствии своей глупой и бедственной жизни. Так и людьми, у которых нет никакого ведения о благах, каких лишилось естество наше, настоящая жизнь препроводится в удовольствии. А кто услаждается настоящим, тому следует не искать лучшего. И кто не ищет, тот и не найдет приобретаемого одними ищущими.
Итак поэтому Слово ублажает плачь, признавая его блаженным не потому, что таков он сам по себе, но потому, что от него происходите. Да и связь речи показывает, что для плачущих блаженно плакать, так как сие самое приводит к утешению. Ибо Господь сказал: «блажени плачущи», и не остановил на сем речи, но присовокупил: «яко тии утешатся». Сие-то, кажется мне, проразумев великий Моисей (лучше же сказать, Слово чрез него учреждающее это), в таинственных обрядах пасхи узаконил иудеям в дни сего праздника есть неквасный хлеб, а приправою к снеди соделал «горькое зелье» (Исх. 12:8.), таковыми гаданиями давая нам возможность дознать, что не иначе можем стать причастниками таинственного оного празднества, как к неизнеженной и безквасной жизни добровольно примешав горькое зелье века сего. Посему и великий Давид, даже видя у себя высочайшую меру человеческого благополучия, разумею царство, – обильно наделяет жизнь свою горьким зельем, жалобно стеня и оплакивая продолжение пришельствия своего во плоти, и лишаясь сил от пожелания чего-то большего, говорит: «увы мне, яко пришелствие мое продолжися» (Псал. 119:5.); а в другом месте, неослабно взирая на красоту «селений» Божиих, говорит, что «скончавается» от сильного желания, признавая для себя достопочтеннейшим причитаться там к последним, нежели первенствовать в обладании настоящим (Псал. 83:2, 3, 11.).
Но если кому угодно точнее уразуметь силу ублажаемого оного плача; то пусть разберет сам с собою повествование о Лазаре и богатом, в котором с большею открытностию уясняется нам таковое учение. Ибо Авраам говорит богатому: «помяни, яко восприял еси благая твоя в животе твоем, и Лазарь такожде злая: посему он утешается, ты же страждеши» (Лук. 16:25.). Сему и быть надлежало после того, как чуждыми благого Божия о человеке смотрения соделало нас неразумие, лучше же сказать, злоумие. Поелику Бог узаконил нам наслаждаться благом, к которому не примешано зло, и воспретил к хорошему примешивать испытание худого; то, когда мы по жадности своевольно пресытились противным, то есть вкусили преслушания Божия слова; – конечно естеству человеческому надлежит по этому изведать То и другое, иметь часть в печальном и веселящем. И как два века, также и жизнь, в сообразность с каждым собственно веком, представляется двоякою. Подобно сему и веселье двояко: одно – в настоящем веке, а другое – в предстоящем нам по упованию; то достоблаженно, долю увеселения истинными благами предоставить вечной жизни, а служение печали исполнить в этой краткой и временной жизни, почитая для себя утратою не то, если лишимся чего либо приятного в сей жизни, но то, если за наслаждение сею приятностью не получим лучшего. Посему, если блаженно в бесконечные веки иметь нескончаемое и всегда продолжающееся веселье, а естеству человеческому непременно должно вкусить и противоположного: то не трудно уже понять, что имеет в виду слово. Почему «блажени плачущии» ныне? Потому что «тии утешатся» в бесконечные веки. Утешением же служит причастие Утешителя; ибо собственное действие Духа есть дар утешения, которого да сподобимся и мы, по благодати Господа нашего Иисуса Христа! Ему слава во веки веков! Аминь.
Слово 4
«Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся»
(Матф. 5:6.)
Сведущие во врачебном искусстве говорят, что страждущие желудком и худым позывом на пищу, от скопления в верхней части желудка дурных каких либо соков и излишеств, всегда представляют желудок свой полным и сытым, и потому имеют отвращение от пищи полезной, по причине ослабления естественного позыва во время этой мнимой сытости. Но если приложено будет о них какое либо попечение врачебного искусства; то, по очищении каким либо разводящим врачебным питием скопившегося в желудочных полостях, произойдет, что ничто чуждое уже не будет беспокоить естества, возвратится же им позыв на пищу полезную и питательную. И признаком здоровья служит, что пища принимается уже не принужденно, но с пожеланием и увлечением. Что же значит у меня это вступление? Поелику слово, руководящее нас на высшие ступени лествицы блаженств, и, по выражению Пророка, полагающее «добрые восхождения на сердце» нашем (Пс. 83:6.), поступая последовательно, после совершенных уже нами прежде восходов указует подобное еще новое четвертое восхождение, говоря: «блажени алчущии и жаждущии правды: яко тии насытятся»: то хорошо, думаю, избавив душу от утраты позыва на пищу и от пресыщения, сколько возможно, возбудить в себе самих этот блаженный позыв на пищу и питие. Ибо не возможно человеку, ни быть сильным без достаточной пищи, подкрепляющей его силы, ни насытиться пищею, не вкушая ее, ни питаться ею без позыва на пищу. Итак, поелику сила есть некое жизненное благо; и она соблюдается достаточною сытостью; а сытость бывает от пищи, вкушаемым же при позыве на пищу: то позыв сей в живых есть нечто достойное ублажения, служащее в нас началом и причиною силы. Но в рассуждении чувственной этой пищи бывает с нами, что не все желаем тех же снедей, и пожелание вкушающих делится не редко по родам яств, одному приятно сладкое, а другой чувствует побуждение к острому и горячительному; иному же нравится солоноватое, и иному – кислое; случается же часто, что не у всякого бывает побуждение к снеди полезной; ибо иной, по какой-то особенности сложения имея склонность к какой либо страсти, питает болезнь соответственными ей по качеству яствами. А если будет иметь он побуждение к яствам полезным, то, без сомнения, проживет наслаждаясь здоровьем; потому что пища соблюдет телесное его благосостояние. Так и в душевной пище не у всех пожелания склонны к одному и тому же. Одни желают себе славы, или богатства, или какой либо мирской знаменитости; у других не усыпная забота о хорошем столе; иные с жадностью поглощают зависть, как ядовитую какую пищу; а есть и такие, у которых пожелание возбуждается естественно прекрасным. Естественно же прекрасно всегда и для всех то, что не ради чего другого избирается, но само по себе вожделенно, всегда одинаково, и никогда не теряет привлекательности по насыщении оным. Посему-то Слово ублажает не просто алчущих, но тех, у кого пожелание имеет склонность к истинной правде.
Посему что же такое правда? Ибо сие, думаю должно прежде раскрыть в слове, чтобы, когда обнаружится ее красота, тогда уже возбудилось в нас влечение к красоте видимого. Ибо не возможно возыметь пожелание чего либо не виданного; напротив того естество наше в рассуждении незнакомого нам как-то недейственно и неподвижно, если посредством слуха или зрения не приобретет какого либо понятия о вожделеваемом. Потому некоторые исследователи подобного сему говорят, что правда есть соблюдете правила, воздавать каждому равно и по достоинству. Например, если кто сделается полным господином при раздаче денег; то имеющий в виду равенство и подаяние соразмеряющий с потребностью получающих называется правдивым. И если кто, получив власть судить, произносит приговор, не по милости какой и вражде, но следуя свойству дел, и наказывает достойных того, и оправдывает своим приговором неподлежащих ответственности, и о прочих спорных делах творит суд по истине; то и он называется правдивым. И назначающий подати с подначальных, когда налагает подать соразмерную с силами, и владыка дома, и начальник города, и царь народов, – если каждый из них правит подвластными, не властью неразумных побуждений движимый, но по правоте судя ему покорных, и в решении дела сообразуясь с поведением подначальных; то определяющие правду соблюдением сказанного правила все сему подобное означают именем правды. Но, взирая на высоту божественного законоположения, полагаю, что здесь под правдою разумеется нечто большее сказанного. Ибо если спасительное слово изрекается вообще для всего человеческого рода, не всякому же человеку можно быть в числе поименованных (ибо царствовать, начальствовать, творить суд, иметь во власти раздачу денег, или другое какое смотрение, – удел не многих; великое же множество состоит под начальством и смотрением других); то как согласиться кому либо, что истинна та правда, которая не всему роду предлагается в равной степени? Ибо если, по словам внешних мудрецов, цель правды – управление; а где преимущество, там нет равенства: то данного о правде понятия не возможно признать истинным; потому что оно немедленно обличается неравенством в жизни. Посему какая же правда, простирающаяся на всех, вожделение которой, как общее, предлежит всякому, имеющему в виду евангельскую трапезу, богат ли он, или беден, рабствует, или господствует, знатного ли рода, или купленный раб, так что никакое внешнее обстоятельство не увеличивает, и не умаляет, понятия правды? Ибо если может она находиться только в том, кто выше прочих властью какою и преимуществом; то почему праведен поверженный у ворот богатого Лазарь, не имеющий у себя ни какого средства для оказания таковой правды: ни начальства, ни власти, ни дома, ни трапезы, ни другого какого житейского запаса, чем можно на деле совершить оную правду? Ибо если правда возможна тому, кто начальствует, оделяет, или вообще имеет что либо под смотрением; тот, кто не заведывает этим, без сомнения, вне возможности творить правду. Почему же сподобляется успокоения не имевший у себя того, чем, по словам многих, отличается правда? Посему надобно нам искать той правды, вожделевший которой по обетованию насладится ею. Ибо сказано: «блажени алчущии правды: яко тии насытятся».
Поелику много всякого рода таких веществ, ко вкушению которых естество человеческое стремится с вожделением; то потребно нам много сведения, чтобы различать в таких снедях питательное и ядовитое, и чтобы то, что, по мнению души, приемлется в пищу, вместо жизни не причинило нам смерти и разрушения. Но, может быть, небезвременно будет понятие о сем уяснить чем либо другим разрешаемым в евангелии. Вступивший в общение с нами «по всяческим, разве греха» (Евр. 4:15.), и приобщившийся тех же с нами немощей, не признал алкания грехом, и не отказался собственным Своим опытом изведать сию немощь, но допустил до Себя это естественное побуждение к пожеланию пищи. Ибо, сорок дней пребыв без пищи, «последи взалка» (Матф. 4:2.). Так, когда хотел, давал естеству время делать свое. Но изобретатель искушений, как скоро узнал, что и в Нем произошла эта немощь алкания, советовал удовлетворить желанию камнями, то есть, пожелание естественной пищи обратить к неестественному; ибо говорит: «рцы, да камение сие хлебы будут» (Матф. 4:3). В какой неправде виновно стало земледелие? За что было до того воз гнушаться семенами, чтобы обесчестить и пищу из них? За что осуждается Создателева премудрость, будто бы, питая человечество семенами, питает не надлежащим образом? Ибо если теперь камень оказывается более пригодным для пищи; то значит, что Божия премудрость погрешила в должном промышлении о человеческой жизни. «Рцы, да камение сие хлебы будут», – сие и до ныне говорит он тем, которые искушаются собственным своим пожеланием, и говоря так, всего чаще взирающих на него убеждает уготовлять себе пищу из камней. Ибо когда пожелание выходить из необходимых пределов потребности, что это иное, как не совет диавола, запрещающей тогда пищу из семен, и вызывающий пожелание неестественного? Из камней едят хлебы предлагающие их от любостяжательности, приготовляющие себе дорогие и пышные трапезы из неправд. У них и приготовление вечери – какое-то торжество, ухищренно устроенное на изумление всем, выходящее за пределы необходимого для жизни. Ибо что общего с естественною потребности имеет не употребляемое в пищу вещество серебра, выставляемое в тяжеловесных и с трудом переносимых приборах? Что такое ощущение голода? Не желание ли восполнить недостаток в необходимом? Поелику сила утратилась, недостающее снова восполняется приличным прибавлением. Хлеба, или иного чего годного в снедь, желает естество. А кто вместо хлеба подносит ко рту золото, тот удовлетворяет ли нужде? Посему, когда вместо годного в снедь ищет кто вещества, неупотребляемого в пищу; тогда он прямо заботится о камнях, потому что иного требует естество, а иным занят он. Естество ощущением голода, как бы внятным голосом, едва не говорит, что теперь потребна снедь, потому что должно возвратить снова телу утраченную силу. А ты не слушаешь естества; даешь ему не то, чего просит. Напротив того заботишься, чтобы на столе у тебя было большее бремя серебра, приискиваешь ковачей этого вещества, любопытствуешь узнать историю чеканимых на веществах изображений, чтобы они в точности передали искусством стрясти и нравы, и тебе можно было узнать раздражение воина, когда заносит меч на заклание, и страдание раненого, когда, пораженный смертельно, показывает вид готового заплакать, и рьяность зверолова, и свирепость зверя. и все иное, что с такою изысканностью эти суетные люди искусно изображают на настольных приборах. Естество требует пития; а ты приготовляешь дорогие треножники, лохани, чаши, большие сосуды, и тысячи других приборов, не имеющих ничего общего с требуемою нуждою. Ужели в том, что делаешь, не слышишь явно советующего тебе обратить взор на камень? А что, если кто опишет тебе, чем сопровождается эта каменистая пища, эти гнусные зрелища, страстные услаждения слуха, которыми пролагают в себя путь ряду зол приправляющие пищу тем, что разжигает к распутству? Вот совет сопротивника о пище! Это именно, обращая твой взор к камням, предлагает он тебе вместо законного употребления хлеба!
Но Преодолевающий искушение, не алкание как причину зол, изгоняет из естества, а удалив только излишнюю заботливость, присоединяющуюся к потребности по совету сопротивника, предоставляет естеству иметь о себе смотрение, не выходя из естественных своих пределов. Как очищающие вино не унижают его, и не называют не годным к употребление по причине образовавшейся на нем пенки, но, отделив излишнее в горле сосуда, не оставляют без употребления вина, сделавшегося чистым: так Слово, обозревая и разбирая, что естеству чуждо, при тонкости точного обзора, не отметает алкания, как служащего к соблюдение жизни нашей, но очищает от изысканных прибавлений к потребному, и отвергает их, сказав, что знает питательный хлеб, который усвоен естеству Божиим глаголом. Посему, если «взалка» Иисус, то достойно ублажения алкание, когда и в нас совершается в подражание Ему. А поэтому, если узнали мы, чего взалка Господь, то, конечно, узнаем силу блаженства, о котором теперь речь. Какая эта снедь, пожелания которой Иисус не стыдится? После беседы с самарянкою говорит Он ученикам: «Мое брашно есть, да сотворю волю Отца Моего» (Иоан. 4:34.). Очевидна же воля Отца, «Иже всем человеком хощет спастися и в разуме истины приити» (1 Тим. 2:4.). Итак если желает Он, чтобы мы спаслись, и Его пищею делается наша жизнь; то из сего дознаем, на что должно употребить такое расположение души. На что же именно? Будем алкать своего спасения, жаждать Божией воли, которая желает нашего спасения.
А как можно нам преуспеть в таковой алчбе, дознали это мы теперь из сего ублажения. Ибо кто возжелал Божией правды, тот нашел подлинно достожелаемое, и вожделению сего удовлетворил не одним из тех способов, какими исполняется желание. Ибо не только, как снеди, возжелал причащения правды; потому что желание, остановившееся на этом одном расположении, было бы в половину совершенным; теперь же благо сие соделал и питием, чтобы горячность и пламенность пожелания доказать и самым ощущением жажды. Ибо, во время жажды, делаясь некоторым образом сухим и пламенеющим, с удовольствием употребляем питие, как нечто врачующее в таком положении. Поелику же, хотя побуждение к принятию пищи и пития по роду одно, однако же расположение к тому и другому различно: то Слово предписало нам, что всего выше в пожелании блага, ублажает тех, которые терпят то и другое, и алкание и жажду правды; так как вожделеваемого достаточно для того, чтобы применительно содействовать тому и другому желанию, стать и твердою пищею для алчущего, и питием для привлекшего с жаждою благодать. «Блажени алчущии и жаждущии правды: яко тии насытятся».
Ужели же вожделевать правды достоблаженно; а если кто будет иметь подобное расположение к целомудрию, или мудрости или благоразумию, или к другому какому, ежели есть виду добродетели, то Слово не ублажает его? Но, может быть, сказанное имеет какой либо подобный следующему смысл: правда есть одно из разумеемого под именем добродетели; а божественное Писание по обычаю своему в упоминании о части нередко объемлет целое, например, когда естество Божие объясняет какими либо именами. Ибо пророчество как бы от лица Божия говорит: «Аз Господь» (Иса. 42:8.): «сие Мне имя вечное, и память родов родом» (Исх. 3:15.); и еще в другом месте говорит: «Аз есмь сый» (Исх. 3:14), и у другого Пророка: «яко милостив есмь» (Иер. 3. 12.). И тысячами других имен, означающих высоту и боголепие, святое Писание умело наименовать Бога; почему в точности дознаем из сего, что, когда скажет одно которое либо имя, этим одним безмолвно произносится весь список имен. Ибо если именуется Господом, не предполагается этим, что не принадлежат Ему другие имена; напротив того в одном имени именуется всеми именами. А из сего дознаем, что богодухновенное слово под какою либо частью умеет обнимать многое. Посему и здесь, сказав, что блаженно алчущим предлагается правда, именем ее слово означает всякий вид добродетели; так что равно достоин ублажения алчущий и благоразумия, и мужества, и целомудрия, или чего либо другого, что только заключается в том же понятии добродетели. Ибо невозможно одному какому либо виду добродетели, в отдельности от прочих, самому по себе быть совершенною добродетелью. В чем не усматривается чего либо умопредставляемого, как доброе, в том, по всей необходимости, имеет место противоположное ему; а целомудрию противоположно распутство, благоразумию – безумие, да и всему, что берется в лучшую сторону, без сомнения, есть нечто разумеемое противно. Посему, если в правде не усматривается вместе и все, то невозможно остальному быть добром. Никто не скажет, что правда неразумна, или дерзка, или распутна, или имеет что либо иное, усматриваемое в пороке. Если же понятие правды не соединимо со всем худым; то, конечно, сообъемлет в себе всякое добро; добро же все представляемое, как добродетель. Поэтому именем правды, алчущих и жаждущих которой ублажает Слово, обещая им исполнение вожделеваемого, означается здесь всякая добродетель.








