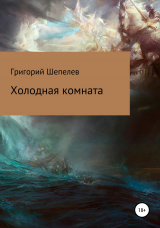
Текст книги "Холодная комната"
Автор книги: Григорий Шепелев
Жанр:
Прочие приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)
– Садисты! – вырвалось в этот миг из очень туманных и очень тёмных недр Кременцовой, – садисты! Сволочи! Вам сказали, откуда я? Вам звонили, … вашу мать? Или не звонили?
– Верочка, в другой раз не экономь перекись, пусть повязка сама отвалится, – обратилась врач к медсестре, поняв, о чём идёт речь. Потом – опять к Юле, – Юлечка, если ваша ножка чувствует боль – вам следует не кричать, а радоваться. Ведь боль – это защитная реакция организма. Раз она есть – значит, организм полон сил и готов бороться с болезнями.
От этих слов Кременцовой сделалось очень стыдно. Она смолчала, но покраснела. Присев перед ней на корточки, Галина Иосифовна взяла её ногу и стала осматривать воспаление. Кременцова стиснула зубы, твёрдо решив молчать, какой бы ужасной ни оказалась на этот раз защитная реакция организма. Но организм вёл себя спокойно, хоть пальцы доктора мяли ногу у самых ранок.
– На гребешок наступили? – спросила врач, отпустив, наконец, ступню пациентки и поднимаясь.
– На гребешок, – подтвердила Юля, – Инна Сергеевна и об этом вам рассказала?
– Анечка, покажи-ка нам свою ножку, – ласково попросила Галина Иосифовна вторую, точнее – первую подопечную. Анька, болтавшая на кровати ногами, подняла правую, на которой прежде была повязка. И Кременцова увидела на её подошве пять ранок, очень похожих на те, какие имела она сама. И место расположения этих ранок было таким же – около свода стопы, существенно ближе к пальцам, чем к пятке.
– Анечка тоже – правда, уже очень давно, в подростковом возрасте, наступила на гребешок, – пояснила доктор, взяв Аньку за ахиллесово сухожилие, чтоб как следует осмотреть её ногу, – но у неё – диабет, поэтому ранки периодически открываются.
– Вы, девчонки, скажите, где гребешки такие валяются, чтобы я туда не ходила, – с усмешкой произнесла свирепая медсестра, сдирая с бинта шуршащую упаковку, – чем их перевязать, Галина Иосифовна?
– Анечке положи сегодня салфетку с йодофероном, а Юлечке – с димиксидом. Надо снять воспаления. Кстати, Юлечка, вы не курите?
– Да, курю.
– Курить надо бросить – по крайней мере, на десять дней, пока ставим капельницы. Одна сигарета вызывает спазмы сосудов на двенадцать часов. А если сосуды будут плохо функционировать – ранки ваши не заживут, поскольку они довольно глубокие. Юля, вы меня слышите?
– Я вас слышу.
– А так у вас ничего, по-моему, тьфу-тьфу-тьфу, там страшного нет. Но полечить следует.
Передав Анькину конечность своей помощнице, которая подошла с салфеткой, чем-то пропитанной, и бинтом, Галина Иосифовна пребодро кивнула Юле и удалилась. Из коридора крикнула:
– Верочка, я – в двенадцатой!
Медсестра ещё перевязывала ступню Кременцовой, когда вошла с двумя капельницами другая – та самая, что брала у Юли кровь на анализ. Завязав бинт на бантик и обменявшись парой весёлых фраз с внутривенщицей, перевязочная сестра звонко покатила свою тележку вслед за врачом. Её сослуживица опять справилась со своей работой блестяще – ни Кременцова, ни Анька даже и не поморщились при введении игл в их вены.
– Долго лежать придётся? – спросила Юля, следя за тем, как по гибкой, прозрачной трубке к её руке течёт физраствор.
– Минут сорок пять.
– Враньё, – проворчала Анька, – час сорок пять!
– Ты лучше заткнись, – шутливо отозвалась медсестра, – не то пролежишь до завтра!
Анька надулась. Медсестра вышла, оставив дверь нараспашку. Задул сквозняк, довольно неслабый. Юля одной рукой кое-как накинула на себя одеяло. Минуты три она думала-гадала, с чего начать разговор. Она вспоминала, чему учил её Алексей Григорьевич, и пыталась понять, кто такая Анька. Выяснять это возможности уже не было – Анька всё понимала, ждала вопросов и также, видимо, выбирала линию поведения, будучи информированной о том, кто такая Юлька. А может быть, и не выбирала, так как смотрела на потолок. Если бы она хотела выиграть время, то притворилась бы спящей. И Кременцова начала так:
– Послушай меня внимательно. Эта тварь убила трёх или четырёх человек, включая, возможно, моего шефа. Я помогала ему раскрывать первое убийство, и это дело висит на мне до сих пор, согласно распоряжению прокурора – так что, считай, что я к тебе обращаюсь официально. Скажи, пожалуйста – кто она? Что ты о ней знаешь?
– Какая тварь? – спокойно спросила Анька. Её спокойствие обнадёжило Кременцову. Она решила, что Анька не корчит дуру, а уточняет.
– Худая, длинная, рыжая. Та, которая бросила тебе под ноги гребешок.
– Да всё это относительно.
Кременцова хотела сесть, но вовремя вспомнила, что приколота.
– Что ты хочешь этим сказать?
– Что никто мне под ноги гребешок не бросал. Он просто лежал на земле, а мне было пятнадцать лет, и я быстро шла, про мальчиков думала. Гребешок! Ты чего, смеёшься? Я бы и крокодила вряд ли увидела, окажись он там!
– Интересно, где это ты так шла босиком, ни на что не глядя?
– По сельской местности.
– По деревне?
– Да.
– Название скажешь?
– Какое ещё название?
– Ну, деревни этой.
– Деревни?
– Да.
– Извини, я всё перепутала. По Москве я шла. По Новосовихинскому шоссе. Сломался каблук, и я сняла туфли. Устраивает тебя такой вариант?
– Устраивает. Скажи, к тебе кто-нибудь приходит?
Анька зашевелилась и повернула голову. Её взгляд потряс Кременцову. Не испугал – потряс.
– Да, приходит мама. Но если ты её…
Кременцова с яростью перебила:
– Не я её, а ею займётся следователь по особо важным делам, который раскручивал на допросах бывших верховных судей и уголовных авторитетов! Мой шеф – Алексей Григорьевич Хусаинов, которого я любила немногим меньше, чем ты свою маму любишь, был его другом! Близким, проверенным, закадычным другом! Поняла, сука? Ты поняла меня? Или нет?
– Заткнись, – по-прежнему тихо, но как-то сдавленно попросила Анька, – пожалуйста, не ори. Мне нужно подумать.
– Долго ты будешь думать?
– Нет.
Пока Анька думала, Кременцова присматривалась к врачам, медсёстрам и посетителям, проходившим по коридору мимо палаты. Промчалась и внутривенщица, поглядевшая без снижения скорости, всё ли хорошо с капельницами. Теперь Юле стало понятно, зачем она оставила дверь распахнутой.
– Моя мама скажет вам только, где я три раза провела лето, когда ещё была школьницей, – прозвучал сквозь грохот каталки тихий, задумчивый Анькин голос, – она не знает даже о том, что я где-то когда-то проткнула ногу. Она считает, что эти язвы возникли сами собой, на почве болезни.
– Тогда чего ж ты так испугалась?
– Я не хочу, чтобы ты рассказала маме о том, что ей знать не нужно. Она – больной человек. И очень несчастный. Она и так знает про меня слишком много.
– Вот это мне непонятно.
– Что непонятно?
– Мне непонятно, как мама может знать слишком много. Если бы у меня ещё была мама, она бы знала про меня всё! Абсолютно всё.
На дрогнувшем голосе Кременцовой Анька и сорвалась, хотя перед тем с трудом, но всё-таки устояла против её бешеного напора. И ещё как сорвалась! Если бы вскочила, выдернув из руки иглу, да с визгом полезла драться – было бы ничего. Но нет – она звонко, как-то уж очень звонко, хотя и тихо, проговорила:
– А если бы у меня были деньги на препараты, которые сейчас льются по этой трубочке, моя мама тоже бы знала про меня абсолютно всё. А так, если будет знать, либо ей – кремация, либо мне – ампутация! И не надо тут на меня давить! Мне уже давно терять нечего, кроме мамы. Хочешь отнять её у меня? Ну, давай, вперёд! Я знаю, это возможно – читала книжки про Сталина и фашистов. Но только ты…
– Молчи, идиотка! – взвизгнула Кременцова. Чуть помолчав, прибавила:
– Тоже мне, нашлась Сонечка Мармеладова! Сука, …!
Ей вдруг захотелось вырвать иглу из вены и звать на помощь. Ну а откуда ещё мог взяться вдруг заструившийся по её кровеносной системе яд, если не из этой чёртовой капельницы? Откуда? Зависть не может быть такой жгучей, такой пронзительной! Или может? Разве она, идя по Охотному и Тверской мимо них – таких, как вот эта, не ощущала её почти столь же остро, эту подлую зависть к тем, кому секс приносит лишь деньги и ничего, кроме денег? Но чёрт возьми! Как можно завидовать этой девочке, по ночам читающей о собаках, а днём глядящей на всё без всякого выражения!
– Ты работаешь на Тверской?
– Не только.
– Но как же так? Ведь нельзя тебе!
– Нельзя мне без этого.
Анька тронула рукой трубочку. Кременцова почувствовала физическую, реальную боль. Притом непонятно было, где именно.
– Дорогие такие, да?
– Дорогие.
– А ты работу найти не пробовала?
– С неполным средним и инвалидностью не берут никуда.
Искусная внутривенщица, пробегавшая в ту секунду мимо палаты, внезапно резко остановилась и завернула в неё.
– Это что такое? Что тут за безобразие? Это кто у меня здесь плачет?
Взглянув на Аньку, Юля, точно, увидела на её щеке ручеёк, стекавший в подушку.
– Тебе что, плохо? – крикнула медсестра, схватив Аньку за руку.
– Нет, не плохо. Просто что-то взгрустнулось.
– Я тебе погрущу, зараза такая! Взгрустнулось ей! Ишь, расплакалась!
Через полмгновения медсестры уже след простыл. Анька тихо-тихо сопела.
– Прости меня, – попросила Юля, глядя на потолок с облупленной штукатуркой, – я была неправа.
– Ты была права. Так что, слушай.
И Анька за пять минут рассказала всё – и о том, как она одиннадцать лет назад пропорола ногу около дома мёртвой старухи, после чего лишилась сознания и очнулась с целой ногой, и о том, как Петьку однажды утром нашли растерзанным не то волком, не то собакой, и, наконец, о том, как Маринка вечером того дня принесла ей, Аньке, икону с изображением рыжей женщины, взятую этой самой Маринкой ночью в том самом доме.
– А для чего Маринка ночью пошла в тот дом? – удивилась Юля.
– Так днём Маринка и Петька следили за этой женщиной, потому что та на её, Маринки, глазах превратилась в женщину из собаки! Я тебе просто передаю, что слышала.
– Ясно. дальше.
– Во время слежки Петька каким-то образом засветился. Рыжая тётка подозвала его, приласкала и повела в чёртов дом. А ночью Маринка, лёжа в постели, услышала Петькин крик: «Маринка, Маринка!» Она вскочила и побежала Петьку спасать. Понятия не имею, что она там, в том доме увидела, кроме этой иконы. Когда я стала её пытать об этом – упёрлась. Но вряд ли там Петька был, потому что утром его нашли за три километра от того дома, в поле, уже остывшего.
– А с иконой-то вы что сделали?
– Понесли её в поле, чтоб там спалить. Бутылку бензина взяли с собой и спички. Было уже темно. Положили мы эту бабу – в смысле, икону, на большой камень, вынула я из бутылки пробку, и тут вдруг – крик! Да такой, что я и Маринка буквально сели на жопы. Потом мы обе вскочили, и – понеслись. Надо было видеть, как мы бежали! В деревне только остановились. На другой день у меня внезапно открылись ранки от гребешка, хотя с того дня, как я им поранилась, год прошёл. И весь этот год нога была невредимая. Тем не менее, я пошла потом с Маринкой взглянуть, лежит ли икона там, где мы её бросили. Оказалось, что не лежит. Исчезла бесследно.
– А кто кричал-то? Ты видела?
– Нет, не видела. Но могу сказать точно, что крик раздался у нас под носом. Со всех сторон на два километра был ровный, скошенный луг. Заливной, около реки. У тебя, случайно, руку не щиплет?
– Нет, – встревожилась Кременцова, – а что такое?
– Медленно стало капать. Рядом с твоей рукой – регулятор. Подрегулируй, а то до вечера пролежишь.
Ускорив поток раствора, Юля спросила:
– А где Маринка сейчас? Что с ней?
– Понятия не имею. Я ведь не видела её с того лета.
– А ты фамилию её знаешь?
– Знаю. Лазуткина. Лазуткина Марина Сергеевна. Родилась пятнадцатого апреля шестьдесят девятого года.
– А где, где, где родилась? – встрепенулась Юля. Анька задумалась.
– Если я ничего не путаю, в Люберцах. Ну, по крайней мере, жила она тогда в Люберцах.
– Ага, ясно. А ты не знаешь, где здесь находится телефон?
– На лестнице, на втором. Но тебе, я думаю, разрешат позвонить и из ординаторской.
Кременцова мысленно согласилась с этим предположением.
– Я не удивлюсь, если ты найдешь её в психбольнице, – продолжила, с полминуты помолчав, Анька, – она конкретно рёхнутая была.
– Зачем же ты согласилась жечь с ней икону?
– А ты бы в пятнадцать лет отказалась, если б тебе предложили что-нибудь сжечь?
Юля не успела ответить, так как вошла Галина Иосифовна – без маски. Лицо у неё оказалось весьма приятным. Подойдя к Кременцовой, Она потрогала её лоб, пощупала пульс, затем сообщила:
– Юля, звонила ваша начальница. Она меня попросила обследовать вас как можно более тщательно. Вы не против?
– Нет, я не против, – пробормотала Юля. В душе она была сильно против, но не смогла на сколько-нибудь вменяемом уровне сформулировать возражение.
– Хорошо. Тогда воздержитесь в час от обеда, а к трем часам спуститесь с историей на второй этаж, в кабинет номер двадцать шесть. Там вам проведут УЗИ почек и брюшной полости. После этого пообедаете. Историю вам принесёт Илюша. Договорились?
– Договорились.
– Отлично. Анечка, всё в порядке?
– Да, всё в порядке.
Пощупав пульс второй пациентки, врач взглянула на капельницы.
– Практически всё. Сейчас вас освободят. Ну а я прощаюсь с вами до завтра, девочки.
Улыбнувшись, вышла.
– Какая ж сука эта Инна Сергеевна! – возмущённо крикнула Кременцова, хлопнув ладонью по одеялу, – ну в каждой бочке затычка! Чего звонит?
– Но никто тебя ведь силком на УЗИ не тянет, – сказала Анька.
– Силком-то нет! Но если я вдруг потом возьму больничный – хоть через двадцать пять лет, хоть из-за ангины – она ж меня доконает! Будет пилить – вот я, мол, тебе тогда говорила, что нужно было обследоваться!
Пришла внутривенщица, разозлённая чем-то. Без единого звука она сняла и унесла капельницы. Кременцова с Анькой отправились в туалет. На обратном пути они зашли в процедурный, заметив перед ним очередь на уколы. Колол всё тот же Илюха. Бережно разбираясь с Анькиной задницей, он сказал Кременцовой, спускавшей джинсы:
– Юлия Александровна, через десять минут загляните в клизменную.
– Чего? – переполошилась Юля, – в какую клизменную? Зачем?
– Вам поставят клизму, согласно правилам.
Голопопая Анька противным возгласом выразила сочувствие. Кременцовские уши вспыхнули.
– Клизму? Мне?
– Галина Иосифовна назначила вам УЗИ брюшной полости?
– Да, назначила.
– В таком случае, вам от клизмы не отвертеться. Это – обязательная процедура перед УЗИ.
Когда вернулись в палату, Анька сказала Юле:
– Я видела у тебя халатик. Ты лучше штаны с трусами сними, а его надень.
– Почему?
– Потому, что до туалета от клизменной через весь коридор бежать. А если не добежишь, то штаны с трусами придётся выкинуть. Здесь стиральной машины нет.
– Твою мать!
Поспешно переодевшись, Юля с нетерпеливой руганью откопала в тумбочке косметичку, и, сев за стол, с помощью теней придала глазам величаво-хищное выражение.
– Да ты к клизме готовишься, как к свиданию, – усмехнулась Анька.
– Не вижу никакой разницы.
– То есть, как? Тебя ведь клизмить не Илюха будет, а медсестра!
– Не вижу никакой разницы, – повторила Юля. Стараясь всё делать быстро, она нанесла на лицо тональник, припудрилась, провела по губам помадой и поднялась. Анька оглядела её и неодобрительно помахала чёлкой.
– Нет, не пойдёт. Для Илюхи это было бы то, что надо, а для Эльвиры, которая клизмы ставит, слишком уж вызывающе. Она может тебя с собой перепутать.
– Так она – хищница?
– Да. Тигрица.
Но Кременцова образ менять не стала. Оставив Аньку скучать в палате, пошла.
Клизменная, точно, располагалась в дальнем от санузла конце коридора. Возле неё на кушетке сидела девушка с наглыми голубыми глазами, бледным лицом и короткой стрижкой. На ней был также халат.
– Ты очереди на клизму ждёшь? – сходу обратилась к ней Юля.
– Да.
Кременцова села рядом с девчонкой. Та, видно было, чувствовала себя не очень комфортно – сидела то на одной половинке попы, то на другой, и ругалась шёпотом. Вдруг спросила, косо взглянув на Юлю:
– Ты с чем лежишь?
– Проколола ногу. А ты?
– Меня положили на операцию. Очень сложная операция на прямой кишке. Завтра утром будет, поэтому целый день сегодня клизмят.
– Что с тобой случилось?
Девчонка заколебалась, медля с ответом.
– Ну, понимаешь… ну, как бы это сказать… меня изнасиловали.
– О, боже! – с лютой тоской воскликнула Юля, – да сколько вас ещё здесь?
– Это в каком смысле? – не поняла девчонка. Но разговор на этом прервался, так как дверь клизменной распахнулась, и в коридор рысцой выбежала весьма красивая дама лет сорока, в голубой пижаме. Зачем-то пристально поглядев на двух ожидающих, она ринулась к туалету, да с такой скоростью, что шагавшие ей навстречу два врача в масках еле успели посторониться.
– Надо идти, – со вздохом промолвила кременцовская собеседница, поднимаясь. Приоткрыв дверь, спросила:
– Эльвира, можно к тебе?
Ответили утвердительно. Через три минуты девчонка выскочила с расширенными глазами, одной рукой одёргивая халат, а в другой держа оба своих тапка. Сверкая пятками, она бросилась вслед за дамой. Нужно было идти. Юля поднялась и вошла без стука.
– Вы – из прокуратуры? – спросила тонкая, смуглая медсестра с татарским разрезом глаз, – Кременцова?
– Да.
Небрежно кивнув, медсестра достала из шкафчика пузырёк с вазелином и стала смазывать наконечник огромной шланговой клизмы, лежавшей на алюминиевом столе среди других клизм. Кременцова молча за ней следила, чувствуя себя странно.
– Юлия Александровна, оголяйте попу, ложитесь на левый бок, прижимайте ноги коленками к животу.
Напротив стола стояла кушетка. Юля расположилась на ней согласно распоряжению, предварительно скинув шлёпанцы, хоть её об этом и не просили. Эльвира сзади к ней подошла с орудием пытки.
– Правой рукой поднимите правую ягодицу, Юлия Александровна!
Лейтенант Кременцова выполнила и этот приказ.
– Очень хорошо. Теперь уберите руку. Расслабьтесь, думайте о приятном.
– Хватит меня на Вы называть! – психанула Юля, – клизму в задницу вставила, и раскланивается, как фрейлина с королевой!
– Простите… ой, извини, пожалуйста!
Высоко подняв клизму, Эльвира открыла кран. Ей было смешно. Весело вдруг стало и Кременцовой. Она отчаянно грызла пальцы, чтоб не заржать, и громко сопела, чувствуя, как вода разливается по её кишкам холодными волнами.
– Ещё много?
– Примерно литр. Клизма большая. Вторая будет поменьше.
– Что? Ещё одна будет?
– Даже и не одна. Я до трёх часов клизмить вас буду нещадно, Юлия Александровна! Уж простите. Придётся вам потерпеть.
Действительно, было тяжко. Выдернув шланг, Эльвира внезапно издеванулась:
– Ну, а теперь попробуй-ка, добеги с водичкой до туалета! Это тебе не в прокуратуре из одного кабинета в другой бумажки носить.
– Да иди ты в жопу!
Соскочив на пол, Юля ринулась к коридору, белея плотно сжатыми половинками. Лишь за дверью вспомнила, что халат надо опустить.
– Куда, куда босиком? – смеясь, кричала ей вслед Эльвира, – тапки надень!
Но Юля летела по коридору, слыша лишь ветер в своих ушах. Домчавшись до унитаза, она блаженно на него плюхнулась, и, подняв к потолку хищные, пантерьи глаза, чуть не застонала от наслаждения. Но к нему примешивалась какая-то ядовитая дрянь. Она была вызвана разговором около клизменной. Юля просто не понимала, как можно с таким спокойствием и с улыбкой рассказывать незнакомому человеку о том, что некие твари тебя унизили, да ещё при этом и изувечили! Совершенно не понимала. По туалету была разлита вода – хорошо, что чистая. Вероятно, потёк бачок. Кременцова, конечно, это заметила. Но не сразу.
Идя к палате, она услышала за неплотно прикрытой дверью радостный Анькин голос:
– Она сейчас сидит на горшке. Ей клизму поставили!
– Идиотка, – вздохнула Юля, и, открыв дверь, вошла. Ох, лучше б она этого не делала! Лучше бы она утопилась там, на чём только что сидела, задрав халат! Посреди палаты стоял с букетиком хризантем её сослуживец – старший лейтенант Кирилл Бровкин, тридцатилетний красавец. Стоял, смотрел на неё – на босую, красную, разъярённую. А она безмолвно пялилась на него, даже не пытаясь поднять углы сжатых губ. А гадина-Анька, натягивая трусы под халат, блаженно пищала:
– Юлия Александровна, ваши тапки вам принесли! Просили сказать, что вторую клизму вам будет ставить Илюша, так как Эльвире срочно пришлось куда-то уйти.
– Я безумно счастлива! Всё?
– Очень странно, что вас решили перед УЗИ проклизмить, – продолжала Анька, – я такой чести не удостоилась. Впрочем, вы – из прокуратуры! Для вашей задницы пары литров воды никому никогда не жалко.
– Очень смешно, – ответила Кременцова. Подойдя к Бровкину, она молча отобрала у него букет, а затем спросила:
– Вы это мне принесли цветочки, Кирилл Евгеньевич?
– Ну не мне же! – вякнула Анька, натягивая колготки со стрелкой на правой голени, – я и розы-то принимаю только с приплатой, а всякие там нарциссы, лилии, хризантемы сочла бы попросту оскорблением.
Положив хризантемы на подоконник, Юля растерянно огляделась, и, взяв гитару, села с ней на кровать. Начала подстраивать.
– Весело тут у вас, – проговорил Бровкин, сделав шаг к стулу, – присесть позволите?
– Да, но только ко мне спиной, потому что я сейчас буду надевать лифчик!
Анька давала этот ответ уже без халатика. Взяв аккорд, Юля удивлённо отметила в своих мыслях, что после капельницы её соседка переменилась так, будто ей вместе с физраствором вспрыснули возбудитель вредности. Струны звонко зарокотали.
– Как себя чувствуешь? – спросил Бровкин у Юли, сев.
– Да ничего, получше. А ты?
– Ужасно.
Юля бойко играла Гомеса.
– Хусаинов?
– Да. Хусаинов.
Зазвучал Энио Мариконе. Остро почувствовав себя лишней, Анька заодевалась вдвое быстрее. Через минуту на ней были уже туфли, юбка и свитер.
– Куда намылилась? – обратилась к ней Кременцова.
– Да в магазин схожу. Тебе что-нибудь купить?
– Купи мне две банки свиной тушёнки.
– Две банки?
– Да.
Помахивая цветастым пакетом, Анька ушла. Отложив гитару, Юля закрыла лицо руками и тихо-тихо спросила:
– Как?
– Перегрызли горло.
– А эту женщину? Ольгу?
– Ей перерезали.
По рукам Кременцовой струились слёзы. По коридору опять ехала телега. Везли обед.
– Мы нарисовать её сможем? – спросил Кирилл. Кременцова горестно покачала опущенной головой.
– Рост – высокий, фигура – тонкая, волосы – ярко-рыжие, ниже плеч, походка – очень изящная. Вот, пожалуй, и всё, что я разглядела.
– Во что одета была?
– В первый раз – не помню, штанов на ней точно не было. Во второй – штаны, ветровка, бейсболка. Это всё – вещи Ольги?
Кирилл кивнул.
– Она взяла также и пистолет Хусаинова.
– Вот уж это я поняла!
– Она по тебе стреляла?
– Да ещё как! Всю обойму высадила. Болванки валяются у контейнеров, что напротив детского садика.
Дверь открылась. В палату вполз аромат уморённых голодом кур, сваренных в немытом котле.
– Обед, – сухо тявкнула, громыхая тарелками и половником, санитарка шириной с дверь и ростом чуть выше уровня раковины.
– Не надо, я не хочу, – отрезала Кременцова. Лицо разносчицы вытянулось, но только не вниз, а в стороны.
– Как не хочешь?
– Так, не хочу.
– А вторая где?
– В магазин пошла. Ей тоже не надо.
– Ишь, раскапризничались! Не надо им! Вот мартышки! – проворчала разносчица и захлопнула дверь так крепко, что на гитаре звякнули струны. Сняв полотенце со спинки койки, Юля утёрла слёзы.
– В квартире на Шестнадцатой Парковой обнаружены те же самые отпечатки, что и в Артемьевской, – сообщил Кирилл, разглядывая свои холёные ногти, – в базе их нет.
– Кирюха, а ты икону отдал экспертам?
– Отдал. Тебе интересно, кстати, где эта Ольга её взяла?
– Ну, не тяни время! Что за манера?
– Её соседи сказали мне, что она обожала ездить в Покровский женский монастырь, к мощам блаженной Матроны.
– На Абельмановку, что ли?
– Да. Я сегодня утром туда смотался и сходу выяснил, что она купила эту хреновину в монастырской иконной лавке, а притащил её туда дьякон, который служит в той самой церкви, где находятся мощи. Дьякон мне объяснил, что ему её преподнесла в дар какая-то бабка. Но он решил не ставить её на иконостас в храме, а извлечь из неё материальную прибыль – конечно, не для себя, а для нужд прихода.
– А объяснил, почему?
Дверь опять открылась. Вбежал Илюха с клизмой – но не с такой, какой истязала Юлю Эльвира, а с грушевидной, литровой. Он очень сильно спешил – поэтому, кажется, даже и не заметил Кирилла.
– Вторая клизма, Юлия Александровна! Но она небольшая, так что вы можете просто встать, попку оголить и нагнуться.
– Выйди отсюда! – крикнула Кременцова, стукнув по полу пяткой, – ты что, не видишь – я занята! Сейчас же исчезни и закрой дверь!
Илюха недоумённо остановился.
– Но Юлия Александровна…
– Пошёл вон! Дурак! Через пять минут придёшь сюда, понял?
Илюха случайно взглянул на Бровкина. Покраснел. Через полсекунды он был уже в коридоре, и дверь палаты была закрыта. Кирилл старательно делал вид, что ему не очень смешно.
– Сучонок, – пробормотала Юля дёргающимся от бешенства ртом, стиснув кулаки до белых суставов. Она жалела, что не швырнула Илюху на пол, не повозила его как следует наглой мордочкой по следам своих голых ног, до сих пор не высохших после наводнённого туалета. Но её ярость утихла так же внезапно, как разгорелась. Мысли вернулись на продуктивную колею.
– Так он объяснил, почему решил не ставить икону в церкви?
– Объяснил. Ему было непонятно, кто на ней нарисован.
– А у него возникли предположения, кто бы это мог быть?
– Да нет. Он даже считает, что это – и не икона вовсе.
– А что же это такое, по его мнению?
– Он сказал, что один лишь Бог это знает.
– Какого ж чёрта он притащил загадочный, непонятный предмет в иконную лавку, где его продали именно как икону?
– Я ему задал этот вопрос, и даже примерно этими же словами, за что был немедленно подвергнут тому, чему через пять минут подвергнут тебя – с той лишь разницей, что объектом промывки были мозги, а не жопа, как в твоём случае.
– Значит, ты вообще ничего не понял? – с презрением уточнила Юля. Кирилл ответил с досадой:
– Этих людей, если ты не в курсе, по многу лет в семинарии учат говорить так, чтоб никто вообще ничего не понял.
На этот раз Кременцовой крыть уже было нечем. Но она ещё раз презрительно улыбнулась. Затем нахмурилась.
– На иконе точно никого не было, когда ты её отдавал экспертам?
– Да, абсолютно точно. Это была пустая доска в окладе, если не считать контуров православной церкви в правом верхнем углу.
– И тот священник узнал эту деревяшку?
– Да, по окладу и контурам этой церкви. И, кстати, не очень-то удивился тому, что она пустая. Кроме него, её опознали монашки в иконной лавке и поп, начальник этого дьякона.
Из коридора вдруг донеслись женские рыдания. Видимо, кто-то умер. Вновь взяв гитару и тронув пальцами струны, Юля спросила:
– А у тебя записная книжка с собой?
– С собой.
– Запиши, пожалуйста.
Кирилл вынул из пиджака блокнотик и авторучку.
– Что записать?
– Запиши: Лазуткина Марина Сергеевна, родилась пятнадцатого апреля тысяча девятьсот шестьдесят девятого года, в городе Люберцы.
Кирилл быстро всё записал.
– Больше ничего?
– Ничего. Найди мне её.
– Зачем?
– Если я прошу, значит надо.
Убрав блокнотик и авторучку, Кирилл поднялся.
– Ладно, найду. Так у тебя точно всё хорошо?
– Да, всё хорошо.
– Тогда я пойду?
– Иди.
– Тебе привезти что-нибудь?
– Не надо. Соседка – шустрая. И с деньгами.
– А кто она?
– Проститутка.
– Ясно. Ой, кстати, чуть не забыл! Что мне передать Карнауховой?
– Передай горячую благодарность.
– За что?
– За то, что произойдёт через две минуты. Это была её инициатива.
– Ладно. Пока.
– Удачи.
Вскоре после того, как Кирилл ушёл, вернулся Илюха с клизмой. Юля играла танго, держа гитару на оголённом бедре здоровой ноги, закинутой на больную. Холодно поглядев на Илюху, она доиграла такт, и, швырнув гитару на одеяло, тихо спросила:
– Чего тебе ещё надо? Что ты пришёл? Ты мне надоел! Ясно?
Илюха начал сопеть.
– Юля, я – не врач, я человек маленький! Выполняю то, что мне говорят.
– Да пошёл ты на хер! Маленький человек! А я – человек большой! Я – взрослая женщина, офицер правоохранительных органов! Лейтенант! Вот прямо сейчас пойду в ординаторскую, свяжусь с прокурором и попрошу его сделать так, чтоб тебя в течение часа из института отчислили! Хочешь этого?
У Илюхи стали дрожать коленки. Он что-то залепетал, сперва неразборчиво, а затем – твёрдым голоском, сваливая всё на Эльвиру, которая унеслась к подруге на День рождения, а совсем даже не к ребёнку, который вовсе не думал чувствовать себя плохо. Слушать всё это было немыслимо. Кременцова уже хотела вскочить и дать ему по башке, но вернулась Анька, румяная от прогулки. Увидев Илюху с клизмой, она обрадовалась.
– Ого! Отлично! Я вовремя.
– Ты купила тушёнку? – брызнула на неё слюной Кременцова.
– Да.
Достав из пакетика две железные банки с изображением хрюшек, Анька поставила их на тумбочку Юли. На свою выложила два мягких батона, плавленный сыр, две банки икры, растворимый кофе и гроздь бананов. Илюха не уходил, продолжал канючить. Поняв минут через пять, что он не отвяжется, лейтенант Кременцова с матерной бранью встала и приготовилась к процедуре, пообещав порвать его на куски, если он придёт ещё раз. Аньку эта сцена развеселила до крайней степени. Она стала хохотать так, что через секунду в палату очень невовремя заглянул какой-то молодой доктор. Он тоже весьма обрадовался, хотя и не подал виду.
Вернувшись из туалета, Юля увидела на столе историю. Анька, сидя в халатике на постели, медленно уминала четверть батона, покрытую толстым слоем икры поверх слоя сыра, и запивала эту вкуснятину крепким кофе.
– Жалко, что ты идёшь на УЗИ, – сказала она достаточно внятным голосом, хоть за каждой щекой у неё, казалось, было по целому апельсину, – если бы не УЗИ, пожрали бы вместе!
– А ты со мной на УЗИ не спустишься? Одной скучно.
– Ладно, давай спущусь. Но ты подождёшь меня? Я доем. Сейчас только два.
Пока Анька ела, Юля играла. Анька заслушалась.
– Это что? – спросила она, когда отзвучала первая вещь.
– «Зелёные рукава». Древняя английская песня. Типа, баллада.
– А что ещё ты играть умеешь?
Юля стала играть «Шербурские зонтики».
– Эту знаю! – взвизгнула Анька с едва ли меньшим восторгом, чем Архимед вскричал «Эврика!», – это Мишель Легран! Какие-то зонтики! Из кино!
– Ну да, из кино. Грустное кино.
– А ты где училась?
– Да особо нигде, – нагло соврала Кременцова, – купила книжку и выучилась.
– Ого!
Сыграв ещё две мелодии, Кременцова заметила вдруг, что её соседка не только уже давно ничего не ест, но и слушает совершенно точно не музыку, а какие-то свои мысли. Гитара была отложена.
– Всё, пошли на УЗИ.
Возражений не было. Кременцова чувствовала себя неплохо. Нога у неё почти не болела. Анька, напротив, сильно хромала.








