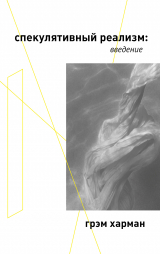
Текст книги "Спекулятивный реализм: введение"
Автор книги: Грэм Харман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)
Тем не менее, Брассье одобрительно отзывается и о Черчленде, и о Дэниеле Деннете (род. 1942) за «проведение бесспорного различия между нашей феноменологической концепцией о себе и материальными процессами, посредством которых эта концепция производится»[100]100
Ibid. P.26.
[Закрыть]. Поэтому неудивительно, что Брассье направляет свой гнев против Гуссерля, который провел схожее «бесспорное различие» между материальным и феноменальным мирами, но пришел при этом к противоположному выводу. Если Черчленд, Дэннет и Брассье стремятся разрушить претензии наличного образа, то Гуссерль считает его истоком всего существования и a fortiori всего познания. Брассье цитирует знаменитый пассаж Гуссерля о «принципе всех принципов», утверждающий, что реальность может быть напрямую схвачена интуицией в опыте и что такая интуиция является предельной инстанцией в познавательных вопросах, ведь все знание укоренено в прямой встрече с миром. Говоря проще, Брассье считает Гуссерля философским идеалистом, и в этом противостоянии феноменологам я с ним согласен. Он упускает, однако, что в философии Гуссерля есть нечто гораздо большее, чем идеализм. Согласно ООО, настоящее достоинство Гуссерля состоит не в его, надо признать, досадной идеалистической онтологии, а в открытии им раскола внутри идеальной или феноменальной области между объектами и их качествами. Предположим, мы встречаем в опыте почтовый ящик – один из классических примеров Гуссерля. Последний и правда «заключает в скобки» или «подвешивает» вопрос о том, действительно ли почтовый ящик существует во внешнем мире, чтобы изучить его как самостоятельный феномен. Идеализм Гуссерля рождается в тот момент, когда он отвергает какую бы то ни было возможность почтового-ящика-в-себе; наоборот, он считает, что существование этого объекта сводится лишь к тому, что он является, фактически или в принципе, объектом внимания некоторого сознания. В этом отношении Гуссерль – это всего лишь Беркли с алиби, и неважно, как громко его ученики заявляют, что он «реалист» в силу того, что мы «всегда уже пребываем вне себя», встречая объекты в мире. Дело в том, что в мире Гуссерля эти объекты никогда не встречают друг друга; быть объектом значит быть коррелятом ментального акта.
Вопреки своему феноменологическому прошлому и интересу к достижениям этого движения, я согласен с Брассье и Мейясу в том, что Гуссерль оставляет нас в ловушке круга человеческого мышления. Впрочем, у Гуссерля есть кое-что еще, даже если об этом обычно забывают. У него есть то, чего нет ни у Беркли, ни у сторонников эмпиризма – идея того, что первично в опыте дан объект, а не чувственные данные, из которых человеческий разум произвольно строит объекты. В истории философии это значимый шаг вперед – шаг, который Брассье упускает, спеша вывести наличный образ во тьму внешнюю без всякого разбирательства. Гуссерль заметил – и это интуиция всей феноменологии – что я встречаю объект как целостность, и он остается для меня тем же самым объектом даже по мере того, как его проявления, или «аспекты» (Abschattungen), сильно меняются от момента к моменту. Таким образом, есть важное напряжение между объектами и их качествами, которые в ООО называются чувственными объектами (ЧО) и чувственными качествами (ЧК), поскольку они существуют только как корреляты некоторого наблюдателя. Но это еще не все, ведь в философии Гуссерля есть качество Другого типа. Дело в том, что не все качества объекта, данного в опыте, принадлежат бурлящему чувственному калейдоскопу происходящего. Напротив, некоторые качества объекта сущностны, ведь мы бы не стали рассматривать конкретное яблоко как яблоко, если бы определили, что свойств яблочности у него нет вовсе, как, например, в случае, когда мы на самом деле смотрим на грушу, а не на яблоко. Когда Гуссерль пишет о «созерцании сущностей», своем самом несправедливо отвергаемом концепте, он лишь имеет в виду, что при надлежащей теоретической работе мы можем добиться понимания качеств, делающих яблоко тем самым яблоком, которым оно является. Эта работа, включающая в себя отвлечение от случайных свойств конкретного яблока и выделение сущностных свойств, может быть проделана только при помощи рассудка, но никак не чувств (хотя в ООО постулируется, что даже рассудок не в состоянии справиться с этим). Таким образом, это не просто идеализм, в котором восприятия всего лишь заменены воспринятыми объектами, хотя и это уже немало. Здесь чувственный объект вовлечен в напряженные отношения как с чувственными качествами («аспектами»), так и с реальными качествами («сущность»). У идеальных объектов Гуссерля есть странное свойство – они состоят из реальных качеств. Но все это останется незамеченным, если, подобно Брассье, считать, что единственная задача наличного образа – быть уничтоженным наукой.
Вернемся к собственной аргументации Брассье. Он осуждает и Гуссерля, и аналитического философа Джон Серля (род. 1932), так как они считают, что явление – это все, что есть, поэтому его следует рассматривать как нечто самостоятельное. Брассье сетует на то, что этот подход «скрывает в себе круг [в обосновании]. Дело в том, что эта апелляция к самоочевидной прозрачности явления очень кстати не требует обоснования, настаивая на том, что мы все уже знаем, “на что это похоже”, когда нечто является нам»[101]101
Ibid. Р.25.
[Закрыть]. Это не вполне верно. Гуссерля всегда озадчивали разнообразные контуры феноменов, и он все карьеру разрабатывал массивный технический аппарат, чтобы проверить и подтвердить свои находки. На самом деле Брассье здесь высказывает тезис, сформулированный им яснее в другом месте: Гуссерль допускает, что не следует сводить феномены к их материальным подоплекам. Это верно, но релевантно только если заранее согласиться с Брассье, что наличный образ – лишь сырая версия научного образа, которую необходимо заменить, а не подлинная часть реальности, заслуживающая исследования, как и объекты естественных наук. В этой связи вовсе не внушает оптимизма то, что Брассье призывает на помощь немецкого нейрофилософа Томаса Метцингера (род. 1958), работу которого я оцениваю ниже, чем сам Брассье[102]102
Metzinger Т. Being No One: The Self-Model Theory of Subjectivity. Cambridge, MA: MIT Press, 2004; Harman G. The Problem with Metzinger // Cosmos and History. 2011. #7/1. P.7—36.
[Закрыть]. По словам последнего, «Томас Метцингер показал, что именно простейшие, самые рудиментарные формы феноменального содержания не могут быть надежно индивидуированы из феноменологической перспективы, поскольку у нас нет никакого критерия транстемпорального тождества, чтобы идентифицировать их»[103]103
Brassier R. Nihil Unbound: Enlightenment and Extinction. P.29.
[Закрыть]. Метцингер предлагает получить такие критерии путем отождествления «минимально достаточных нейронных и функциональных коррелятов» различных феноменов, чтобы научно определить, реально ли эти феномены тождественны. Другими словами, нам не следует доверять отчету Гуссерля, что он видит одно и то же яблоко, пока в процессе вращения в его руке оно проходит через множество разных констелляций качеств. Вместо этого стоит подвергнуть мозг Гуссерля анализу, чтобы определить, все ли аспекты яблока в достаточной мере нейронно и функционально схожи, чтобы сделать вывод, что он действительно переживает в опыте один и тот же объект, меняющий свой вид в вечернем воздухе. Однако у этого подхода есть две большие проблемы. Первая состоит в том, что выполняющий этот эксперимент нейроученый должен предположить тождественность во времени каждого провода, каждого показания приборов и каждой записи в тетради, чтобы при помощи нейронауки верифицировать, что яблоко одно и то же. Здесь нейроученый оказывается в том же положении, что и Гуссерль – верит собственному переживанию тождественности во времени феноменальных объектов и научных инструментов, профили которых при этом едва ощутимо меняются. Бесполезно подключать второй комплект проводов и приборов уже к мозгу нейроученого, чтобы убедиться, что у нас корректный «критерий транстемпорального тождества» для верификации результатов нейроученого по исследованию Гуссерля, поскольку мы впадаем в порочный регресс в бесконечность проводов, измеряющих мозги тех, кто использует провода, и т. д. Гуссерль использует тот же критерий тождества, который должен использовать любой ученый. Вот конкретное яблоко, тождественное тому, которое я видел пять секунд назад, хотя оно и выглядит сейчас чуть иначе; вот научный прибор, тождественный тому, за которым я следил пять секунд назад, хоть он и выглядит теперь немного иначе. Никакому нейроученому не удастся избежать предварительной веры в собственный непосредственный опыт. Вторая проблема этого подхода состоит в том, что обращение Метцингера к «минимально достаточным нейронным и функциональным коррелятам» в его колоссальной книге не очень-то срабатывает. Глава за главой, как показано в моей критической статье о его работе, Метцингер с комичной регулярностью вынужден признавать, что мы все еще не знаем, каковы минимально достаточные корреляты для того или этого феномена. Словом, нет никакого смысла обращаться к Метцингеру ради критики Гуссерля, если только, подобно Брассье, вы не преданы программе, в которой последнее слово всегда остается за наукой – по любой возможной теме, включая те темы, в которых она способна предложить меньше, чем феноменология.
Прежде чем двигаться дальше, стоит упомянуть, что известный ученик Гуссерля, Хайдеггер, тоже попадает под огонь критики Брассье в первой главе. В отличие от Гуссерля, Хайдеггер не верит в прозрачность явления, поскольку вся его философия основана на противоположном взгляде: присутствие для сознания означает просто присутствие в качестве наличного, которое скрывает более глубокое бытие любой вещи. Брассье здесь раздражает, что, по Хайдеггеру, в эти глубины нас ведет вовсе не наука, поскольку наука это всего лишь еще один способ превращения вещей в наличное сущее путем объективации их качеств и пренебрежения их скрытой реальностью. Это неизбежно требует использования небуквального, недискурсивного языка, к которому Брассье относится с открытым презрением: «для значительной части пост-хайдеггерианской феноменологии характерны попытки развить фигуративное измерение языка, чтобы изучать дорепрезентативные глубины, которые, как утверждается, по самой своей природе сопротивляются концептуализации любого другого типа и в частности научной»[104]104
Ibid. Р.28.
[Закрыть]. Не вполне ясно, почему Брассье так враждебно настроен ко всему этому, даже в свете того факта, что попытки Хайдеггера построить поэтический язык часто оборачиваются удручающим шварцвальдским китчем. Ведь из хайдеггеровских перегибов не следует, что только дискурсивное, концептуальное, пропозициональное употребление языка обладает познавательной ценностью. Брассье здесь забывает, что Сократ никогда не приходит к определению своего предмета, чем бы он ни был, что philosophia не значит знание и что Аристотель говорит нам в «Поэтике», что метафора – это величайший дар. Кроме того, он не оставляет места для познания в искусстве – важной области человеческого опыта, о которой Брассье не может сказать ничего полезного. Вместо этого он занимается тем, что требует изгнания фигуративного языка из философии: «Возможно, стоит признать, что задачи феноменологического описания лучше решать с помощью приемов литературы, а не путем неправомерного захвата концептуальных ресурсов философии только ради того, чтобы сохранить некое неприкосновенное святилище феноменального опыта»[105]105
Ibid.
[Закрыть]. Такие взгляды всегда были обычным делом в аналитической философии, но Брассье, вероятно, первый придерживающийся их автор с преимущественно континентальным бэкграундом. Заметьте, однако, что такой же профессиональный вопрос можно задать в ответ: если Брассье настолько уверен в познавательном превосходстве наук, то не будут ли его проблемы решаться лучше, если он выберет карьеру в науках вместо того, чтобы неправомерно захватывать сократическую philosophia и ставить ее на службу натуралистическому псевдо-знанию, от которого Сократ всегда дистанцировался? Я спрошу еще раз и без всякой иронии, почему Брассье считает, что у философии есть какая-либо ценность, если, по его мнению, в своей наилучшей форме она должна быть не более чем восхвалением того, что науки уже нашли для себя без всякой философской помощи? В главе 3, раздел Д, я объясню, почему в ООО метафора считается таким важным компонентом философии. Более существенно здесь то, что из-за своей аллергии на фигуративный язык Брассье отвергает самое знаменитое слово Хайдеггера: Sein, или бытие. Вместо того, чтобы согласиться с Хайдеггером, что бытие это необъективируемый и некон-цептуализируемый остаток в основе любого опыта, он требует «допустить, что это не-наличное измерение прекрасно поддается описанию из перспективы третьего лица, характерной для наук»[106]106
Ibid. Р.ЗО.
[Закрыть]. В итоге, Брассье предлагает сделать философию служанкой естественных наук, как когда-то она была служанкой религии.
Это видно по следующей главе, посвященной Мейясу: он мимоходом замечает, что философия должна стремиться к тому, чтобы обеспечить науке «подходящий спекулятивный каркас»[107]107
Ibid. Р.63.
[Закрыть]. Учтите, что в этом пассаже Брассье атакует знакомое, но печальное «разделение труда», в котором науке отводится область эмпирического, а философии – трансцендентального. Но вместо того, чтобы дать философии выбраться из своей тюрьмы, дабы исследовать вне-человеческую область, как то было до Канта, Брассье хочет, чтобы она заняла подчиненное положение, просто дополняя уже сделанное наукой. Этот проект постепенно потерял свою привлекательность даже для ученых, многие из которых ждут от философии чего-то получше, чем это. Вот, например, слова итальянского физика Карло Ровелли: «Я бы хотел, чтобы философы, интересующиеся научными концепциями мира, не ограничивались комментированием и наведением лоска на нынешние фрагментарные физические теории, а рискнули бы посмотреть вперед»[108]108
Rovelli С. Halfway Through the Woods // The Cosmos of Science: Essays of Exploration / Earman J., Norton J. (eds.). Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1998. P. 180–223.
[Закрыть].
Тем не менее, глава Брассье о Мейясу сильна, и его возражения в адрес спекулятивного материализма французского философа звучат убедительно. По мнению Брассье, центральная проблема, с которой сталкивается Мейясу, это «попытка согласовать галилеевско-декартовскую гипотезу о математизируемости бытия со спекулятивным разделением, в котором бытие независимо от мышления»[109]109
Ibid. P.88.
[Закрыть]. Мы увидим, что Мейясу защищается от таких обвинений, проводя различие между Декартом и Пифагором: как и Декарт, он не утверждает (в отличие, по-видимому, от Пифагора), что само бытие математично, а лишь настаивает, что математика указывает на реальность вне мышления, которую Декарт называет res extensa, протяженной субстанцией, а Мейясу – «мертвой материей». Брассье же считает, что есть вещи поинтереснее мертвой материи. С его точки зрения, и Бадью, и Ларюэль (им посвящены главы 4 и 5) идут дальше Мейясу. Последний «не дал нам неметафизическую и нефеноменологическую альтернативу – такую, как, например, в вычитательной концепции пустоты у Бадью»[110]110
Ibid.
[Закрыть]. «В вычитательной концепции онтологической презентации в бытии как таковом производится расщепление, которое устраняет интуицию бытия как присутствия, будь оно феноменологическим или метафизическим»[111]111
Ibid.
[Закрыть]. Что касается вклада Ларюэля, то Брассье считает, что он аналогичен: «мы переопределим диахронию, которую Мейясу считает определяющей для доисторического времени, в терминах структуры “унилатерализации” […] которая ведет к диахронии, понятой как отделимость мышления от бытия, их некоррелированность»[112]112
Ibid. P.84.
[Закрыть]. В этой же главе мы обнаруживаем типичное заявление Брассье, что поступательный ход научного прогресса когда-нибудь сделает разные части философии Мейясу архаичными: «Общепризнанно, что [когнитивная наука] все еще находится на раннем этапе становления; тем не менее, ее созревание обещает устранить картезианский дуализм мышления и протяженности, а также, возможно, его остатки в спекулятивном материализме Мейясу»[113]113
Ibid. P.89.
[Закрыть].
Теперь перейдем к главам о Бадью и Ларюэле, французских мыслителях, против которых Брассье выдвигает свои самые серьезные аргументы. Обоих авторов он знает лично и в разное время имел репутацию одного из ведущих экспертов по их идеям. Такое сочетание интересов необычно, учитывая, что сами эти философы явно невысокого мнения друг о друге. Ларюэль даже написал книгу «Анти-Бадью»; Бадью так далеко не пошел, хотя известно, что он считает работу Ларюэля невразумительной. Брассье же считает обоих авторов полезными, поскольку они привносят в философию новую форму негативности, которой, по его мнению, не хватает в работе Мейясу.
Помимо прочего, Брассье считает заслугой Бадью то, что он дал противоядие от хайдеггерианских излишеств в континентальной философии. Оно заключается в демистификации онтологии путем ее уравнивания с математикой. Как смело резюмирует Брассье, «поскольку отныне онтология – это область математической науки и поскольку (в противовес Хайдеггеру) бытие не является ни чем-то осмысленным, ни предвестием истины, то глубокомысленные размышления о бытии больше не входят в задачи философии»[114]114
Ibid. Р.98.
[Закрыть]. Таким образом, Брассье пытается нивелировать важность вопроса о смысле бытия, которому сами хайдеггерианцы приписывают непредолимую глубину. Ранее мы видели, что Брассье знает об опасности отношения к философии по аналогии с математикой, так как он сам критикует Мейясу за тесный союз с математизмом Декарта и Галилея – настолько тесный, что Мейясу рискует потерять реализм. И в самом деле, Брассье заканчивает главу 4 тем, что обвиняет Бадью в идеализме – так же, как он обвиняет в этом пороке почти всех остальных. Но перед тем он пытается извлечь из философии Бадью некоторые перспективные ресурсы.
Одно из самых известных выражений Бадью гласит: «Единого нет»; помимо прочего, оно позволяет ему дистанцироваться от Делеза, которого он считает философом Единого[115]115
Badiou A. Deleuze: The Clamor of Being / Burchill L. (tr.). Minneap-oils: University of Minnesota Press, 1999 (русский перевод: Бадью A. Делез. Шум бытия / пер. с фр. Д. Скопина. М.: Фонд научных исследований «Прагматика культуры», издательство «Логос-Альтера» / «Ессе homo», 2004).
[Закрыть]. Важно, однако, отметить, что Бадью говорит о «Едином» в двух разных смыслах, оба из которых отвергает. Первый смысл Единого – единство космоса как целого. Бадью отвергает этот тип Единого вследствие своей приверженности трансфинитной математике Георга Кантора (1845–1910), который открыл, что у бесконечности может быть множество разных размеров и нет самой большой бесконечности, которая бы охватывала все остальные. В этом первом смысле Единого нет, потому что мир невозможно объединить в одно целое, то есть тотализировать. Но второй смысл отвергаемого Бадью Единого, возможно, даже более важен для его философии. Здесь я имею в виду множество Единых, известных как индивидуальные или отдельные сущности. В аристотелевской традиции собака это одна собака, звезда – одна звезда, песня – одна песня, и так далее. Лейбниц в «Монадологии» утверждает, что быть значит быть одним; отсюда использование им термина монада, производного от греческого слова, обозначающего «один». С точки зрения Бадью, однако, нет никаких независимо существующих сущностей, каждая из которых считалась бы за «одну». То, что мы называем «одной» вещью, есть лишь ретроспективный результат «счета». Все сущности, получающиеся в результате счета, принадлежат к тому, что он называет «консистентным множеством», и поскольку они производим от счета, их не следует отождествлять с полноценными индивидуальными вещами. То же, что предшествует счету, Бадью называет «неконсистентной множественностью», и хотя он называет это «множественностью», на самом деле она совершенно не содержит какого-либо точного числа отдельных вещей. Неконсистентная множественность Бадью абсолютно анти-объектно-ориентированна; об объектах он рассуждает в «Логике миров», продолжении «Бытия и события». В ней объекты принадлежат исключительно миру явления. Вот что пишет Брассье: «С точки зрения Бадью, онтологию невозможно выстроить вокруг “понятия бытия”, поскольку сама идея “понятия бытия” несовместима с тезисом о том, что бытие это неконсистентная множественность»[116]116
Brassier R. Nihil Unbound: Enlightenment and Extinction. P.99.
[Закрыть]. И далее: «необходимость структуры это номологическая черта дискурсивной презентации, а не онтологическая характеристика самого бытия»[117]117
Ibid.P.101.
[Закрыть].
Может показаться, будто Бадью использует консистентное множество и неконсистентную множественность как собственную версию классической оппозиции между «в себе» и «для нас», или ноуменов и феноменов. Брассье отрицает это: «На самом деле расщепление между посчитанной консистентностью и непосчитанной неконсистентностью, или структурой и бытием, это знак более глубокой тождественности между несуществованием структуры (т. е. счета) и несуществованием неконсистентности (т. е. самого бытия)»[118]118
Ibid.
[Закрыть]. По этой причине «небытие Единого, всего лишь номологический статус структуры, асимптотически сходится с бытием-ничто неконсистентной множественности»[119]119
Ibid.
[Закрыть]. По мнению Брассье, Бадью усваивает изречение Парменида (515–450 гг. до р.х.) о том, что мысль и бытие суть одно и то же, именно в таком смысле: «И мышление, и бытие суть ничто»[120]120
Ibid.
[Закрыть].
Для Бадью в прочтении Брассье «закон презентации это гарантия буквально пустого изоморфизма между мышлением и бытием…»[121]121
Ibid. Р.102.
[Закрыть]. И у этого есть серьезные последствия: «цена [которую платит Бадью] – специфическая разновидность дискурсивного идеализма, в котором даже пополнение неконсистентности, называемое реальным вторжением идеального порядка онтологического дискурса, является всего лишь примером неструктурированной мысли: событие как алеаторное разрешение неразрешимого, в котором само мышление воплощает собой неконсистентность»[122]122
Ibid.
[Закрыть]: другими словами, как «событие». С точки зрения Бадью, который выводит этот результат из математической теории множеств, любая ситуация включает в себя больше, чем ей официально принадлежит. Наглядный пример – пролетариат в политике: хотя текущим положением дел он официально не принимается в расчет, он все же включен в него и потому может непредсказуемо вырваться в революционном событии, которое квалифицируется как событие, только если субъект задним числом сохраняет ему верность. По Бадью, не каждый человек является «субъектом», как то принято в большей части нововременной философии. Быть субъектом значит поставить все свое существование на то, что событие случилось в одной из четырех областей, которые Бадью считает событийными: политика, искусство, наука и любовь. Отголоски Серена Кьеркегора (1813–1855) здесь несомненны. Верность событию может потребовать тюремного заключения, изгнания или смерти на улицах Каира – так же, как верность любви (о которой Бадью пишет только как о гетеросексуальной) может означать окончание длительного брака и семейной жизни. Брассье вовсе не большой почитатель понятия события Бадью, и позднее в той же главе[123]123
Ibid. P.114.
[Закрыть] он выражает разочарование тем, что «Логика миров» смещает акцент с вычитательного понятия бытия на пространные и часто красивые размышления о том, как структурированы конкретные события. Он критикует Бадью за его неспособность последовательно и до конца развивать негативные аспекты своей философии, поскольку «философия, уступающая полноту мира вычитательной аскезе, должна быть готова с головой погрузиться в черную дыру вычитания»[124]124
Ibid. P. 100–101.
[Закрыть]. Очевидно, Брассье понимает свою собственную философскую работу именно как такую предельную вычитательную аскезу.
Зато Бадью и Брассье согласны в том, что нет никакого скрытого, таинственного измерения бытия, которое надо схватить каким-то непрямым способом, как если бы «бытие могло быть представлено только как “абсолютно Другое”: невыразимое, непредъявляемое, недоступное для структур рационального мышления и потому достижимое лишь посредством каких-то высших или связанных с посвящением форм неконцептуального опыта»[125]125
Ibid. Р. 107.
[Закрыть]. Бадью называет эту ошибку Великим искушением и, согласно Брассье, в качестве средства от нее предлагает принцип: «нет непосредственного, недискурсивного доступа к бытию»[126]126
Ibid.
[Закрыть]. Но конъюнкция слов «непосредственный» и «недискурсивный» порождает важную двусмысленность. Считает ли Брассье эти два слова синонимами или же разными терминами? И если разными, то возникает ли проблема, только когда они нелегитимно сочетаются? Я говорю об этом, поскольку вовсе не очевидно, что процитированный выше пассаж с критикой «невыразимого, непредъявляемого, недоступного» работает против Хайдеггера так, как Брассье предположительно хотел бы. Очевидно, что Хайдеггер, особенно поздний Хайдеггер, был очень высокого мнения о неконцептуальном опыте, однако вовсе не так очевидно (я бы даже сказал неверно), что он считает, что к бытию можно получить непосредственный доступ. Это больше похоже на Плотина (204–270) и неоплатоническую школу, чем на Хайдеггера[127]127
Plotinus The Six Enneads / MacKenna S., Page B.S. (tr.). CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017 (русский перевод: Плотин Эннеады I–VI / пер. с древнегреч. Т. Г. Сидаша. Издательство: СПб.: Изд. Олега Абышко, 2004–2005 (в 7 томах)).
[Закрыть]. Как бы то ни было, даже если бы можно было как-то доказать, что Хайдеггер говорил о прямом, мистическом опыте самого бытия, это не было бы неизбежным следствием любой философии, допускающей неконцептуальный опыт. Но главная идея Брассье здесь касается Бадью: «Закон презентации соединяет авторизацию консистентности и запрет на неконсистентность в непрезентируемом зазоре, в котором развертывание и вычитание структуры совпадают»[128]128
Brassier R. Nihil Unbound: Enlightenment and Extinction. P.107.
[Закрыть]. Для любого читателя, не являющегося бадьюанцем, это малопонятное высказывание, но его значение относительно просто: нет ничего, скрытого от презентации, как если бы за видимым феноменом таилась некая тайна. По Брассье, бадьюанская презентация это «анти-феномен», место, где явно противоположные друг другу консистентная структура и неконсистентность встречаются, не встречаясь. Брассье также называет это «расщепленным ноуменом», хотя он не ускользает от нас подобно кантовскому ноумену. На деле, это имманентный ноумен, такой же, как Единое Ларюэля. В этом отношении Брассье очень близко подбирается к желанному результату. Существует ноумен, более глубокий, чем сырой наличный образ, но он не скрыт и потому его в принципе можно исследовать точными концептуальными инструментами математики и естественных наук.
Это вовсе не значит, что Бадью согласился бы с этим. Как мы видели, его мало интересует формирующаяся «когнитивная наука», столь интересная Брассье. Для Бадью, как и для Декарта до него и для Мейясу после него, мысль это особая часть устройства мира и ее нельзя напрямую объяснить в терминах ее физической подоплеки. В конце главы Брассье критикует Бадью за его идеализм. Этот идеализм якобы проявляется в чрезмерной приверженности Бадью «событию». Если Брассье хочет понимать неконцептуализированный избыток в любой презентации как «имманентный разрыв», то событие Бадью обращает его в «трансцендентное вторжение онтологической консистентности», характеризуемой, по мнению Брассье, «неустранимой беспричинностью»[129]129
Ibid. Р.113.
[Закрыть]. Это подводит Брассье к его финальному критическому вердикту в отношении Бадью: «его философия попросту предписывает изоморфизм между дискурсом и реальностью, логическими следствиями и материальными причинами, мышлением и бытием. Мышления достаточно, чтобы изменить мир: таков, в конечном счете, смысл идеализма Бадью»[130]130
Ibid.
[Закрыть]. Я не разделяю невысокую оценку, данную Брассье теории события Бадью (думаю, в ней есть важные интуиции), но я целиком и полностью согласен с тем, что касается ограничений бадьюанского события. С точки зрения Бадью, все четыре типа события требуют не просто человеческих существ, а человеческих существ в качестве мыслителей: «Следовательно, Большой взрыв, Кембрийский взрыв и смерть Солнца оказываются простыми заминками на пути мира, которые его [Бадью] мало интересуют или не интересуют вовсе»[131]131
Ibid. Р. 114.
[Закрыть]. Брассье добавляет, что это вопрос не столько антропоцентризма, сколько нооцентризма, поскольку люди интересуют Бадью лишь в той мере, в какой являются мыслящими существами. Кроме того, он верно замечает, что философия Бадью «конфликтует с реалистическими постулатами физических наук, согласно которым объекты демонстрируют каузальные качества, укорененные в реальных физических структурах, действующих вполне независимо от идеальных законов презентации»[132]132
Ibid. Р. 116.
[Закрыть]. Следовательно, Бадью рискует впасть в математизм, еще более опасный, чем у Мейясу. Брассье задает риторический вопрос: «Но можно ли считать, что бытие начертано математически, не предполагая, что ничто не существует независимо от математической записи? Это было бы одним из сквернейших следствий тезиса Парменида […] о предустановленной гармонии между мышлением и бытием»[133]133
Ibid. Р.117.
[Закрыть]. Тем не менее, Брассье принимает предложенную Бадью демистификацию скрытого бытия, одновременно отвергая его несомненный идеализм.
В главе 5 Брассье обращается к Ларюэлю. Это чрезвычайно трудный для чтения философ, хотя у него есть международный культ последователей, считающих его мышление мостиком в интеллектуальное будущее. Я почти написал «в будущее философии», но забеспокоился, что это может ввести в заблуждение, ведь сам Ларюэль вовсе не считает свое мышление философией. Он называет его «не-философией». Впрочем, Брассье считает это самоописание неубедительным и прочитывает Ларюэля просто как некорреляци-онистского философа. Оценка французского философа Брассье сложна и интересна. С одной стороны, он признает, что работа Ларюэля погребена под «отталкивающим слоем»[134]134
Ibid. P.118.
[Закрыть] почти непроходимого жаргона, и что ему можно приписать два частых порока французской мысли последнего времени: «утомительная озабоченность нефилософской инаковостью вкупе с неконтролируемой тягой к терминологической мутности»[135]135
Ibid. P.119.
[Закрыть]. С другой стороны, Брассье считает философию Ларюэля «исключительно незаурядной»[136]136
Ibid. P.118.
[Закрыть] и даже заявляет, что по своей «концептуальной глубине (а возможно и размаху) [она] равноценна диалектической логике Гегеля и бросает ей вызов»[137]137
Ibid. Р.148.
[Закрыть]. Поистине высокая оценка! Давайте разберемся, что так заинтриговало Брассье в не-философии Ларюэля.
Одна из наиболее предсказуемых причин недовольства Брассье Ларюэлем состоит в том, что тот слишком поспешно заявляет о наличии у всей «философии» одной-единственной сущности – притом, что в действительности существует большое количество отдельных философий, каждая с собственными характеристиками. Брассье отмечает, что хотя Хайдеггера и Деррида тоже можно обвинить в похожих чрезмерных обобщениях, они, по крайней мере, прорабатывают исторический материал, вдумчиво прочитывая тысячи страниц, чего Ларюэль не делает[138]138
Ibid. Р. 121.
[Закрыть]. Довольно странно слышать тезис о том, что нет никакой сущности философии как таковой, от Брассье, который обычно испытывает неприязнь к такого рода гипер-номинализму в духе Рорти. Например, Брассье нигде не оспаривает употребление слова «наука» в единственном числе для обозначения множества разнообразных научных дисциплин и практик; более того, он часто впадает в своеобразный научный эссенциализм, в котором наука=истинное познание=благо. Как бы то ни было, с точки зрения Ларюэля, философия попросту состоит из структуры «решения», которая, как и философия Канта, «соединяет в себе три базовых члена: имманентность, трансцендентность и трансцендентальное»[139]139
Ibid. P. 122–123.
[Закрыть]. Предлагаемая им альтернатива – «радикальное имманетное», которую он часто описывает как имманентное «Единое» – термин, обреченный раздражать Бадью. К несчастью, витиеватую прозу, которой написаны нефилософские тексты, настолько болезненно читать, что она буквально вызывает головные боли, если сосредоточенно читать ее несколько дней подряд. По Ларюэлю, философия вводит разрыв между тем, что считается трансцендентным, и тем, что считается имманетным: «это реальность, свойственная трансцендентальному синтезу как тому, что объединяет и конституирует возможности мысли и опыта»[140]140
Ibid. P.126.
[Закрыть]. Задача не-философии, напротив, состоит в том, чтобы «[показать], как децизионный комплекс трансцендентности, имманентности и трансцендентального в конечном счете определяется необъективируемой имманентностью, которую Ларюэль отождествляет с “реальным”»[141]141
Ibid. Р.127.
[Закрыть].








