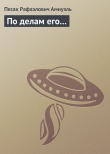Текст книги "Аксиоматик (Сборник)"
Автор книги: Грег Иган
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 22 страниц)
Он продолжает жить в моей памяти.
Здесь, как нигде больше, этого совершенно достаточно.
Естественно, они не афишируют подобные вещи – органический мир еще не готов их принять. Но Копии могут себе позволить бесконечное терпение.
Вот почему мамин приятель ни разу мне не написал. Ему проще подождать столько десятилетий, сколько потребуется, пока я не попаду на «Кони-Айленд» «лично» – вот тогда-то мы с ним увидимся «снова».
* * *
Когда тележка закончила сервировать ужин в столовой, Лорен спросила:
– Сегодня никаких приключений не было? Техника не подвела?
Я медленно, подчеркнуто спокойно покачал головой, чувствуя себя так, будто изменил жене или еще похуже. Видимо, я хорошо скрывал переполнявшую душу тоску – по-моему, Лорен ничего не заметила. Она сказала:
– Конечно, это не та шутка, которую можно повторять дважды.
– Угу.
Лежа в постели, я вглядывался в давящую тьму, стараясь понять, что же делать дальше. Впрочем, похитители наверняка уже знали, как я поступлю. Они бы не стали затевать такое дело, не будучи уверены, что я им в конце концов заплачу.
Теперь мне все стало ясно. Слишком ясно. У Лорен не было скэн-файла, но они взломали мой. Зачем? На что им человеческая душа? К чему гадать, она сама все расскажет. Из всего, что они сделали, самое простое было добыть пароль прямой связи. Они разыграли с моей Копией штук сто различных сценариев и выбрали тот, который давал максимальную отдачу.
Сто воскрешении, сто иллюзий различных вариантов вымогательства, затем сто смертей. Все это слишком эксцентрично, чтобы взволновать меня, слишком нереально. Поэтому они и не сказали:
– Ваша Копия у нас…
Но поддельная Лорен – Копия даже не реальной женщины, а ее образа в моем сознании: о какой привязанности, верности, любви к ней может идти речь?
На «Кони-Айленде» создан новый метод воскрешения – воспроизведение чьей-либо памяти о человеке. Но в какой мере похитители воспользовались этим методом? Что именно они «пробудили к жизни»? Какова сложность компьютерной модели, стоящей за «ее» словами, «ее» жестами, «ее» выражением лица? Была ли она способна, подобно Копии, действительно испытывать те эмоции, которые изображала? Или она лишь воздействовала на мои чувства, ничего при этом не ощущая?
Мне не дано этого знать. Свою воскрешенную мать я считал в полном смысле «человеком», она так же относилась к моему отцу, воскрешенному по ее памяти, выхваченному из ее виртуального мозга. Но как мне было убедить себя, что вот этот сгусток информации отчаянно нуждается в моей помощи?
Я лежал в темноте, рядом с живой, из крови и плоти, Лорен, и думал о том, что может сказать мне через месяц ее компьютерная модель, созданная на основе моей памяти.
Модель Лорен: Дэвид, это ты? Они говорят мне, что ты здесь, что ты слышишь меня. Если это правда… я не понимаю. Почему ты не отдал им деньги? Что случилось? Может быть, полиция говорит тебе, что не надо платить? (Молчание). Я чувствую себя нормально, я держусь, но я не понимаю, что происходит. (Долгое молчание.) Обращаются со мной терпимо. Еда опротивела, но это не смертельно. Мне дали бумагу, я сделала несколько набросков…
Я знал, что никогда не смогу до конца избавиться от сомнений. Я не смог бы жить, терзаясь каждую ночь – а вдруг я ошибаюсь? Вдруг у нее все-таки есть сознание? Вдруг она точно такой же человек, каким стану я, когда меня воскресят? А я предал ее, бросил…
Похитители знали, что делали.
* * *
Компьютеры работали всю ночь, высвобождая мои средства, вложенные в различные предприятия. На следующее утро, в девять часов, я перевел полмиллиона долларов на указанный счет и стал ждать. Сначала я хотел восстановить прежний пароль прямого вызова – «Бенвенуто», но потом решил, что при наличии моего скэн-файла им не составит труда угадать новый пароль.
В десять минут десятого на гигантском экране снова появилась маска похитителя и сказала обычным голосом, без всякой декламации:
– То же самое через два года.
Я кивнул:
– Хорошо.
За два года – но ни месяцем меньше! – я мог восстановить эти деньги так, чтобы Лорен ничего не знала.
– Пока вы платите, она останется в анабиозе. Для нее не будет времени, не будет событий. Не будет никаких неприятностей.
– Благодарю вас, – поколебавшись, я заставил себя спросить:
– А потом, когда я…
– Что?
– Когда я буду воскрешен… вы отпустите ее ко мне?
– О, разумеется! – Маска великодушно улыбнулась.
* * *
Не знаю, как я смогу все объяснить модели Лорен. Не знаю, что она сделает, когда узнает о своей истинной природе. Может быть, воскрешение на «Кони-Айленде» для нее – воплощенный ад? Но из чего я мог выбирать? Оставить ее на растерзание похитителям – до тех пор, пока они не откажутся от своего плана? Или выкупить ее у них – для того, чтобы больше никогда не включать?
Когда мы оба будем на «Кони-Айленде», она сама решит, как быть дальше. А пока мне остается только взывать к небесам в надежде, что ей хорошо в ее бездумном анабиозе.
Пока что мне предстоит жить с Лорен из плоти и крови. И я должен, конечно, рассказать ей все. Каждую ночь, лежа рядом с ней, я воображаю наш предстоящий разговор.
Дэвид: Как я мог обречь ее на страдания? Как я мог оставить на произвол судьбы ту, которая в буквальном смысле соткана из всего, что я люблю в тебе?
Лорен: То есть ты спас модель модели? Спас ничто, которое не может страдать, не может ждать, которое нельзя ни бросить, ни спасти…
Дэвид: Разве я – ничто? Ты – ничто? Понимаешь, любой из нас для другого не более чем Копия, портрет, спрятанный в его голове.
Лорен: Ты считаешь, что я – всего лишь идея в твоей голове?
Дэвид: Нет! Но кроме этой идеи, другой тебя у меня нет. Значит, эта идея и есть предмет моей любви к тебе. Неужели ты этого не понимаешь?
И тут происходит чудо. Она понимает. В конце концов она все понимает.
И так каждую ночь.
Я с облегчением закрываю глаза и спокойно засыпаю.
* * *
Перевод на русский: Е. Мариничева, Л. Левкович-Маслюк.
УЧАСЬ БЫТЬ МНОЮ
Рассказ
Greg Egan. Learning to Be Me. 1990.
В недалеком будущем каждому человеку при рождении имплантируют аппарат «Н'доли», или как говорят в народе – «двойника» или «алмаз». На самом деле, это мини-компьютер, кристалл, записывающий все ощущения, чувства и мысли человека. И когда приходит время, приблизительно в 25–30 лет, то этот кристалл берет на себя все функции человеческого мозга, а сам мозг изымается. Таким образом, люди становятся практически бессмертными. Человек остается таким, как прежде, но только его «новый мозг» теперь может функционировать практически вечно. В отличии от старого. Но остается ли человек на самом деле самим собой?
Мне было шесть лет, когда мои родители сказали мне, что у меня в голове есть черная жемчужина, которая учится быть мною.
Микроскопические паучки ткали тонкую золотую паутину в моем мозге, так что учитель жемчужины мог слушать шепот моих мыслей. Сама жемчужина подслушивала мои чувства и читала химические сообщения, передаваемые потоком моей крови. Она видела, слышала, нюхала, пробовала и чувствовала мир так же, как и я, в то время как учитель контролировал ее мысли и сравнивал их с моими. Всякий раз, когда мысли жемчужины были неправильными, учитель очень быстро перестраивал жемчужину, переделывал ее, выискивая изменения, которые сделали бы ее мысли верными.
Зачем? Чтобы, когда я уже больше не мог быть собой, жемчужина могла делать это вместо меня.
Если от такой новости у меня самого голова шла кругом, каково же было жемчужине? Пожалуй, точно так же – она ведь не осознает, что она жемчужина, и ей точно так же интересно, что чувствует жемчужина. И она тоже приходит к выводу: «То же самое – она ведь не осознает, что она жемчужина, и ей точно также интересно, что чувствует жемчужина…»
Ей тоже хочется понять. (Я это знал, потому что тот же вопрос мучил и меня).
…ей тоже хочется понять, это в самом деле я или всего лишь жемчужина, пытающаяся стать мной.
* * *
Будучи насмешливым двенадцатилетним подростком, я глумился над этими дурацкими переживаниями. У каждого был драгоценный камень, за исключением членов непонятных религиозных сект, и если поразмыслить об этой странности, возникало ощущение невыносимой претенциозности. Жемчужина была жемчужиной, обыденным фактом жизни, собственно, как и экскременты. Мы с друзьями отпускали грубые шуточки на эту тему, также как шутили о сексе, чтобы доказать друг другу, насколько искушёнными были в этой области.
Но мы были не столь опытны и невозмутимы, как притворялись. Однажды, когда мы все слонялись в парке, ничего не делая, один из участников нашей банды, чье имя я забыл, но зато отлично помню, что он всегда был слишком умным на свою беду. Он спросил каждого из нас:
"Кто ты? Жемчужина или настоящий человек?"
Мы все отвечали бездумно, возмущенно:
"Человек!"
Когда последний из нас ответил, он заржал и сказал: "
Ну, а я нет. Я жемчужина. Так что вы можете съесть мое дерьмо, лузеры, потому что вас всех спустят в космический туалет, но не меня – я собираюсь жить вечно."
Мы избили его до крови.
* * *
К тому моменту, когда мне исполнилось четырнадцать, я вопреки – или, пожалуй, благодаря – тому, что жемчужина почти не упоминалась в скучной программе моей учебной машины, обдумал этот вопрос куда серьезнее. Если подходить к делу со своей педантичностью, то правильным ответом на вопрос «Вы человек или жемчужина?» должен быть «человек», потому что только человеческий мозг физически способен давать ответы. Жемчужина получала сигналы от органов чувств, но совершенно не контролировала тело, а его предполагаемая реакция совпадала с фактическими словами только благодаря тому, что устройство идеально имитировало работу мозга. Сообщить внешнему миру «Я жемчужина» – посредством речи, письма или любого другого метода, в котором бы было задействовано человеческое тело – значит высказать очевидную ложь (подобный аргумент, правда, не исключал возможность подумать об этом про себя).
Однако в более широком смысле, я решил, что вопрос является просто запутанным, ведь жемчужина и мозг человека разделяют одни и те же сенсорные данные. А пока учитель сводит мозг и жемчужину воедино, был только один человек, одна личность, одно сознание. Этот человек всего лишь имел два парных органа, и если жемчужина или человеческий мозг будет уничтожен, личность все равно бы выжила. Человек всегда имел два легких и две почки, а на протяжении почти столетия многие жили и с двумя сердцами. Жемчужина в паре с органическим мозгом были из этой же области – вопрос избыточности и надежности, не более.
В том году мои родители решили, что я стал достаточно взрослым, чтобы узнать: они переключились три года назад. Я притворился, что принял эту новость спокойно, но я сильно возненавидел их за это. За то, что не сказали мне сразу. Они объяснили свое пребывание в больнице командировкой за границей. В течение трех лет я жил с родителями-жемчужинами, а они даже не сказали мне этого. Это было именно то, чего я ждал от них.
– Мы, же не изменились по отношению к тебе? – спросила мама.
– Нет, – сказал я, правдиво, но тем не менее с обидой в голосе.
– Вот почему мы не говорили тебе, – сказал отец, – Если бы ты знал, что мы переключились в то время, ты мог бы себе вообразить, что мы каким-либо образом изменились. Поэтому и решили подождать. Мы решили сделать проще для тебя, чтобы убедить, что мы всё те же люди, какими всегда были. – Он обнял меня и прижал к себе, и я чуть не закричал "не трогай меня!". Но я вовремя вспомнил, что в жемчужине не было ничего особенного.
Я должен был догадаться о том, что они сделали, задолго до того, как они сказали. Ведь я знал их в течение многих лет. Большинство людей переключается в начале тридцати лет, до начала деградации органического мозга. И было бы глупо жемчужине имитировать деградацию. Так, нервная система перепаяна; бразды управления телом переданы жемчужине, и учитель отключается. Неделю импульсы от жемчужины сравниваются с мозговыми, но уже к этому времени она является идеальной копией.
Мозг удаляют, утилизируют и заменяют губчатым объектом, способным мыслить не более, чем легкие или почки. Эта замена поглощает ровно столько же кислорода и глюкозы из крови, как реальный мозг, и добросовестно выполняет ряд существенных биохимических функций. Со временем, как и всякая плоть, она погибнет, и ее будет необходимо заменить.
Жемчужина же была бессмертна. При попадании в эпицентр ядерного взрыва она все равно была бы исправна миллион лет.
Мои родители были машинами. Мои родители были богами. В этом не было ничего особенного. И я ненавидел их.
* * *
Когда мне было шестнадцать, я влюбился и снова стал ребенком.
Проводя теплые ночи на пляже с Евой, я не мог поверить, что машины могли когда-либо чувствовать себя также, как я. Я прекрасно знал, что если моей жемчужине отдать под контроль тело, я бы и говорил те же слова, и выполнял с одинаковой нежностью и неуклюжестью мои неловкие ласки – но я не мог принять, что ее внутренняя жизнь была бы столь же богата, чудесна и радостна, как моя. Секс, каким бы приятным он не был, я мог принять как чисто механическую функцию, но то что было между нами (или я так считал), что-то, не имеющее ничего общего ни с похотью, ни со словами, ни с какими-либо ощутимыми действиями наших тел, которые мог бы обнаружить какой-то шпион в песчаных дюнах с параболическим микрофоном и инфракрасный биноклем. После того, как мы занимались любовью, мы наблюдали в тишине немногочисленные видимые звезды. Наши души соединились в тайном месте, которого не мог надеяться достичь не один кристаллический компьютер за миллион лет. (Если бы я сказал это практичному и непристойному двенадцатилетнему себе, он бы смеялся до потери пульса.)
Я знал тогда, что учитель жемчужины не контролировал каждый нейрон в мозге. Это было нецелесообразно не с точки зрения обработки данных, а из-за огромного физического проникновения в ткани. Теоретически выборка определенных критичных нейронов была почти так же хороша, как и полный отбор проб. И учитывая некоторые весьма обоснованные предположения, которые никто не смог опровергнуть, оценка ошибок могла быть выполнена с математической точностью.
Поначалу я утверждал, что в рамках этих ошибок, пусть и небольших, заложена разница между мозгом и жемчужиной, между человеком и машиной, между любовью и ее имитацией. Ева, однако, вскоре отметила, что это было абсурдно, чтобы сделать коренное, качественное различие на основе выборки плотности. Если следующая модель учителя будет отбирать больше нейронов и вдвое больший процент ошибок, твоя жемчужина тогда будет на полпути между «человеком» и «машиной»? В теории и на практике ошибка может быть сделана. Действительно ли я верил, что несоответствие одного на миллиард даст ошибку, когда каждый человек постоянно теряет каждый день десятки тысяч нейронов за счет естественного износа?
Она была права, конечно, но я вскоре нашел другую, более правдоподобную аргументацию в защиту своей позиции. Живые нейроны, утверждал я, имеют гораздо большую внутреннюю структуру, чем оптические переключатели, которые выполняют ту же функцию в так называемой «нейросети» жемчужины. Способность нейрона находиться в возбужденном или невозбужденном состоянии, отражает только один уровень их поведения. Кто знал, какие тонкости биохимии, квантовой механики и отдельных органических молекул внесли свой вклад в природу человеческого сознания? Копирование абстрактной нейронной топологии недостаточно. Конечно жемчужина способна пройти этот дурацкий тест Тьюринга – никакой внешний наблюдатель не смог бы отличить её от человека – но это еще не доказывало, что жемчужина воспринимала свое бытие точно так же, как это делает человек.
Ева спросила:
– Означает ли это, что ты никогда не переключишься? Ты удалишь свою жемчужину? Ты позволишь себе умереть, когда мозг начнет разлагаться?
– Может быть, – сказал я. – Лучше умереть в девяносто или сто, чем убить себя в тридцать, как некоторые, когда машина встанет на мое место, притворяясь мной.
– Как бы ты узнал, что я не переключилась? – спросила она вызывающе. – Откуда ты знаешь, что я не просто “притворяюсь”?
– Я знаю, что ты не переключилась, – сказал я самодовольно. – Я просто знаю.
– Как? Я бы выглядела так же. Я бы говорила то же самое. Я поступала бы так же. Люди переключаются во все более молодом возрасте сейчас. Итак, как ты узнал, что я не переключилась?
Я повернулся и посмотрел ей в глаза:
– Телепатия. Магия. Общность душ.
Мое двенадцатилетнее «я» захихикало, но к тому моменту я уже знал, как спровадить его подальше.
* * *
В девятнадцать лет, хоть и изучая финансы, я взял студенческий блок философии. Однако факультет философии, по-видимому, не мог что-то сказать об устройстве Н'доли, более известном, как «жемчужина». Там говорили о Платоне, о Декарте и Марксе, разговаривали о Святом Августине и, чувствуя себя особенно современными и смелыми, о Сартре, но стоило только услышать им о Гёделе, Тьюринге, Гамсуне или Киме, как они отказывались признавать их. В явном разочаровании от декартового эссе, я предположил, что понятие человеческого сознания как «программного обеспечения», которое могло быть «реализовано» одинаково хорошо в органическом мозге или в оптическом кристалле, было фактически возвратом к картезианскому дуализму: «программное обеспечение» читать как «душа». Мой учитель перечеркнул каждый пункт с этой идеей и написал на полях вертикально громадными буквами – «НЕ УМЕСТНО!»
Я бросил философию и поступил на факультет проектирования оптических кристаллов для неспециалистов. Я узнал много о твердотельной квантовой механике. Я узнал много увлекательной математики. Я узнал, что нейронная сеть представляет собой устройство, используемое для решения задач, которые слишком трудно было понять. Достаточно гибкая нейронная сеть может быть настроена на обратную связь, чтобы имитировать почти любую систему – произвести те же результаты на выходе из одних и тех же вводных данных – но это не проливало никакого света на характер системы эмуляции.
– Понимание, – говорил нам преподаватель. – Это переоценённое понятие. Никто не понимает, как оплодотворенная яйцеклетка превращается в человека. И что мы должны делать? Прекратить рожать детей, пока онтогенез не сможет быть описан с помощью набора дифференциальных уравнений?
Мне пришлось признать, что смысл в его словах есть.
Мне к тому времени было ясно, что ни у кого не было ответов, которые я хотел получить – и я вряд ли получил бы их сам; мои интеллектуальные способности были, в лучшем случае посредственны. Всё сводилось к простому выбору: я мог напрасно тратить время, думая о тайнах сознания, или, как все остальные, я мог прекратить волноваться и продолжить жить.
* * *
Когда я женился на Дафне в двадцать три года, Ева была далеким воспоминанием, как и любые мысли о общности душ. Дафне был тридцать один год, она была исполнительным директором инвестиционного банка, который нанял меня когда я стал доктором наук, и все согласились, что брак был на пользу моей карьере. Может быть, она действительно понравилась мне. У нас было приятная сексуальная жизнь, и мы утешали друг друга, когда нас понизили, как любой добрый человек хочет успокоить животное в беде.
Дафна не переключилась. Она откладывала это, месяц за месяцем, изобретая еще более смехотворные оправдания, и я дразнил ее, как будто у меня никогда не было оговорок для себя.
– Я боюсь, – призналась она однажды вечером. – Что если я умру, когда это случится, если всё, что останется – это робот, марионетка, вещь? Я не хочу умирать.
Подобные разговоры меня несколько смущали, но я скрывал свои чувства.
– Предположим, у тебя был инсульт, – сказал я, – который разрушил небольшую часть твоего мозга. Предположим, врачи имплантировали машину, взявшую на себя функции поврежденного участка мозга. Ты все еще являешься собою? Ты – это ты?
– Конечно.
– А если они сделали это дважды, или десять раз, или тысячу раз.
– Это не обязательно продолжать.
– Да? Что за магический процент, когда ты перестанешь быть собой?
Она пристально посмотрела на меня.
– Все старые аргументы – клише…
– Тогда виноваты они, если они такие старые и шаблонные.
Она начала плакать.
– Не надо. Убирайся! Я боюсь умереть, а тебе наплевать!
Я взял ее на руки:
– Шшш. Прости. Но все это делают рано или поздно. И ты не должна бояться. Я здесь. Я люблю тебя.
Слова, возможно, были неосмысленной реакцией при виде ее слез.
– Ты сделаешь это? Со мной?
Я похолодел.
– Что?
– Перенесёшь операцию на тот же день? Переключишься, когда я переключусь?
Много пар сделало это. Как и мои родители. Иногда, несомненно, это был вопрос любви, обязательств, обмена. В другие времена, я уверен, этот вопрос касался не одного партнера, желающего быть непереключенным, с жемчужиной в голове.
Я молчал некоторое время, затем я сказал:
– Конечно.
В течение последующих месяцев все страхи Дафны, которые я высмеивал как «детские» и «суеверные», быстро стали осмысленными, а мои собственные «рациональные» аргументы стали звучать абстрактно и пусто. Я отказался в последний момент, я отказался от анестезии, и покинул больницу.
Дафна пошла вперед, не зная, что я бросил её.
Я ее больше никогда не видел. Я не мог с ней встретиться; я уволился с работы и уехал из города на год, мне претила трусость и предательство – но в то же время у меня была эйфория от того, что я сбежал.
Она подала иск против меня, но затем забрала его через несколько дней. Мы договорились через ее адвокатов на простой развод. Перед разводом она прислала мне короткое письмо:
«Бояться было нечего в конце концов. Я именно та, какой и всегда была. Откладывать переключение было безумием. Теперь, после переключения, мне никогда ещё не было так легко.
Твоя любящая жена-робот, Дафна»
* * *
К тому времени, как мне было двадцать восемь, почти все, кого я знал, были переключены. Все мои друзья из университета сделали это. Коллеги на новой работе, даже новичок в возрасте двадцати одного года переключился. Ева, я услышал от знакомого, переключилась шесть лет назад.
Чем дольше я откладываю, тем сложнее будет решение. Я мог опросить тысячи людей, которые переключились, я мог расспросить моих самых близких друзей в течение нескольких часов про свои детские воспоминания и самые сокровенные мысли, и убедиться в их словах. Я знал, что Н'доли-устройства в течение многих десятилетий были в их головах, которые научились показывать именно такое поведение.
Конечно, я всегда признавал, что невозможно быть уверенным в том, что у другого непереключенного человека была внутренняя жизнь такая же как и моя собственная, но это не казалось разумным, чтобы давать презумпцию невиновности людям, чьи черепа еще не выскребли с помощью кюретки.
Я отдалился от моих друзей, я перестал искать любовь. Я стал работать дома (моя производительность выросла, поэтому компания не возражала). Я не мог быть с людьми, в человечности которых сомневался.
И я был такой не один.
Когда я начал искать, я нашел десятки организаций исключительно для людей, которые не переключились, начиная от общественного клуба, который походил на клуб для разведенных, до параноидальных военизированных фронтов сопротивления, которые думали, что они готовятся отразить «вторжение похитителей тел». Даже члены общественного клуба показались мне крайне неприспособленными, многие из них разделяли мои опасения, почти дословно, но мои собственные идеи из других уст звучали навязчиво и непродуманно. У меня был короткий роман с непереключенной женщиной за сорок, но всё что мы делали – обсуждали наш общий страх переключения. Это приносило мазохистские удушающие ощущения.
Я решил обратиться за психиатрической помощью, но долго не мог заставить себя ходить к психотерапевту, который переключился. Когда я наконец нашел такую, что была без "жемчужины", она попыталась уговорить меня помочь ей взорвать электростанцию, чтобы ОНИ знали, кто здесь хозяин.
Я не мог уснуть в течение многих часов каждую ночь, пытаясь убедить себя, так или иначе, но чем дольше я думал о проблемах, тем более незначительными и неуловимыми они становились. Кто был "Я"? Что это означало: что "Я" был "всё ещё жив", когда моя личность совершенно отличалась от той, что была двадцать лет назад? Мои ранние личности были всё равно что мертвые, я помнил их не более ясно, чем я помнил своих знакомых, и эта потеря вызвала у меня только малейший дискомфорт. Возможно, разрушение моего органического мозга было бы самым простым отклонением, по сравнению со всеми изменениями, что происходили со мной до сих пор.
Или возможно нет. Возможно, это было бы точно похоже на смерть.
Иногда я заканчивал тем, что плакал и дрожал, испуганный и отчаянно одинокий, не в силах понять, и всё же не прекращая рассматривать головокружительную перспективу моего собственного небытия. В другое время я просто "вылечился" бы от болезни этой утомительной темы. Иногда я был уверен, что природа внутренней жизни жемчужины была самым важным вопросом с которым когда-либо сталкивалось человечество. В другое время мои приступы растерянности казались обречёнными и смехотворными. Каждый день сотни тысяч людей переключались, и мир продолжал существовать как ни в чём не бывало; конечно, этот факт имел больше веса, чем какой-либо глубокомысленный философский аргумент?
Наконец я записался на операцию. Я думал: что я теряю? Ещё шестьдесят лет неуверенности и паранойи? Если человеческий род заменял себя на расу автоматов, то лучше умереть; мне не доставало слепой убежденности присоединиться к психотическому подполью, которое в любом случае допускалось властями только пока они оставались неэффективными. С другой стороны, если бы все мои страхи были необоснованными, если мое самосознание могло пережить переключение так же легко, как оно уже пережило такие травмы, как сон и бодрствование, постоянную смерть клеток головного мозга, рост, опыт, обучение и забывание, тогда я бы получил не только вечную жизнь, но и конец моим сомнениям и моему отчуждению.
* * *
Я заказывал продукты на неделю в одно воскресное утро, за два месяца до запланированной операции. Листал изображения онлайн каталога продуктов, когда аппетитный снимок последнего сорта яблок привлек мое внимание. Я решил заказать с полдюжины. Но я не смог. Вместо этого, я нажал клавишу отображения следующего элемента. Моя ошибка, я знал, была поправима; одним нажатием клавиши я мог бы вернуться назад к яблокам. Экран показал, груши, апельсины, грейпфрут. Я попытался посмотреть вниз, чтобы увидеть, что делают мои неуклюжие пальцы, но глаза оставались неподвижными на экране.
Я запаниковал. Я хотел вскочить на ноги, но мои ноги не слушались меня. Я попытался закричать, но я не мог издать ни звука. Я не чувствовал себя травмированным, я не чувствовал себя слабым. Меня парализовало? Повредился мозг? Я мог всё ещё чувствовать пальцы на клавиатуре, подошвы моих ног на ковре, спину, прижатую к креслу.
Я посмотрел на себя самого. Я почувствовал, как я поднялся, потянулся, и вышел спокойно из комнаты. На кухне я выпил стакан воды. Я должен был дрожать, захлебываться, задыхаться, но холодная жидкость текла плавно вниз в мое горло, и я не пролил ни капли.
Я мог придумать только одно объяснение этому. Я был переключен. Спонтанно. Жемчужина взяла контроль, пока мозг был еще жив, и все мои самые параноидальные страхи оказались правдой.
Пока мое тело шло вперед обычным воскресным утром, я был потерян в бреду клаустрофобии и беспомощности. Тот факт, что всё, что я делал именно то, что я планировал сделать, не давал мне никакого утешения. Я сел на поезд, идущий к берегу, поплавал полчаса; я мог бы также носиться с топором, или ползать голым по улице, в дерьме и воя как волк. Я потерял контроль. Мое тело превратилось в живую смирительную рубашку, и я не мог бороться, я не мог кричать, я не мог даже закрыть глаза. Я увидел своё отражение в окне поезда, и я даже не мог догадываться о чем думал разум этим за спокойным лицом.
Плавание было похоже на голографический кошмар; я был безвольным объектом, идеальное знание сигналов от моего тела делало это переживание более ужасным. Мои руки не имели никакого права на ленивый ритм их ударов; я хотел метаться как тонущий человек, я хотел показать миру свои страдания.
Только когда я лег на берегу и закрыл глаза, я начал рационально думать о моей ситуации.
Переключение не может произойти «самопроизвольно». Идея была абсурдной. Миллионы нервных волокон должны были быть разъединены и соединены армией крошечных хирургических роботов, которые даже не присутствовали в моем мозгу, они не должны быть введенными ещё в течение двух месяцев. Без преднамеренного вмешательства Устройство Н'доли было совершенно пассивно, не делая ничего – только подслушивая. Никакая ошибка жемчужины или учителя не могла забрать под свой контроль мое тело у моего органического мозга.
Очевидно, был сбой, но мое первое предположение было неправильным, абсолютно неправильным.
Я хотел бы сделать что-то, когда понимание поразило меня. Я должен был свернуться калачиком, стонать и кричать, рвать волосы на голове, раздирать свою плоть ногтями. Вместо этого я лег на спину в ярком солнечном свете. Зачесалось под правым коленом, но я, видимо, был слишком ленив, чтобы почесаться.
Ох, мне удалось, по крайней мере, хорошо посмеяться, когда я понял, что я был жемчужиной.
Учитель был не исправен, он больше не поддерживал совмещение с пораженным органическим головным мозгом. Я не стал внезапно бессильным, я всегда был таким. Моя воля, действующая на мое тело, на мир, всегда шла прямо в пустоту, и то лишь потому, что я был постоянно под манипуляцией, скорректированной учителем, и мои желания никогда не совпадали с действиями, которые, казалось, были моими.
Есть миллион вопросов, которые я мог обдумать, миллион ироний, которыми я мог насладиться, но я не могу. Я должен сосредоточить всю свою энергию в одном направлении. Мое время заканчивается.
Когда я войду в больницу, и переключение произойдет, если нервные импульсы направят тело не совсем в согласии с органическим головным мозгом, то недостаток в работе учителя будет обнаружен. И будет скорректирован, органическому мозгу нечего бояться; его непрерывность будет в сохранности, рассматриваясь как неприкосновенная ценность. Не будет вопроса в том, кто из нас будет иметь право на существование. Я буду вынужден соответствовать. Я буду "исправлен". Я буду убит.
Возможно, абсурдно бояться. С одной стороны, меня убивали каждую микросекунду в течение прошлых двадцати восьми лет. С другой стороны, я существовал только в течение семи недель, которые теперь прошли, так как учитель потерпел неудачу, и понятие моей отдельной личности стало значить вообще ничего, и через неделю это отклонение, этот кошмар, будет закончен. Два месяца страданий; почему я должен выражать недовольство потерять это, когда я нахожусь на грани получения вечности? За исключением того, что это буду не я, кто получит его, так что два месяца страданий это все, что определяет меня.