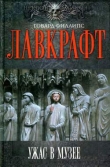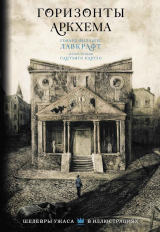
Текст книги "Горизонты Аркхема (сборник)"
Автор книги: Говард Филлипс Лавкрафт
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
В склепе
Пек-Уолли
На мой взгляд, глупо считать, что с простыми людьми никаких других историй, кроме банальных, случиться не может, а ведь именно так думают многие. Стоит вам упомянуть о некой деревеньке, населенной янки, где гробовщик, недотепа и бедолага, остался по неосторожности в склепе, и читатель непременно будет ждать от вас немудреного анекдота с легким налетом гротеска. Однако в весьма заурядной истории, приключившейся с Джорджем Берчем, которую теперь, после его смерти, я могу поведать читателям, есть нечто, в сравнении с чем даже мрачнейшие из трагедий покажутся жизнерадостными побасенками.
В 1881 году Берч неожиданно закрыл свое дело и сменил профессию, не распространяясь о причинах, побудивших его к этому. Молчал и его врач, старина Дэвис, теперь уже почивший в бозе. Считалось, что болезнь Берча явилась следствием пережитого шока – в результате несчастного случая он оказался заперт в склепе на кладбище Пек-Уолли, где провел девять часов и выбрался откуда лишь с превеликим трудом. Все это чистая правда, но были в этой истории и другие, более мрачные подробности; как-то Берч, будучи мертвецки пьян, поведал мне о них. Думаю, он рассказал мне всю правду потому, что я был его врачом, к тому же после смерти Дэвиса его неодолимо тянуло поделиться с кем-нибудь еще. Ведь он был старый холостяк – ни родных, ни близких.
До 1881 года Берч оставался деревенским гробовщиком, но даже среди людей этой профессии выделялся своей черствостью и примитивностью. Качество его работы оставляло желать лучшего и сегодня никого бы уже не удовлетворило, по крайней мере в городах, но думаю, что и жители Пек-Уолли содрогнулись бы, узнай они, как бессовестно ловчит этот мастер ритуальных услуг, когда ему заказывают дорогую обивку, невидную на дне гроба, или с каким небрежением укладывает покойников в их последнее пристанище. Нет сомнений, Берч был неряшлив, равнодушен к людскому горю, никуда не годился в профессиональном отношении, и все же, мне кажется, он не был злым человеком. Просто он был от природы груб – туповатый, ленивый, жадный, что и привело впоследствии к несчастью, которого могло бы и не случиться. У него напрочь отсутствовало воображение, которое не позволяет рядовому обывателю, получившему хоть какое-то воспитание, выходить за общепринятые рамки приличия в своем поведении.
Я не мастер рассказывать истории и поэтому не знаю, с чего начать свое повествование. Может, всего уместнее начать с того холодного декабря 1880 года, когда земля промерзла до такой степени, что могильщики поняли: до весны им не выкопать ни одной могилы. Деревушка, к счастью, была небольшая, умирали нечасто, и потому все клиенты Берча могли найти себе временный приют в старом общем склепе. Наш гробовщик от холодной погоды вовсе разленился и, кажется, превзошел в халатности самого себя. Еще никогда не сбывал он таких утлых и нескладных гробов и совсем не обращал внимания на проржавевший засов склепа, дверцей которого он то и дело хлопал с вызывающей небрежностью.
Наконец пришла весна, и для девятерых умолкших навеки заложников зимы, терпеливо ждавших в склепе часа своего упокоения, были выкопаны могилы. Берч, хоть и не любивший хлопот, связанных с погребением мертвецов, все же одним ненастным апрельским днем начал перевозить гробы, но прекратил работу еще до полудня по причине сильного дождя, беспокоившего лошадь. Он успел доставить к месту вечного приюта одного лишь Дариуса Пека, девяностолетнего старца, чья могила была недалеко от склепа. Берч решил, что перевезет остальных завтра, начав с низкорослого Мэтью Феннера, чья могила также была неподалеку, но проканителился целых три дня, вплоть до пятнадцатого – до Страстной пятницы. Лишенный всяких предрассудков, он не побоялся работать в святой день, хотя впоследствии его никакими силами нельзя было заставить чем-либо в такие дни заниматься. События того вечера, несомненно, очень его изменили.
Итак, пятнадцатого апреля, в пятницу пополудни, Берч впряг лошадь в повозку и направился к склепу, чтобы перевезти гроб с телом Мэтью Феннера. Он не скрывал впоследствии, что был несколько навеселе, хотя тогда еще не пил горькую, как позднее, когда хотел забыться. У него просто немного кружилась голова, отчего он вел себя еще безалабернее обычного, чем раздражал чуткую лошадь. Берч гнал ее к склепу, стегая кнутом, а она ржала, била копытом и мотала головой, как и в тот день, когда им помешал дождь. Было сухо, но дул сильный ветер, и Берч поспешно отпер железную дверь и забрался в склеп, одна сторона которого примыкала к склону холма. Многим было бы не по себе в этом сыром, затхлом помещении, где в беспорядке стояли восемь гробов, но не отличавшегося тонкостью чувств Берча заботило лишь одно – не перепутать гробы и поместить каждого в его могилу. Он еще помнил шумный скандал, который закатили переехавшие в город родственники Ханны Бигсби, когда решили перевезти ее прах на городское кладбище и обнаружили под могильным камнем останки судьи Кепуэлла.
В склепе было темновато, но Берч обладал хорошим зрением и не спутал гроб Асафа Сойера с нужным ему, хотя они почти ничем не отличались. Собственно, вначале гроб этот предназначался для Мэтью Феннера, но получился такой нескладный и шаткий, что Берч, вспомнив, как этот щуплый старичок был добр и щедр к нему, когда пять лет назад Берчу грозило разорение, неожиданно для себя, в приступе какой-то странной сентиментальности, отставил его в сторону. Для Мэтта он сколотил самый лучший гроб, на какой только был способен, однако, поскупившись, сохранил и отвергнутый, приспособив его для Асафа Сойера, когда тот скончался от лихорадки. Сойер был недобрым человеком, о его дьявольской мстительности и злопамятстве ходили легенды. Поэтому Берч не испытал никаких угрызений совести, сплавив ему эту развалюху, которую сейчас и отпихнул с дороги в поисках гроба Феннера.
Но как только он отыскал его, дверь вдруг с шумом захлопнулась, оставив гробовщика почти в полной темноте. Свет едва пробивался сквозь узкую фрамугу да вентиляционное отверстие над головой, и Берчу пришлось пробираться к двери на ощупь, то и дело останавливаясь и спотыкаясь о гробы. Он долго громыхал во мраке проржавевшими задвижками, бился о железные панели, удивляясь, отчего это дверь стала такой неподатливой. Наконец правда открылась ему, и тогда он отчаянно закричал, но его услышала только лошадь, издав в ответ неодобрительное ржание. Засов, к которому он относился столь небрежно, окончательно заклинило, и незадачливый гробовщик, жертва собственной беспечности, оказался запертым в склепе.
Это событие произошло в полчетвертого пополудни. Берч, по природе человек флегматичный и трезвый, вскорости перестал вопить и принялся искать инструменты, которые, как он помнил, лежали где-то в углу склепа. Сомнительно, чтобы он в полной мере прочувствовал весь ужас и фатальность ситуации, однако его основательно раздражал сам факт заточения, столь грубо выключивший его из жизни деревни. Дневной распорядок полностью нарушен, одно ясно: если его не выручит какой-нибудь праздный гуляка, придется провести здесь всю ночь, а может, и больше. Отыскав наконец инструменты и выбрав из них молоток и стамеску, Берч снова пробрался между гробами к двери. Дышать было совершенно нечем, но он не обращал на это внимания, пытаясь справиться с массивным железным засовом. Он отдал бы многое сейчас за фонарь или хотя бы свечу, но за неимением их трудился изо всех сил почти в полной темноте.
Поняв, что с засовом ему не справиться – особенно теми инструментами, которыми он располагал, – Берч огляделся в поисках другого выхода. С одной стороны склеп был врыт в склон холма, и узкая вентиляционная труба проходила через толстый слой земли, что делало абсолютно невозможной попытку выбраться через нее. Однако можно было попытаться расширить узкую фрамугу, расположенную в фасаде строения, прямо над дверью. Берч долго ее разглядывал, прикидывая, как бы до нее добраться. Лестницы в склепе не было, а ниши для гробов, расположенные с трех сторон, которыми, кстати, Берч никогда не пользовался, также были для него бесполезны. Подняться наверх можно было, только составив лестницу из самих гробов, и Берч стал прикидывать, как лучше это сделать. Уже три гроба, поставленные один на другой, давали ему возможность дотянуться до фрамуги, но с четырьмя, считал он, будет удобнее. Все гробы были одного размера, взгромоздить их один на другой не представляло труда, но требовалось покумекать, как поставить все восемь, чтобы «лестница» была поустойчивей. Размышляя обо всем этом, он пожелал себе, чтобы его изделия оказались попрочнее. Однако у него не хватило воображения пожелать также, чтобы они были пустыми.
В конце концов он порешил, что в основание «лестницы» лягут три гроба, установленные параллельно стене, на которые он поставит еще два ряда по два гроба в каждом, а сверху у него будет еще один. Это сооружение позволит без труда взобраться на него, даст устойчивость и нужную высоту. Но потом Берчу показалось, что лучше оставить в основании только два гроба, а один держать в запасе на тот случай, если с четырех ступеней ему будет трудно выбраться наружу. И вот наш узник начал трудиться в темноте, созидая свою миниатюрную вавилонскую башню и обращаясь при этом весьма бесцеремонно с безмолвными останками своих односельчан. От его усилий некоторые гробы уже трещали, и тогда для большей уверенности Берч решил поставить на самый верх прочный гроб Мэтью Феннера. Не доверяя глазам, он попытался отыскать на ощупь и почти сразу же наткнулся на него. Это была великая удача, так как Берч непредусмотрительно запихнул его в третий этаж.
Воздвигнув наконец свою башню, Берч решил дать передышку натруженным рукам и немного посидел на нижней ступени этого мрачного сооружения. Затем, прихватив с собой инструменты, с превеликой осторожностью взгромоздился на самый верх и оказался прямо на уровне фрамуги. Она была со всех сторон выложена камнем, и следовало изрядно потрудиться, чтобы сделать из этой щели достаточно большой лаз. Лошадь при стуке молотка как-то странно заржала; в ее ржании слышались не то издевка, не то одобрение. Уместно было и то и другое. С одной стороны, стать узником сего ветхого строения – какой убийственный сатирический комментарий к тщете человеческих усилий! С другой стороны, стремление выбраться из западни, несомненно, заслуживало всяческого уважения.
Наступивший вечер застал Берча за работой. Теперь он совсем уже ничего не видел – за облаками померк даже свет луны, но все же воспрянул духом, так как щель значительно увеличилась. Он был уверен, что к полуночи сумеет выбраться, и к этой уверенности не примешивалось никакой суеверной робости. На него никак не влияли ни время, ни место, ни странное общество у него под ногами. Он со стоическим спокойствием отбивал камень за камнем, тихонько поругиваясь, когда осколки попадали ему в лицо, но от души расхохотался, когда один попал в лошадь, уже давно бившую в остервенении копытом у кипариса. Лаз понемногу увеличивался, и Берч время от времени делал попытку в него пролезть – при этом гробы под ним шатались и скрипели. Он уже понял, что ему не придется ставить еще один гроб – щель была на досягаемом уровне.
Только в полночь Берч решил, что теперь-то уж наверняка пролезет в отверстие. Усталый и вспотевший, он спустился вниз и присел отдохнуть, чтобы набраться сил для последнего рывка. Голодная лошадь непрерывно ржала, и в этом ржании было нечто настолько жуткое, что даже Берчу стало не по себе. Он уже не чувствовал того подъема, который испытал, уверившись в близком спасении, теперь он опасался, что, раздавшись с возрастом в боках, все-таки не сможет пролезть в дыру. Вновь взбираясь на поскрипывающие гробы, Берч мучительно ощущал собственный вес, а поднимаясь на последний, услышал угрожающий треск, недвусмысленно говоривший, что крышка проломилась. Зря он, видимо, понадеялся на лучшее свое изделие: стоило ему только встать на него, как гнилые доски треснули, и Берч провалился в гроб. Лошадь, испуганная то ли шумом, то ли усилившимся зловонием, издала отчаянный звук, который и ржанием-то нельзя было назвать, и понеслась куда-то в ночную тьму, таща за собой громыхающую тележку.
Берч понял, что положение его аховое – теперь дыра была значительно выше его груди, но, собрав все силы, решился на отчаянную попытку. Уцепившись за край фрамуги, он попытался подтянуться, однако что-то мешало ему, казалось, его крепко держат за ноги. Тут он впервые за все время испытал страх и изо всех сил постарался освободиться от непонятной помехи, но на ноги будто гири навесили. Внезапно он почувствовал резкую боль, как если бы в лодыжку впилось что-то острое. Берч, несмотря на весь свой ужас, объяснил для себя эту боль вполне естественными причинами, полагая, что у треснувшего гроба обнажились гвозди или расщепленные углы. Он, должно быть, кричал, уж во всяком случае, отчаянно брыкался, почти теряя сознание.
Наконец страшным усилием воли Берч вырвался из западни, протиснулся в щель и рухнул на сырую землю. Он не мог, как выяснилось, идти и пополз, волоча окровавленные ноги и конвульсивно впиваясь ногтями в могильную землю, а выглянувшая из облаков луна освещала эту жуткую картину. Берч полз к домику кладбищенского сторожа, тело у него было ватным, а движения замедленными, как в ночном кошмаре. Никто не гнался за ним, во всяком случае, когда Армингтон, ночной сторож, услышав царапанье, открыл дверь, кроме Берча, за нею никого не было.
Армингтон уложил Берча на свободную кровать и послал своего сына Эдвина за доктором Дэвисом. Больной был в полном сознании, но ничего не объяснял, повторяя только что-то вроде: «Мои ноги… пусти… один в склепе». Пришедший со своим неизменным саквояжем и ободряющими словами доктор распорядился снять с несчастного верхнюю одежду и башмаки. Его раны (обе лодыжки в области ахиллова сухожилия были зверски истерзаны, как будто из них вырвали по изрядному куску мяса), казалось, озадачили и даже напугали старого врача. Он с волнением расспрашивал больного о случившемся, дрожащими руками постарался побыстрее обработать и забинтовать раны, не в силах глядеть на это жуткое зрелище.
В вопросах, которые Дэвис задавал гробовщику, звучал плохо скрываемый страх, похоже, он хотел выпытать у своего пациента – что было совсем нехарактерно для старого врача – все до мельчайших подробностей о кошмарном ночном приключении. Его особенно интересовало, уверен ли Берч, что на самом верху стоял тот самый гроб, и как он сумел отыскать его в темноте, точно ли это был гроб Феннера и как ему удалось отличить его от того, в котором покоился зловредный Асаф Сойер. И мог ли так внезапно треснуть гроб Феннера? Деревенский врач Дэвис видел, конечно, оба гроба во время похорон и, конечно же, посещал Феннера и Сойера незадолго до их смерти. И помнил свое изумление на похоронах Сойера: как это он поместился в гроб, сделанный по размерам тщедушного Феннера?
Через два часа доктор ушел, посоветовав Берчу говорить всем, что поранил ноги о гвозди и острые углы. Кому придет в голову что-нибудь другое? Лучше помалкивать и не обращаться к другим врачам. Берч так и сделал, я же со своей стороны, осмотрев после его откровений старые, бледные уже шрамы, согласился, что это был мудрый совет. Берч навсегда остался хромым – связки так полностью и не восстановились, – но, полагаю, самый большой ущерб понесла его душа. Психическое здоровье гробовщика заметно пошатнулось, больно было видеть, как бывший увалень и флегматик вздрагивает при одном лишь упоминании о пятнице, склепе, гробе и подобных вещах. Его напуганная лошадь вернулась-таки домой, но его разум в прежнем виде не возвратился к нему. Он сменил работу, но так и не обрел покоя. Возможно, его мучил страх, возможно, на этот страх позднее наложилось раскаяние в совершенных грехах. Желая забыться, он пристрастился к спиртному.

Той ночью, оставив Берча, доктор Дэвис, взяв с собой фонарь, направился к склепу. При свете луны он увидел разбросанные осколки камней и изуродованный фасад строения. Дверца склепа легко подалась, едва он дотронулся до нее. Насмотревшийся всего в операционных, доктор смело вошел внутрь и огляделся. Но от тяжелого зловония и открывшегося перед ним зрелища у доктора перехватило дыхание. Он громко закричал, крик перешел в еще более ужасный хрип. В следующее мгновение он уже несся к сторожке и там, забыв все правила профессиональной этики, разбудил пациента и, тряся его, возбужденно и прерывисто зашептал нечто такое, что обожгло уши гробовщика, будто с шипением изрыгаемый яд.
«Это был Асаф! Так я и думал! Я хорошо помню, у него не хватало переднего зуба. Заклинаю, не показывай никому свои раны – там есть эти отметины. Труп почти разложился, но злобное выражение на его лице… на его бывшем лице… видно и сейчас… Ведь это сущий дьявол. Помнишь, как он разорил старого Раймонда, и это через тридцать лет после спора о границе между их участками! Или как безжалостно раздавил он прошлым летом укусившего его щенка! Сущий дьявол, Берч! Он может мстить и из гроба. Спаси меня, Боже, от его мести!
Зачем ты сделал это, Берч? Конечно, он был негодяй, и я не виню тебя за этот бракованный гроб, но все же ты зашел слишком далеко. Экономить, конечно, не грех, но ведь старина Феннер был такого маленького роста!
Этого зрелища я никогда не забуду. Брыкался ты, видать, здорово – гроб Асафа валяется на земле, череп расколот, кости раскиданы. Всякого я насмотрелся, но такого не упомню! Жуткое зрелище! Бог свидетель, ты, Берч, получил по заслугам. Череп заставил меня содрогнуться, но то, что я увидел потом, было во сто крат хуже: содранное с твоих лодыжек мясо лежит в бракованном гробу Мэтта Феннера!»

Сны в Ведьмином доме
Аркхем
Сны ли вызвали лихорадку или лихорадка послужила причиной снов, Уолтер Гилман не знал. На заднем плане затаился тягостный, неотвязный ужас пред древним городом и перед про́клятой затхлой мансардой под самой крышей, где он писал, корпел над книгами и сражался с цифрами и формулами, когда не метался беспокойно на нищей железной кровати. Слух его сделался сверхъестественно, невыносимо чуток; Гилман давным-давно остановил дешевые каминные часы – их тиканье со временем зазвучало для него артиллерийской канонадой. Ночью еле различимые шорохи из непроглядной городской черноты снаружи, зловещий топоток крыс в изъеденных червями перегородках и поскрипывание незримых балок векового дома складывались для него в адскую какофонию. Темнота неизменно полнилась необъяснимыми звуками – и однако ж порою Гилман содрогался от страха при мысли о том, что эти шумы стихнут и тогда он, чего доброго, расслышит и другие – еще более слабые и неясные.
Гилман жил в неизменном, овеянном легендой Аркхеме, с его нагромождениями двускатных крыш, что нависают и проседают над чердаками – на этих чердаках в темные, былые дни Провинции от королевских стражников прятались ведьмы. Во всем городе не нашлось бы места, более пропитанного жуткими воспоминаниями, нежели приютившая Гилмана мансарда: ведь в этом самом доме и в этой самой комнате некогда ютилась старуха Кезия Мейсон, чей побег из Салемской тюрьмы так в итоге и остался загадкой. Было это в 1692 году: тюремщик тронулся умом и бессвязно бормотал что-то про мелкую мохнатую тварь с белыми клычками, что якобы шмыгнула из камеры Кезии, и даже сам Коттон Мэзер[2]2
Коттон Мэзер (Cotton Mather, 1663–1728) – американский ученый, биолог и медик, проповедник, писатель и памфлетист. Близко общался со многими из судей, участвовавших в процессе Салемских ведьм; в связи с процессом написал трактат о доказательной силе тех или иных свидетельств. – Здесь и далее прим. пер.
[Закрыть] не смог истолковать смысл углов и кривых линий, намалеванных на серых каменных стенах какой-то красной липкой жидкостью.
Вероятно, Гилману не стоило так усердствовать в своих занятиях. От неевклидовой геометрии и квантовой физики у кого угодно ум за разум зайдет, а если еще сдобрить все это фольклористикой и пытаться выявить странную подоплеку многомерной реальности, что стоит за зловещими намеками готических повестей да нелепых пересудов у камелька, тут уж и впрямь добра не жди. Приехал Гилман из Хаверхилла, но лишь поступив в Аркхемский колледж, он стал пытаться увязать математику с фантастическими легендами о древней магии. Было в самом воздухе многовекового города что-то такое, что подспудно действовало на его воображение. Профессора Мискатоникского университета наперебой уговаривали его сбавить темп и сами, по доброй воле, несколько раз сокращали ему курс. Более того, Гилману запретили работать с сомнительными старинными книгами о недозволенных тайнах, что хранились под замком и под спудом в университетской библиотеке. Но все эти предосторожности запоздали: Гилман уже почерпнул недобрую подсказку-другую из кошмарного «Некрономикона» Абдула Альхазреда, фрагментарной «Книги Эйбона» и запрещенного труда Unaussprechlichen Kulten, или «Неназываемые культы», фон Юнцта и соотнес эти подсказки со своими абстрактными формулами, описывающими свойства пространства, и взаимосвязанностью ведомых и неведомых измерений.
Гилман знал, что живет в старом Ведьмином доме – поэтому, собственно, он здесь комнату и снял. В округе Эссекс сохранилось немало документов по процессу Кезии Мейсон, и то, в чем она под давлением призналась суду, Гилмана несказанно завораживало. Старуха рассказала судье Готорну про линии и спирали, что могут выводить из уз пространства в иные пределы, и намекнула, что эти самые линии и спирали частенько использовались на полуночных сборищах в темной долине белого камня за Луговым холмом и на безлюдном речном островке. Упомянула она и о Черном Человеке, и о своей клятве, и о своем новом тайном имени Нахаб. А потом начертала эти узоры на стенах своей камеры – и исчезла.
Гилман свято верил всей небывальщине, что рассказывали о Кезии, и, узнав, что дом ее стоит и по сей день, спустя более 235 лет, ощутил некий странный трепет. Когда же он услышал боязливые аркхемские перешептывания о том, что Кезия, дескать, по-прежнему появляется в старом особняке и узких окрестных улочках, и о том, что на спящих в этом доме и в соседних домах обнаруживаются неровные отметины человеческих зубов, и о детских криках, что слышатся накануне первого мая и Дня Всех Святых, и о гнусном зловонии, что зачастую ощущается в мансарде старого дома сразу после этих страшных дат, и о мелкой, мохнатой, острозубой твари, что рыщет по прогнившему зданию и по городу и с любопытством обнюхивает людей в темные часы перед рассветом, – Гилман твердо решил поселиться именно тут, чего бы ему это ни стоило. Снять комнату оказалось нетрудно, дом пользовался дурной славой, сдать его целиком не удавалось, так что его давно переоборудовали под дешевые «меблирашки». Гилман понятия не имел, что ожидал там обнаружить: просто знал, что хочет жить под той самой крышей, где волею обстоятельств убогая старуха семнадцатого века нежданно-негаданно обрела понимание таких математических глубин, рядом с которыми ничего не стоили последние современные изыскания Планка, Гейзенберга, Эйнштейна и де Ситтера[3]3
Макс Карл Энрнс Людвиг Планк (Max Karl Ernst Ludwig Planck, 1858–1947) – выдающийся немецкий физик, основатель квантовой теории.
Вернер Карл Гейзенберг (Werner Karl Heisenberg, 1901–1976) – немецкий физик-теоретик, один из создателей квантовой механики.
Виллем де Ситтер (Willem de Sitter, 1872–1934) – нидерландский математик, физик и астроном.
[Закрыть].
Гилман внимательно изучил деревянные и оштукатуренные стены, ища следы загадочных знаков во всех доступных местах, где отклеились обои, и, не прошло и недели, как заполучил комнату в восточной части мансарды, где Кезия якобы творила свои заклинания. Комната с самого начала пустовала – никто так и не захотел задержаться в ней надолго, – но поляк-домовладелец со временем стал побаиваться сдавать ее кому бы то ни было. Однако ничего страшного с Гилманом не случилось – во всяком случае, вплоть до прихода болезни. Призрак Кезии не порхал по мрачным коридорам и покоям, никакие мохнатые твари не прокрадывались в жуткое гнездо под самой крышей обнюхать жильца – однако ж и неустанные поиски не увенчались успехом: никаких записей о ведьминых заклинаниях Гилман так и не нашел. Порою он отправлялся на прогулку по сумеречным лабиринтам немощеных, пахнущих затхлостью улиц, где зловещие коричневые особняки невесть какого века кренились, шатались, насмешливо щурились мелкими переплетами узких оконцев. Гилман знал: некогда здесь происходило немало всего странного, а за внешней видимостью маячило смутное ощущение того, что, возможно, не все из этого чудовищного прошлого исчезло безвозвратно – чего доброго, прошлое это живо и по сей день на самых темных, самых узких и прихотливо извилистых улочках. Пару раз Гилман сплавал на веслах на речной островок с недоброй репутацией и зарисовал характерные угловатые линии, образованные мшистыми рядами стоячих камней неведомого и незапамятного происхождения.
Комната Гилману досталась просторная, зато до странности несимметричная; северная стена заметно покосилась внутрь по всей длине, а низкий потолок шел вниз, под уклон, в том же самом направлении. Если не считать явной крысиной норы и следов других таких же, заделанных, не было никакого доступа (и никаких следов того, что такой проход когда-либо существовал) к зазору, что, по-видимому, образовался между покосившейся внутренней стеной и ровной внешней стеною дома с северной стороны. Хотя, если посмотреть снаружи, можно было разглядеть, что здесь когда-то в незапамятные времена заколотили досками окно. К чердаку над потолком, с покатым, по всей видимости, полом, – в этом месте доступа тоже не было. Когда же Гилман вскарабкался по приставной лестнице на затянутый паутиной чердак, там, где над остальной частью мансарды пол был ровным, он обнаружил следы былого отверстия, которое надежно, просто-таки намертво забили старыми досками с помощью крепких деревянных гвоздей, что были в ходу у плотников колониального периода. Однако ж Гилману так и не удалось убедить флегматичного домохозяина позволить ему исследовать какую-либо из этих заделанных пустот.
По мере того как шли дни, неровная стена и потолок все больше занимали Гилмана; он принялся вычитывать в странных углах математический смысл, что словно бы наводил на некие мысли об их предназначении. Старуха Кезия, размышлял он, конечно же, жила в комнате с необычной конфигурацией не просто так: не она ли уверяла, будто через определенные углы она перемещается за пределы ведомого нам мирового пространства? Но постепенно Гилман утратил интерес к неизведанным зазорам за наклонными поверхностями: теперь ему казалось, что назначение их следует искать на этой стороне, а не на той.
Первые признаки мозговой горячки и сны проявились в начале февраля. Какое-то время, по всей видимости, причудливые углы Гилмановой комнаты оказывали на него странный, почти гипнотический эффект; с приближением промозглой зимы он ловил себя на том, что все пристальнее и пристальнее смотрит на угол, где скошенный вниз потолок сходился с накренившейся внутрь стеной. Примерно в то же время неспособность сосредоточиться на прежних научных занятиях изрядно его встревожила: экзамены середины года внушали ему самые серьезные опасения. Но обострившийся слух досаждал ему ничуть не меньше. Жизнь превратилась в непрекращающуюся, почти нестерпимую какофонию, которой сопутствовало неотвязное, пугающее ощущение иных звуков – возможно, откуда-то из областей за пределами жизни, – что подрагивали на самой грани слышимости. Что до звуков реальных, хуже всего были крысы в старых перегородках. Порою казалось, что скребутся они не столько украдкой, сколько нарочито. Когда это царапанье доносилось из-за наклонной северной стены, к нему примешивалось что-то вроде сухого дребезжания, а когда оно слышалось с вот уже целый век как заколоченного чердака над скошенным потолком, Гилман всегда собирался с духом, как если бы ожидал, что некий ужас, выжидающий своего часа, низвергнется вниз и поглотит его целиком.
Сны со всей определенностью выходили за рамки разумного; Гилман полагал, что они – не иначе как следствие его математических изысканий вкупе с фольклористикой. Слишком много размышлял он о смутных пределах, что, как подсказывали ему формулы, непременно таятся вне ведомых нам измерений, и о вероятности того, что старая Кезия Мейсон – направляемая некой непостижной силой – в самом деле отыскала врата в эти пределы.
Пожелтевшие бумаги из окружных архивов с показаниями Кезии и ее обвинителей соблазнительно намекали на то, что человеческому опыту неподвластно, – а описания юркого мохнатого существа, ее фамильяра, были пугающе реалистичны, невзирая на все неправдоподобные детали.
Это существо размером с хорошую крысу горожане затейливо окрестили ≪Бурым Дженкином; по-видимому, то был результат прелюбопытного случая симпатической массовой галлюцинации, ведь в 1692 году целых одиннадцать человек подтвердили, что своими глазами видели это существо. Да и недавние слухи поразительно и даже пугающе сходились на одном и том же. Свидетели уверяли, что тварь эта с виду – крыса, с длинной шерстью, но острозубая бородатая мордочка смахивает на лицо злобного карлика, а лапы напоминают крохотные человеческие руки. Этот монстр служил посредником между старухой Кезией и дьяволом, а вскормлен был на ведьминой крови – сосал ее как вампир. Голос его звучал как мерзкое хихиканье; тварь владела всеми языками на свете. Из всех противоестественных чудищ в Гилмановых снах ни одно не повергало его в такую панику и не вызывало такой тошноты, как эта кощунственная помесь человечка и крысы: жуткий образ мельтешил в его ночных видениях в обличии в тысячу раз более омерзительном, нежели бодрствующий ум способен был представить на основании старинных записей и нынешних слухов.
В своих снах Гилман по большей части нырял в бездонные пропасти, наполненные необъяснимо цветными сумерками и беспорядочной невнятицей звуков: материю этих пропастей, их гравитационные свойства и отношение к реальности собственного бытия он даже не пытался объяснить. Он не шел, не карабкался, не летел и не плыл, не полз и не проскальзывал, извиваясь; и однако же всякий раз испытывал некое движение, отчасти сознательное, отчасти – непроизвольное. О своем состоянии он судить не мог: из-за странной рассогласованности перспективы разглядеть собственные руки, ноги и туловище не представлялось возможным. Тем не менее он чувствовал, что его физическая организация и способности чудесным образом преобразованы и отражены как в кривом зеркале – хотя и не без гротескной соотнесенности с его обычными пропорциями и качествами.
Пропасти отнюдь не пустовали: они кишмя кишели неописуемо угловатыми сгустками субстанции неземного цвета: одни казались органической материей, другие – нет. Органические порою пробуждали в нем некие смутные воспоминания на самых задворках сознания, хотя Гилман не смог бы на сознательном уровне объяснить, что именно они гротескно пародируют или напоминают. Позже в снах он научился различать отдельные категории органических объектов: по-видимому, в каждом случае имели место совершенно разные типы образа действий и исходной мотивации. Одна из категорий, как ему казалось, включала в себя объекты менее алогичные и непоследовательные в своих передвижениях, нежели представители других категорий.