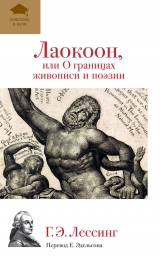
Текст книги "Лаокоон, или О границах живописи и поэзии"
Автор книги: Готхольд-Эфраим Лессинг
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
X
Отметим еще одно недоумение Спенса, ясно показывающее, как мало вообще он думал о границах между поэзией и живописью.
«Касаясь муз вообще, – говорит он, – приходится удивляться, что поэты так скупы в их описании, гораздо скупее, нежели можно было ожидать по отношению к столь близким им богиням»74.
Но это то же самое, что удивляться поэтам, почему они, говоря о музах, не пользуются немым языком живописи. Урания для поэта есть муза астрономии; по ее имени, по ее занятиям узнаем мы о ее обязанностях. Для того чтобы изобразить то же самое, художник должен представить ее с указкой, обращенной к небесному глобусу; эта указка, этот небесный глобус, наконец, ее положение – буквы, из которых он заставляет нас складывать ее имя. Но когда поэт хочет сказать, что Урания задолго предвидела по звездам его смерть,
Жребий его давно уж Урании звезды открыли...75 —
почему должен он, следуя живописцу, прибавить: «Урания с указкой в руках, имеющая перед собой небесную сферу»? Не все ли это равно, как если бы человек, способный говорить громко, вздумал употреблять знаки, выдуманные немыми в турецких сералях для общения друг с другом.
Такое же недоумение Спенс обнаруживает еще раз по поводу тех божеств, которые управляли – по представлению древних – добрыми делами и человеческой жизнью76. «Достойно замечания, – говорит он, – что римские поэты о лучших из этих божеств говорят значительно меньше, нежели следовало бы ожидать. Художники в этом отношении щедрее, и кто хочет знать, какой вид имели божества, должен обратиться к монетам римских императоров77. Поэты, правда, говорят довольно часто об этих существах как о живых лицах; но вообще о их атрибутах, одежде и внешнем виде они рассказывают очень мало».
Когда поэт олицетворяет отвлеченные идеи, он уже достаточно характеризует их именем и действиями.
У художника этих средств нет. Поэтому он должен наделять свои олицетворенные абстракции символическими знаками, которые бы давали возможность их распознавать. Эти знаки, имея в данном случае особенное значение, превращают абстракции в аллегории.
Женская фигура с уздой в руке (олицетворение Умеренности) или другая, прислоненная к колонне (олицетворение Постоянства), представляют в изобразительном искусстве аллегорические существа. Между тем умеренность и постоянство являются для поэта не аллегорическими существами, а олицетворенными абстракциями.
Символы такого рода художник изобрел по необходимости. Ибо ничем иным он не может дать понять, что значит та или иная фигура. К чему навязывать поэту те средства, пользоваться которыми художника заставляет необходимость?
То, что так изумляет Спенса, следовало бы предписать поэтам в качестве постоянного правила. Они не должны считать обогащением для себя пользование теми средствами, которыми художники пользуются по необходимости. Средства, изобретенные живописью, чтобы не отстать от поэзии, не должны им казаться совершенством, которому следовало бы завидовать. Художник, украшая простую фигуру символическими знаками, превращает ее в высшее существо. Если же поэт прибегает к этого рода украшениям, то он высшее существо превращает в простую куклу.
Насколько строго древние исполняли это правило, настолько умышленное нарушение его стало любимым пороком новейших поэтов. Все вымышленные ими существа ходят в масках, и те поэты, кто наиболее искусен в этих маскарадах, обыкновенно менее всего пригодны к настоящему делу, а именно к тому, чтобы заставить своих героев действовать и этими действиями характеризовать их.
Впрочем, между атрибутами, которыми художники пользуются для конкретизации отвлеченных идей, есть и такие, которые особенно пригодны для поэтического употребления и достойны его.
Я разумею атрибуты, не заключающие в себе собственно ничего аллегорического, на которые можно смотреть как на орудие, действительно употреблявшееся или пригодное к употреблению в том случае, если бы существа, которым они придаются, действовали как живые лица. Узда в руках Умеренности или колонна, к которой прислонено Постоянство, – аллегории, и, следовательно, поэту они не нужны. Весы в руках Правосудия уже менее аллегоричны, ибо правильное употребление весов есть действительно дело правосудия. Лира же или флейта в руках Музы, копье в руках Марса, молоток и клещи в руках Вулкана уже совсем не знаки: это просто инструменты, без которых эти существа не могли бы совершать приписываемых им действий. К этому роду принадлежат атрибуты, которые иногда вводятся в описания древними поэтами и которые, в отличие от аллегорических, я бы назвал поэтическими. Последние означают самую вещь, первые же – лишь нечто, похожее на нее78.
XI
Граф Кэйлюс принадлежит, по-видимому, к числу тех, кто требует, чтобы поэт наделял свои вымышленные существа украшающими аллегорическими атрибутами79. Такие требования показывают только то, что граф понимал больше в живописи, чем в поэзии. Но самое сочинение его, где выставлено это требование, вызвало у меня весьма важные соображения, наиболее существенные из которых я здесь и приведу.
Художник, по мнению графа, должен ближе ознакомиться с важнейшим поэтом-живописцем, с олицетворением самой природы – с Гомером. Он показывает, какой богатый, еще не затронутый материал представляет для художника изображенная великим греком история, и говорит, что художник добился бы тем большего, чем точнее придерживался бы он самых мельчайших подробностей, замеченных поэтом.
В этом совете смешано разграниченное нами выше двоякое значение подражания. Живописец, по мнению графа Кэйлюса, не только должен подражать тому же, чему подражал поэт, но и подражать теми же приемами: поэт должен быть для него не только рассказчиком, но именно поэтом. Однако, если этот второй вид подражания так унизителен для поэта, почему не быть ему таким же и для художника? Если бы до Гомера существовал такой ряд картин, какой называет Кэйлюс, и мы бы знали, что поэт только описал в своем произведении эти картины, то не уменьшилось ли бы значительно наше восхищение ими? Отчего же, с другой стороны, происходит так, что уважение наше к художнику нисколько не уменьшается, хотя бы он не сделал ничего больше, как перевоплотил слова поэта в краски и фигуры?
Причина эта, кажется, такова. У художника исполнение представляется нам делом более трудным, чем замысел; у поэта же, наоборот, замысел кажется нам более трудным, чем исполнение. Если бы Вергилий заимствовал уже из готовой группы мысль представить Лаокоона, обвитого змеем вместе с детьми, он лишился бы в наших глазах своей важнейшей и труднейшей заслуги, и за ним осталась бы лишь меньшая. Ибо гораздо важнее представить себе сначала эту картину в воображении, нежели выразить ее потом в словах. Наоборот, если художник взял это расположение фигур у поэта, за ним бы оставалась еще значительная заслуга, хотя бы замысел и не принадлежал ему. Ибо выразить что-либо в мраморе бесконечно труднее, нежели выразить в слове, и потому мы всегда готовы простить художнику некоторые недостатки в замысле, поскольку находим у него достоинства в исполнении.
Есть даже случаи, когда большей заслугой художника является подражание природе на основе созданий поэтов, нежели самостоятельное подражание ей. Живописец, изображающий прекрасный ландшафт по описанию Томсона, делает больше того, кто списывает его прямо с природы. Последний имеет оригинал перед глазами. Первый должен сначала так напрячь воображение, чтобы этот оригинал показался ему живым. Один создает нечто прекрасное по живым, чувственным представлениям, другой – по слабым и зыбким представлениям, возбуждаемым произвольными знаками.
Однако как ни естественна наша готовность простить художнику несамостоятельность замысла, столь же естественно такое снисхождение должно было развить в нем и равнодушие к этой стороне дела. Ибо, видя, что замысел никогда не может быть сильной его стороной и что наибольшей похвалы добивается он выполнением, он сделался, наконец, совершенно равнодушным к тому, стар или нов его замысел, был ли он использован один или много раз, принадлежит ли он ему или кому-нибудь другому. Он замкнулся в тесном кругу немногих, уже привычных ему и публике тем и направил всю свою изобретательность только на изменения уже известного, на создание новых сочетаний из старого. Таково именно то представление, которое учебники живописи связывают со словом «замысел». Ибо хотя они разделяют замыслы на живописные и поэтические, но даже и поэтические замыслы не ставят себе у них задачей нахождение самой темы, а имеют в виду расположение или выразительность80. Поэтический замысел касается у них не целого, а лишь отдельных частей и их положения; он представляет замысел того низшего типа, какой рекомендовал Гораций трагическому поэту: «Лучше ты илионскую песнь перекладывай в действо, чем первым то на подмостки вводить, что совсем неизвестно и ново»81, – рекомендовал, но не предписывал; рекомендовал как более легкое и удобное для него, но не предписывал как лучшее и благороднейшее само по себе.
Действительно, поэт, обрабатывающий всем известную историю и всем известный характер, обладает большими преимуществами. Он может опустить сотни холодных мелочей, которые в другом случае были бы необходимы для понимания целого; а чем скорее поймут его слушатели, тем скорее возбудит он их интерес. Таким же преимуществом обладает живописец, когда его замысел не совсем нам чужд, когда мы с первого взгляда понимаем план или идею всего произведения, когда мы не только видим, как говорят его герои, но и слышим, что они говорят. Вся сила впечатления зависит от первого взгляда, и если при этом первом взгляде от нас требуются утомительные соображения и догадки, то наша заинтересованность ослабляется. Чтобы выместить нашу неудовлетворенность непонятным для нас художником, мы восстаем против его средств выразительности, и горе ему, если он пожертвовал для них красотой! Мы не находим тогда ничего, что бы нас привлекало в картине и заставляло останавливаться перед ней; то, что мы видим, нам не нравится, а того, что мы должны бы думать, глядя на нее, мы не знаем.
Итак, мы видели, что, во-первых, оригинальность и новизна сюжета не только не составляют главной задачи художника и что, во-вторых, известный уже сюжет усиливает впечатление от его произведения. Если же это справедливо, то, по моему мнению, причину, почему живописец так редко берется за новые сюжеты, нечего искать, как это делает граф Кэйлюс, в невежестве художника и в трудностях техники изобразительных искусств, требующей для овладения ею много времени и внимания. Напротив, мы найдем для этого более глубокое обоснование, и, может быть, то, что нам казалось прежде несправедливым ограничением для искусства и помехой нашему наслаждению, в художнике придется похвалить как мудрую и нам самим необходимую сдержанность. Я не опасаюсь, что в этом случае меня опровергнет опыт. Живописцы будут, конечно, благодарны графу за его доброе пожелание, но едва ли воспользуются им в той мере, как он этого ожидает. Но если бы даже это и произошло, через сто лет понадобился бы новый Кэйлюс, который бы опять восстановил в памяти художников старые сюжеты и вернул их на то поле, где другие до них пожинали такие лавры. Или, может быть, хотят, чтобы широкая публика была так же учена, как и какой-нибудь книгочей? Чтобы все исторические и легендарные события, которые могут вызвать прекрасную картину, были ей знакомы и близки?
Я согласен, что художники сделали бы лучше, если бы со времен Рафаэля выбрали себе настольной книгой Гомера вместо Овидия.
Но так как этого не произошло, то позвольте уж публике идти своим путем и не портите ей удовольствия, заставляя ее платить за него слишком дорогой ценой.
Протоген написал мать Аристотеля. Не знаю, сколько заплатил ему за это философ. Но то ли вместо платы, то ли вдобавок к ней он дал ему один совет, который был, конечно, лучше всякой платы, ибо я не могу себе представить, чтобы этот совет был простой лестью. Сознавая необходимость для искусства быть понятным для всех, Аристотель посоветовал Протогену изобразить подвиги Александра, подвиги, о которых тогда говорил целый свет и относительно которых он мог предполагать, что они останутся памятными и для потомства. Протоген, однако, не был достаточно благоразумен, чтобы последовать этому совету: некоторая кичливость и стремление к странному и неизвестному, говорит Плиний, влекли его к сюжетам совсем иного рода82. Он охотнее рисовал историю какого-нибудь Иалиса83 или какой-нибудь Кидиппы и т. п., картины, о которых теперь даже нельзя и догадаться, что они изображали.
XII
У Гомера встречается два вида существ и действий: видимые и невидимые. Этого различия живопись допустить не может: для нее видимо все, и видимо одинаковым образом.
Поэтому, когда граф Кэйлюс рассматривает в одной непрерывной связи картины видимых и невидимых действий, когда он в картинах смешанного содержания, где изображаются вместе существа обоего рода, не показывает и, вероятно, не может показать, где должны быть помещены невидимые существа, чтобы их видели только зрители и не видели или, по крайней мере, не могли видеть лица, действующие в картине, то естественно, что в целом ряде картин и во многих отдельных картинах должно встретиться много путаного, непонятного и противоречивого.
Этот недостаток, впрочем, можно было бы еще исправить с книгой в руках; хуже здесь то, что при уничтожении в живописи различия между видимыми и невидимыми существами пропали бы и все характерные черты, которые высший тип существ – невидимых – отличают от видимых.
Например, когда боги, несогласные в том, что касается судьбы Трои, схватываются наконец друг с другом в рукопашном бою, у поэта84 весь этот бой происходит невидимо, что дает свободу воображению, позволяет ему расширить поле действия и представить себе богов и их поступки какими угодно значительными и совершенно отличными от обычных поступков людей. Живопись, напротив, должна довольствоваться видимым полем действий, определенные размеры которого будут служить масштабом при изображении действующих на нем лиц. Этот масштаб, находясь постоянно перед нашими глазами, сделает очевидной несоразмерность величины высших существ, которые вместо того, чтобы представляться, как в описании поэта, только великими, покажутся нам чудовищными в изображении живописца.
Минерва, на которую в упомянутом рукопашном бою Марс нападает первым, отступает назад и поднимает с земли могучей рукой черный, грубый, огромный камень, который с давних времен положен был здесь соединенными усилиями множества людей в качестве пограничного знака.
Зевсова дочь отступила и мощной рукой подхватила
Камень, в поле лежащий, черный, зубристый,
огромный,
В древние годы мужами положенный поля межою.
Чтобы составить себе верное понятие о величине этого камня, нужно вспомнить, что Гомер представляет своих героев вдвое сильнее самых сильных людей своего времени, а те люди, которых знавал в своей юности Нестор, далеко превосходили силою и Гомеровых героев. Теперь спрашивается, какого роста должна быть Минерва, если она бросает в Марса камень подобной величины, камень, который был положен как пограничный знак совокупными усилиями множества людей, и притом таких, какие жили в юности Нестора? Если живописец сделает фигуру Минервы пропорциональной величине камня, то все чудесное пропадет: что удивительного, если человек, который в три раза больше, чем я, бросает камень в три раза больше того, какой я могу поднять? Если же рост богини сделать несоответственным поднимаемой ею тяжести, то в картине обнаружится очевидная несоразмерность, неприятное впечатление от которой не будет ослаблено холодным рассуждением, что богиня должна обладать сверхъестественной силой.
Там, где я вижу большое действие, я хочу видеть и большие орудия.
Марс, сброшенный этим огромным камнем, покрывает своим телом семь десятин.
Семь десятин он покрыл, распростершись...
Невозможно, чтобы живописец придал богу такую необыкновенную величину. Если же он этого не сделает, на земле будет лежать не Марс, не Марс Гомера, а простой воин85.
Лонгин говорит, что ему часто кажется, будто Гомер хочет возвысить своих людей до богов и снизить богов до людей. В живописи действительно происходит такое снижение. В ней полностью исчезает все, что у поэта возвышает богов даже над богоподобными людьми. Рост, сила, быстрота, которыми Гомер наделяет своих богов в гораздо большей мере, нежели лучших из своих героев86, должны быть даны на картине в пределах обыкновенной человеческой нормы, но тогда Юпитер и Агамемнон, Аполлон и Ахилл, Аякс и Марс сделаются совершенно одинаковыми, и распознать их можно будет разве по чисто внешним, условным признакам.
Средством, употребляемым живописью для того, чтобы дать нам понять, что то или другое на картине должно считаться невидимым, является легкое облако, которым это невидимое закрывается от окружающих его на картине лиц. Облако это заимствовано, кажется, у самого Гомера. Ибо когда в смятении битвы один из важнейших героев подвергается опасности, в которой никто не может оказать ему помощи, кроме божества, то у поэта покровительствующее божество облекает обыкновенно героев густым туманом или тьмою и таким образом выводит из битвы. Так Парис спасен был Венерой87, Идей – Гефестом88, Гектор – Аполлоном89. И Кэйлюс никогда не забывает порекомендовать художнику этот туман или это облако для картины подобного рода. Но кто же не видит, что у поэта окружение облаком или тьмою есть только поэтический оборот, заменяющий выражение – «сделаться невидимым». Поэтому мне всегда казались странными попытки овеществить это поэтическое выражение и ввести в картину настоящее облако, за которым герой укрывается, как за ширмой, от своих врагов. Конечно, не такова мысль поэта, и подражать ему в этом – значит выходить за пределы живописи. Облако здесь – чистый иероглиф, простой символический знак, который не делает освобожденного героя действительно невидимым, но как будто хочет сказать зрителю: вы должны представлять себе его невидимым. Облако здесь не лучше тех ярлычков, которые на старых готических картинах выходят изо рта изображенных на них лиц.
Правда, Ахилл у Гомера (в то время, когда Аполлон скрывает от него Гектора) ударяет еще три раза копьем в густое облако.
Трижды вонзал его в мрак он глубокий90.
Но и это на поэтическом языке не должно означать ничего больше, как необыкновенную ярость Ахилла, который ударяет копьем три раза, прежде чем успевает заметить, что врага перед ним уже нет. В действительности никакого облака Ахилл, конечно, не видал, и весь секрет, при помощи которого боги делали героев невидимыми, состоял не в облаке, но в том, что боги быстро уносили их. Но для того, чтобы в то же время показать, как быстро происходило это исчезновение, при котором глаз человеческий не мог уследить за уносимым телом, поэт окружает его сначала облаком; но не потому, чтобы зрители действительно видели облако вместо уносимого героя, а потому, что одетое облаком мы считаем уже невидимым. К этому нужно прибавить, что поэт употребляет иногда обратный прием и, вместо того чтобы сделать невидимым уносимого героя, наводит слепоту на окружающих. Так Нептун ослепляет Ахилла, когда спасает от него Энея и в одно мгновение переносит его из центра схватки в тыл91. В действительности же зрение Ахилла тускнеет в этом случае в такой же малой мере, в какой в предыдущем случае одеваются облаком уносимые герои, но поэт прибавляет и то и другое лишь затем, чтобы нагляднее изобразить необыкновенную быстроту переноса, которую мы называем исчезновением.
Художники, впрочем, не ограничивались введением гомеровского облака в тех только случаях, где его употребил или мог бы употребить сам Гомер, а именно, когда кто-либо исчезает или делается невидимым. Они стали употреблять его в своих картинах всякий раз, когда что-либо должно быть видимо для зрителя и невидимо для всех или некоторой части действующих лиц. Минерва была видима только одному Ахиллу, когда удержала его от оскорбления Агамемнона. Для изображения этого, по мнению Кэйлюса, нет другого средства, как закрыть Минерву облаком со стороны окружающих. Но это совершенно противоречит духу поэта. Быть невидимым для людей – натуральное состояние богов; для этого не нужно никакого ослепления, никакого мрака92; напротив, зрение людей нуждается в некотором просветлении для того, чтобы боги могли сделаться им видимыми. Итак, недостаточно того, что облако у живописцев условный, а не естественный знак; этот условный знак не имеет даже определенной значимости, свойственной подобного рода знакам, ибо живописцы употребляют его и для того, чтобы сделать видимое невидимым, и для превращения невидимого в видимое.








