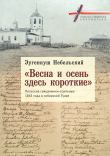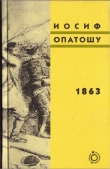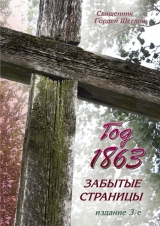
Текст книги "Год 1863. Забытые страницы"
Автор книги: Гордей Щеглов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
Все это было явлением не стихийного характера, а спланированной тактикой действий, о чем красноречиво свидетельствует секретная инструкция о способах ведения вооруженного восстания, присланная из Лондона Главным революционным комитетом Центральному комитету в Варшаве. В ней, между прочим, предписывалось «на всем пространстве изгонять попов и жечь русские церкви», «в русских округах вызвать убийства помещиков и чиновников земской полиции», «деревни, в которых крестьяне замечены в измене, предавать пламени»[57]57
Архивные материалы Муравьевского музея, относящиеся к польскому восстанию 1863–1864 гг. в пределах Северо-Западного края. Ч. 2. Переписка о военных действиях с 10 января 1863 по 7 января 1864 года. – Вильно, 1915. – С. 430–431.
[Закрыть] и т. д. Именно так повстанцы и действовали.
Активнейшее участие в восстании принял Болеслав Свенторжецкий. Соседи-помещики еще ранее избрали его, как наиболее богатого и влиятельного, своим «довўдцем» – предводителем. Видимо этим и объясняется его столь продолжительное отсутствие в имении. Как «довўдца» он должен был собирать людей, закупать оружие, ездить в Варшаву, поддерживая связь с главными организаторами восстания.
В это время отец Даниил, хотя и не имел храма, однако не оставлял общения с прихожанами: ходил по домам, беседовал, совершал требы и вместе с тем зорко следил за развивавшимися событиями. Он уговаривал крестьян беречь местечко, ходить ночью по улицам дозором с палками и косами и быть на всякий случай готовыми к защите. Было очень тревожно. Управляющий Богушевичским имением Малиновский, расположенный к отцу Даниилу, советовал ему ради безопасности уехать из местечка. Но отец Даниил не хотел покидать приход в это смутное время.
До апреля 1863 года о повстанцах в Минской губернии практически не было слышно. Восстание здесь было отложено руководителями «жонда» до приезда Болеслава Свенторжецкого, назначенного военным начальником Минского воеводства[58]58
Восстание в Литве и Белоруссии 1863–1864 гг.: Сборник документов. – М., Вроцлав: Наука, 1965. – С. 92.
[Закрыть]. В начале апреля Свенторжецкий вернулся из-за границы, куда ездил проводить жену, отправлявшуюся для лечения в Ниццу. 17 апреля в имении Богушевичи собралось около 30 человек, вооруженных ружьями, пистолетами и саблями, готовых принять участие в восстании. 19(18) апреля Свенторжецкий и собравшиеся у него люди явились в местное волостное правление, где, кстати сказать, писарем служил поляк – осведомитель повстанцев. В присутствии нескольких «крестьян и баб» Свенторжецкий «прочитал польский манифест и объявил крестьянам, чтобы они не платили никаких податей, не давали рекрут, и что землю отдает он им в дар», заверив при этом, что все книги и бумаги в богушевичской канцелярии уничтожены[59]59
НИАБ. Ф. 296. Оп.1. Д. 56. Л. 16. об. 46
[Закрыть].
В тот день отец Даниил отсутствовал в Богушевичах, находясь где-то по хозяйским делам. Жена его, Елена Ивановна, в это время была дома с двухлетним сыном Алешей и сестрой Александрой. Увидев в окно, как по улице проехала вереница длинных телег с вооруженными людьми, она подумала, что это приехали за ее мужем, в страхе схватила на руки сына и побежала к дому псаломщика. Елена Ивановна в это время была на последних месяцах беременности дочерью Людмилой, родившейся 6 июня. Обнаружив, что двери дома псаломщика заперты, она в каком-то порыве отчаяния разбила окно, порезала себе руку и, не достучавшись ни до кого, пошла в волостное правление. Придя туда, она встретила большое собрание повстанцев и среди них двух знакомых – Болеслава Свенторжецкого и пана Гектора Коркозевича из Логов. Увидев испуганную женщину с ребенком, паны тотчас же спросили, почему она окровавлена, и, узнав, что это не по их вине, успокоились. Когда Елену Ивановну спросили о причине прихода, она стала просить собравшихся господ, чтобы не трогали ее мужа, священника Даниила. Женщине объяснили, что мужа не тронут, если он не будет мешать их делу. Тогда Елена Ивановна, несколько успокоившись, ушла. Однако, вернувшись домой, узнала от сестры, что приходили двое неизвестных людей и устроили строгий обыск всего дома и сараев, разыскивая отца Даниила.
В тот же день повстанцы ушли из Богушевич. Возвратившийся домой, отец Даниил, узнав о случившемся, тотчас же отправился в волостное правление. Там он нашел разорванный и брошенный на пол портрет императора Александра II, а на столе – массу оставленных прокламаций, в которых провозглашалось о восстановлении Польши и ее прав, объявлялись льготы крестьянам, и звучало воззвание к русским «хлопам» вступать в число граждан будущего польского королевства. Отец Даниил, недолго думая, собрал прокламации, порвал их и бросил в топившуюся печь, а разорванный портрет государя забрал к себе домой. Свидетелем этих действий был упомянутый волостной писарь – поляк Рогальский.
В тот же вечер отец Даниил на одной лошадке отправился в город Игумен, чтобы сообщить представителям власти о случившемся в Богушевичах, но по злой иронии судьбы человек, которому он рассказал об этом – исправник Сущинский, – оказался осведомителем повстанцев. Из Игумена отец Даниил поехал в Минск, где также обо всем доложил преосвященному Михаилу[60]60
Конопасевич А. Указ. соч. – С. 16–17.
[Закрыть].
Повстанцы же, выехав из Богушевич, отправились в сторону Ляд, где встретили артиллерийского подпоручика Станислава Лясковского (действовавшего под псевдонимом Игнатий Собек) с несколькими вооруженными людьми. Лясковский сразу же объявил себя начальником «партии», то есть отряда, и тотчас же приказал рубить телеграфные столбы. Партия направилась в деревню Задобричин и в первые дни похода порубила телеграфные столбы «от Ляд до Речек». Так началось странствование партии Лясковского по уезду. По мере следования отряд пополнялся новыми людьми. Вскоре к нему присоединились партии: Игуменская, Слуцкая (под командованием учителя Слуцкой гимназии Л. Домбровского), а впоследствии и Минская в числе 70 человек под начальством дворянина Яна Ванысовича (он же Лелива). Между тем общая численность отряда оказалась совсем незначительной, что для многих стало большой неожиданностью. «Увы, мне пришлось дважды разочароваться! – вспоминал впоследствии один из членов отряда Владислав Баратынский[61]61
Баратынский Владислав Людвигович (1841 – после 1885) – дворянин Лепельского уезда Витебской губернии, поляк. Первоначальное образование получил в родительском доме, потом два с половиной года учился в местечке Буцлав Виленской губернии, затем в Минском реальном училище, а после обучался фармацевтике у аптекаря в г. Слуцке. В службе не состоял. Принял участие в восстании «в надежде, что, при помощи иностранных держав, Литва присоединится к Польше». В отряде Лясковского числился лекарем. Оставил воспоминания.
[Закрыть]. – Во-первых, главные наши силы оказались числом только в двести человек, во-вторых, начальник нисколько не похож был на сказочного героя: невелик ростом, на Аполлона Бельведерского вовсе не похож и на Марса тоже. Не был увешан с головы до ног оружием, а был в простой офицерской русской шинели, в польской конфедератке, в высоких сапогах, и если что-либо придавало ему воинский вид, то это офицерская сабля на серебряном поясе»[62]62
Баратынский В. Л. Последняя польская смута 1863 г. (воспоминания) // Русская Старина. – 1886. – № 8. – С. 428.
[Закрыть].
Штаб соединенных отрядов состоял из командира Станислава Лясковского, комиссара Болеслава Свенторжецкого, отставного штабс-ротмистра Гектора Коркозевича, Болеслава Окулича, Адольфа Шидловского и Яна Ванысовича. Но состав его не был постоянным и время от времени менялся. Штабом, однако, это собрание господ можно было назвать условно. «Штаба, собственно говоря, никакого не существовало, – вспоминал Баратынский, – но мы окрестили этим именем нескольких помещиков, которые положительно были лишней тягостью в „отделе“, постоянно уклонялись от всякой лишней работы, постоянно держались около начальника, сами так и втирались в чины. В штабе, впрочем, было одно лицо официальное – это помещик Свенторжецкий: он был „комиссаром воеводства“. Я не знаю точно, какая градация чинов была у нас в то время, но из слышанных мною несколько раз препирательств между начальником и комиссаром я заключаю, что они были в равном чине, только один по военному ведомству, а другой – по гражданскому»[63]63
Баратынский В. А. Указ. соч. – № 8. – С. 437.
[Закрыть].
Отряд Ляковского – Свенторжецкого состоял «из помещиков, мелкой шляхты, чиновников, гимназистов, дворовой челяди и других разночинцев»[64]64
Восстание в Литве и Белоруссии 1863–1864 гг.: Сборник документов. – М., Вроцлав: Наука, 1965. – С. 421.
[Закрыть]. В основном это были совсем молодые люди с еще не сформировавшимся мировоззрением, которыми легко манипулировали руководители восстания. Так, вербуя в отряды новых членов, они уверяли, что Свенторжецкий собрал «около 8000 человек, что у них есть пушки, много оружия, что французы и другие народы идут к нему на помощь и русские войска переходят на его сторону и что в некоторых местах объявлено польское право»[65]65
Там же. – С. 434.
[Закрыть]. Но это была обычная ложь, и об этой лжи писал еще проницательный Мицкевич: «Лож, как политическое средство, употребляли у нас часто благороднейшие люди с самой лучшей целью, но всегда с дурным последствием. Лгали о тайных обществах, увеличивая число и силу союзников, чтобы тем удобнее вовлечь в заговор; лгали пред революцией о Хлопицком, лгали после революции от его имени: патриоты дорого за это заплатили; лгали во время восстаний, распространяя фальшивые вести для заохочивания: опытные заговорщики и начальники восстаний соглашаются в том, что никогда не имели пользы от людей искусственно вовлеченных; они тотчас уходили или сокрушали сердце другим, шедшим за доброе дело по внутреннему убеждению»[66]66
Pisma Adama Mickiewicza. Т. 6. – Париж, 1861. – С. 211.
[Закрыть].
Говоря о тактической деятельности повстанческих отрядов, можно отметить, что была она, как правило, бездарной, а часто и бессмысленной. «Вертелись они, обыкновенно, – вспоминал один из повстанцев-командиров, – на небольшом пространстве, пока их не разбивали, не понимая задачи, какую преследовало наше восстание…»[67]67
Рогинский Р. Из воспоминаний повстанца // Исторический вестник. – 1906. – № 8. -С. 451.
[Закрыть].
Через некоторое время после возвращения священника Даниила Конопасевича из Минска, в Богушевичи пришел русский военный отряд. Во время короткого отдыха офицеры посетили дом отца Даниила. Возможно, они хотели узнать у него о месторасположении повстанцев, но это было бессмысленно, так как повстанцы постоянно меняли места стоянок, и даже при большом желании нельзя было в точности сказать, где конкретно находится их отряд.
Между тем у повстанцев во многих местах была агентура. Во всех присутственных местах и канцеляриях они имели своих людей, которые большей частью были поляки или считали себя таковыми. Это же касалось и местной полиции. Вот что писал по этому поводу в одном из донесений полковник Б. К. Рейхарт: «…главное, неудобством при теперешних обстоятельствах оказывается то, что полиция городская и земская без малого изъятия состоит из католиков, впрочем, и некоторые туземные православные (бывшие униаты) не лучше их, особенно у которых жены католички»[68]68
Восстание в Литве и Белоруссии 1863–1864 гг.: Сборник документов. – М., Вроцлав: Наука, 1965. – С. 421.
[Закрыть]. Осведомителями отрядов Свенторжецкого были Игуменский исправник Сущинский и становой пристав в местечке Березино Круковский. Эти господа, получая сведения о местонахождении повстанцев, направляли отряды русских войск, посланные для их преследования, в совершенно противоположные стороны, чем и объясняется то обстоятельство, что военные приходили всегда с большой задержкой, а повстанцы успевали спокойно скрываться с мест своих стоянок.
Баратынский вспоминал: «Приходилось вести кочевую лесную жизнь, переходить с места на место, переносить холод, дождь и сырость. Голода мы пока не знали. Но зато дождь ужасно нам надоедал, тем более что у нас не было шинелей. Они были у нас отбиты русским отрядом со всеми фургонами»[69]69
Баратынский В. Л. Указ. соч. – № 8. – С. 430.
[Закрыть]. Действительно, 29 апреля солдаты Новоингерманландского пехотного полка, преследуя в Игуменском уезде повстанческий отряд «под предводительством Свенторжецкого, отбила из их обоза до 40 подвод», но самим повстанцам удалось скрыться в лесах. Между тем стало известно, что на пути из Кобача повстанцы «увели с собой православного священника Малевича и после истязаний в лесу отпустили его с поруганием»[70]70
1863 год на Міншчыне (Role 1863 nа Minszczyznie) / J. Witkowski i інш. – Мінск, 1927. – С. 28.
[Закрыть].
4 мая отряд 12-го пехотного Великолукского полка, преследуя «шайку Свенторжецкого», настиг при деревне Жабичи Игуменского уезда другой отряд (помещика Эсьмана (Козелло)) около 80 человек, следовавший на соединение со Свенторжецким. При столкновении у повстанцев было убито шесть и взято в плен девять человек, еще восемь человек захватили крестьяне. Примечательно, что из 17 повстанцев, взятых в плен, 16 оказались шляхтичами. Со стороны военных было ранено трое рядовых.
9 мая под селом Юревичи, находившимся в 12 верстах от Богушевич, произошло сражение русских военных под руководством майора Великолукского пехотного полка Григорьева, командовавшего двумя ротами и 50 казаками при войсковом старшине Титове, с отрядом Лясковского. Повстанцы расположились на привале в густой чаще среди завалов из нарубленного крестьянами для хозяйственных надобностей леса. Едва они приступили к приготовлению пищи, как попали под обстрел нагнавшего их русского отряда. Застигнутые врасплох, повстанцы вынуждены были принять бой. Так как военным не представлялось возможности обойти завалы, пришлось атаковать позицию в лоб. Описывая это сражение, Баратынский вспоминал: «Благодаря естественным завалам, за коими мы скрывались, мы шесть раз пытались остановить мужественное наступление солдат, перестреливаясь всего на пятнадцать шагов. Но вот пули начинают летать слева. Видно, наш левый фланг обойден. Завязывается жаркая перестрелка на левом фланге. Десять товарищей уже пало. Убит Грудзина, убит Яновский из слуцких товарищей… Начальник командует переменить фронт: левому флангу отступить, правому – податься вперед. Но это можно было сказать только хорошо вымуштрованным солдатам, а не нам; как тут идти вперед, когда русские солдаты не могли пройти этих заколдованных пятнадцати шагов, когда впереди такие громадные груды срубленного крестьянами зимою лесу, что перелезть через них нет возможности, не наткнувшись на русский штык или пулю. Мы предпочли лучше сидеть за этим лесом, как за каменною стеною»[71]71
Баратынский В. Л. Указ. соч. – № 8. – С. 433.
[Закрыть].
«Пришлось каждый из завалов брать штурмом, – доносил командир колонны майор Григорьев, – причем повстанцы дрались насмерть. Два часа продолжался ожесточенный бой»[72]72
Цит. по: Смирнов А. Ф. Восстание 1863 года в Литве и Белоруссии. – Москва: изд. Акад. наук СССР, 1963. – С. 213.
[Закрыть]. В конце концов, русский отряд выбил повстанцев из завалов, разбил наголову и преследовал более двух верст. В бою при самих завалах было убито 19 человек повстанцев и 5 взято в плен. Со стороны военных погибли один офицер и 12 нижних чинов, получили ранения 25 человек. Сколько повстанцев было убито и ранено во время преследования точно неизвестно, но, по словам некоторых участников боя, повстанцы потеряли убитыми и ранеными около 30 человек[73]73
Совершенно смехотворное описание этого боя дает в своих воспоминаниях участник восстания Апполинарий Свенторжецкий (Swigtorziecki А.). Ze wspomnieri wygnarica / Spiala Z. Kowalewslca. – Wilno, 1911).
[Закрыть].
На другой день после сражения военные позвали отца Даниила исповедать и причастить Святыми Таинами раненых, отпеть павших православных воинов. Есть свидетельство, что в Юревичах у отца Даниила произошла встреча с ксендзом, также прибывшим туда для исполнения христианских треб. Во время встречи священник упрекнул ксендза, указывая на убитых повстанцев, что причастно к этому и католическое духовенство, призывавшее патриотов к вооруженному восстанию.
Отряд майора Григорьева оставался у Юревич 10 и 11 мая для погребения убитых, отправки раненых и пленных, а также необходимого для солдат отдыха. Примечательно, что, когда местным крестьянам поручили собрать в лесу убитых и раненых повстанцев, те отвечали: «пусть гниют» – об убитых, «пусть дохнут» – о раненых. Такое крайне жестокое отношение селян к повстанцам красноречиво свидетельствует, до какого состояния были доведены крестьяне и с какой ненавистью относились они к панам и их делу[74]74
Архивные материалы Муравьевского музея, относящиеся к польскому восстанию 1863–1864 гг. в пределах Северо-Западного края. Ч. 2. Переписка о военных действиях с 10 января 1863 по 7 января 1864 года. – Вильно, 1915. – С. 199.
[Закрыть].
Между тем поредевший отряд Лясковского – Свенторжецкого продолжал свои странствования по окрестным лесам «без одежды, без провизии, без патронов». Раньше все эти припасы доставлялись местной революционной организацией в известные пункты в лесу. Однако теперь принадлежавшие к организации помещики были или арестованы, или сами находились в числе повстанцев, остальные же выехали из имений: кто в Минск, кто в Петербург, а кто и за границу, «лишь бы быть подальше от греха». О странствованиях отряда в это время Баратынский вспоминал: «Приходилось стоять по целым часам в воде или болоте, употреблять всевозможные хитрости, чтобы скрыть свой след. Припадем иногда за болотными кочками, как утки, да так пролежим с час времени, а когда опасность минует, опять продолжаем путь. Иногда приходилось переходить через дорогу, чтобы не оставлять следов на песке, мы шли гуськом, след в след, а последний заметал следы, или же переходили дорогу задом, чтобы следы показывали туда, где нас уже не было»[75]75
Баратынский В. Л. Указ. соч. – № 8. – С. 434.
[Закрыть]. Чтобы успешнее скрываться от преследования, отряду приходилось прибегать к помощи провожатых из местных крестьян, бравших с повстанцев за свои услуги огромные деньги – 30 рублей в день.
Оставшись без поддержки, отряд вынужден был теперь самостоятельно добывать провизию. Когда наступало время ночлега и отряд располагался на отдых, Лясковский выбирал несколько человек «охотников»-добровольцев и поручал им добыть каким-либо способом провизию. Они шли в ближайшую деревню, причем нередко занятую русскими военными, и незаметно договаривались с кем-нибудь из знакомых о доставке провианта в условленное место. Баратынский пишет, что за все получаемое от крестьян приходилось платить втридорога, иначе невозможно было бы продержаться в лесу даже неделю. Он вспоминал, как однажды, чтобы поесть, должен был заплатить за яичницу из десятка яиц три рубля!
В это время посылаемые за припасами члены отряда доложили Лясковскому, что «священник Конопасевич разъезжает с казаками и уговаривает крестьян преследовать мятежников»[76]76
НИАБ. Ф. 296. Оп.1. Д. 56. Л. 17 об.
[Закрыть]. «Священник села Богушевичи, Конопасевич, – вспоминал Баратынский, – верный своему долгу и присяге, сильно действовал против нас: зная хорошо местность, он очень удачно нас выслеживал, а, имея влияние на прихожан, уговаривал их содействовать своим властям, не признавал нашего ни ржонда народоваго, ни комиссаров, ни начальников, уничтожал собственноручно все наши грамоты, прокламации и т. п.»[77]77
Баратынский В. А. Указ. соч. – № 8. – С. 434–435.
[Закрыть]. Баратынский утверждал, что донесения на отца Даниила приходили со стороны, однако не знал от кого именно. По его предположению это мог быть кто-либо из состоявших в революционной организации или сочувствующие лица, зорко следившие за всем, что тормозило дело восстания. «Очень часто бывало, – вспоминал бывший повстанец, – подобные сообщения оказывались впоследствии чистой выдумкой, и много было невинных жертв, особенно в Царстве Польском, где мятеж был в полном разгаре, но в настоящее время, надо предполагать, донесение было не выдумкой, ибо наш начальник был очень осторожный человек и вовсе некровожаден»[78]78
Там же. – С. 435.
[Закрыть].
Баратынский писал, что поведение богушевичского священника вызвало «злобу мятежного нашего начальства, и оно послало ему, в разное время, три предостережения, как тогда водилось». По его утверждению, всякому невоенному лицу, замеченному в каком-либо противодействии польскому делу, прежде суда посылались три предупреждения, после чего производились суд и расправа. Так, якобы, было и в случае с Конопасевичем, однако священник, по утверждению Баратынского, не внял предупреждениям и «продолжал действовать по-своему». Тогда Лясковский созвал совет из штаба и начальников отделений, на котором священника Даниила приговорили к смертной казни. В совете участвовал и Болеслав Свенторжецкий, однако он, по свидетельству одного из участников, уговаривал Лясковского дать возможность священнику уйти из местечка, не желая его смерти.
Говорили, что отцу Даниилу была подброшена записка приблизительно следующего содержания: «Отец Конопасевич! Будь уверен, что ты останешься в живых тогда, когда ни одного из нас не останется»[79]79
Пятидесятилетие (1839–1889) воссоединения с Православной Церковью Западно-русских униатов. Соборные деяния и торжественные служения 1839 г. – СПб.: Синод, тип., 1889. – С. 60.
[Закрыть]. Может эта записка и была одним из упомянутых «предупреждений»…
Известно, что управляющий Богушевичским имением Малиновский настоятельно советовал отцу Даниилу уехать в Бобруйскую крепость, зная о планах повстанцев. Не исключено, что управляющий действовал по просьбе самого Свенторжецкого, пытавшегося спасти священника от насильственной смерти. Слыша такие советы от поляка и понимая, что дело крайне серьезно, супруга отца Даниила также прилагала все усилия, чтобы упросить мужа уехать из местечка. Но отец Даниил, очевидно сознавая, насколько постыдно смалодушничать человеку, давшему присягу духовную и гражданскую, и помня слова Спасителя о пастыре добром, не поддавался уговорам. Иногда он для успокоения супруги, которая в последнее время даже боялась ночевать дома и уходила с сыном на ночь к кому-нибудь из богушевичских крестьян, обещал также идти ночевать к соседям. А сам, между тем, как только жена уходила, возвращался домой и спокойно засыпал. В таком состоянии супруга его и находила утром. Родные отца Даниила свидетельствовали, что страха смерти у него не было. Происходившие тогда события видимо подготавливали его к принятию любой ситуации. Очевидно, отец Даниил был почти уверен, что повстанцы его не пощадят. Однажды, незадолго до смерти, он отправился к соседнему священнику и, исповедовавшись у него и причастившись Святых Таин, радостный вернулся домой со словами: «Вот я уже теперь совсем готов – причастился»[80]80
Конопасевич А. Указ. соч. – С. 18.
[Закрыть].
Дня за три до убийства отца Даниила управляющий Малиновский и Елена Ивановна убедили его уехать с семьей в Бобруйск, но, не доехав до города верст 20, он почему-то наотрез отказался ехать дальше и повернул обратно в Богушевичи. По дороге назад Конопасевичи встретили знакомого священника из Якшиц, который ехал в Бобруйск с целью найти там убежище. В свою очередь и он стал усиленно уговаривать отца Даниила не возвращаться в Богушевичи, но тот не хотел и слышать об этом, и к вечеру 22 мая Конопасевичи вернулись домой[81]81
Там же.
[Закрыть].
Видимо, каким-то таинственным движением души был влеком отец Даниил к месту и часу своего мученичества. Как будто боясь лишиться небесного венца, подобно апостолу Павлу, желавшему пострадать за Христа, он не обращал внимания на уговоры близких и дорогих ему людей.
Для расправы над богушевичским священником Лясковский отправил отряд «охотников», которых набралось около 40 человек. Возглавлял их шляхтич Альбин Телыневский, бывший в партии начальником «шустки» – отделения из шести человек. По свидетельству очевидцев, в отряде «охотников», кроме Тельшевского, были шляхтичи Липинский, Казимир Окулич, Болеслав Окулич, Владислав Баратынский, канцелярист Михайловский, столяр Булынко, крестьяне Яков Сакович и Александр Подолецкий, крестьянин Матвей Сакович (уроженец Богушевич), а также некие Казимир Козловский, Демидович, Рейтовст из Слуцка и Ковалевский.
Баратынский в воспоминаниях пишет, что Лясковский отправил Тельшевского для расправы над священником с 30-ю людьми. Остальные же, в том числе и он, были посланы в Богушевичи для другого дела: якобы имелось известие о том, что в Богушевичском имении полиция что-то распродает с аукциона и Свенторжецкий попросил Лясковского разогнать полицию, распоряжающуюся его собственностью, для чего и была послана вторая группа, в составе которой оказался Баратынский.
Однако следует заметить, что здесь и далее воспоминания Баратынского расходятся со следственными показаниями Тельшевского. Баратынский пишет, что вместе с несколькими товарищами направился в имение Свенторжецкого, а Телыневский с отрядом поспешил в село Богушевичи, назначив общую встречу в помещичьей усадьбе. Однако никакой полиции Баратынский и его товарищи в имении не обнаружили. Они нашли лишь пьяного акцизного чиновника, который находился там для отпуска вина со склада, по контракту заключенному самим же Свенторжецким с каким-то евреем. В обязанности чиновника входило наблюдение за градусами да соблюдение бумажных формальностей.
А вот что во время следствия рассказал Телыневский.
Вместе с отрядом он прибыл в Богушевичи 23 мая около шести часов вечера. Почти всех своих людей Телыневский отправил в местечко, а сам и с ним несколько человек «остались в помещичьем дворе для получения провизии», однако вскоре они направились к дому священника[82]82
НИАБ. Ф. 296. Oп. 1. Д. 56. Л. 19 об.
[Закрыть].
Создается впечатление, что всю историю с полицией в имении Баратынский просто выдумал, чтобы отвести от себя всякое подозрение в причастности к расправе над отцом Даниилом. Вообще чувствуется, что в воспоминаниях он старается оправдать действия сотоварищей по отряду.
23 мая 1863 года, по воспоминаниям супруги отца Даниила, выдался чудный ясный день. Почти весь он прошел без каких-либо тревог. Около шести часов пополудни они с мужем сели пить чай, и в это время увидели в окно вереницу проехавших мимо дома больших помещичьих телег с вооруженными повстанцами. Это были совсем уже не те, что в начале восстания с иголочки одетые франты в расшитых бурках и конфедератках. Это был уже изрядно обтрепанный сброд с хмурыми, изможденными лицами. Как убедились отец Даниил с матушкой, повстанцы проехали прямо в местную корчму Лейбы Каца. Продолжая по-прежнему сидеть за чаем, они через несколько минут заметили, как мимо окна промелькнули чьи-то головы. Выглянув в окно, Елена Ивановна увидела конных и пеших вооруженных людей, которые требовали кого-либо выйти из дома. Услышав о требовании, отец Даниил с женой тотчас вышли на черное крыльцо. Повстанцы не сразу поняли, что перед ними священнослужитель, и спросили, где находится «ксендз», разумея под этим словом священника. Дело в том, что отец Даниил хотя и носил как священник длинные волосы, но был одет не в подрясник или рясу, а так, как обычно ходил дома – в старое семинарское пальто. На вопрос незваных гостей он ответил: «Я сам и есть священник. Что вам нужно от меня?» Тогда к отцу Даниилу подступил шляхтич Телыневский и направил на него револьвер. Но Елена Ивановна резко отвела оружие в сторону. Повстанцы тут же втолкнули ее и выбежавшего на шум ребенка в кухню и заперли дверь снаружи. Несчастная женщина в истерике металась по дому, пока не упала в обморок. Елена Ивановна впоследствии рассказывала, что когда отца Даниила схватили, он не издал ни звука. Еще она слышала, как кто-то крикнул: «Веревок!», а что было дальше, не помнила[83]83
Конопасевич А. Указ. соч. – С. 19.
[Закрыть].
По приказанию Тельшевского Ковалевский, Михайловский, Подолецкий и Булынко схватили отца Даниила и вывели на середину двора. Телыневский, зачитав священнику обвинения против него и приговор штаба, приказал повесить. Когда отец Даниил сделал какое-то возражение, Михайловский и Подолецкий «с бранными словами схватили его за волосы», Михайловский накинул веревку на шею, а Булынко влез на ворота и привязал ее там[84]84
НИАБ. Ф. 296. Oп. 1. Д. 56. Л. 16.
[Закрыть]. Повесили отца Даниила на воротах собственного двора. Самого убийства никто из домашних не видел, так как ворота, на которых повесили страдальца, находились за той стеной кухни, где окон не имелось. Но, видимо, это было и к лучшему.
Придя в себя и выйдя на улицу (двери дома уже были отперты), Елена Ивановна увидела мужа, висящего на воротах. Рядом с отцом Даниилом, обняв его ноги, сидел плачущий старик – батрак дед Иван, работавший в их доме. Это был единственный верный слуга в доме Конопасевичей, служивший еще у родителей отца Даниила. Он ничего не знал о расправе, но все понял, найдя отца Даниила повешенным, когда привел с выгона домой скотину. И теперь, потрясенный увиденным, горько оплакивал любимого своего батюшку. Из людей вокруг никого больше не было. Жители Богушевич, узнав, что в местечко вошли повстанцы, попрятались и боялись даже показаться на улицу.
Когда дед Иван стал вынимать отца Даниила из петли, тотчас прибежали повстанцы, бражничавшие неподалеку в корчме. Они с угрозами воспретили снимать повешенного, чтобы тело его висело подольше на устрашение всем русским, противящимся «польскому делу». И только после отъезда их из Богушевич тело отца Даниила сняли, омыли и положили в доме, как подобает умершему[85]85
Конопасевич А. Указ. соч. – С. 20–21.
[Закрыть].
Вот как описывал Баратынский возвращение «охотников» в отряд: «Мы шли скорым шагом; все молчали под тяжелым впечатлением случившегося, разговор не клеился, хотя мы с Липинским и приставали с расспросами то к тому, то к другому, как было дело, кто исполнил роль палача и т. п. интересные в то время для нас вопросы. Но нам отвечали односложно, неохотно: видно, что всем было не по себе»[86]86
Баратынский В. А. Указ. соч. – № 8. – С. 436–437.
[Закрыть].
Есть сведения, что люди из отряда Лясковского кроме священника повесили еще несколько крестьян Игуменского уезда: Бурака, Фуренку и Дышлевича[87]87
Путевые записки ст. сов. Ф. Д. Воинова, или Воспоминания о пребывании его в Минской губернии с февраля 1865 по 1 мая 1866 года. – СПб.: Тип. т-ва «Общественная польза», 1891. – С. 42.
[Закрыть]. Неизвестно, правда, когда именно это произошло: до убийства отца Даниила или после.
Когда 24 мая в Игумен поступило донесение об убийстве богушевичского священника, уездный военный начальник Чурский немедленно направил в этот район отряды «майоров Коспоржиковского от Равич, Григорьева от Березина и Андреева, который с двумя ротами Севского и Орловского резервных пехотных полков возвращался в Бобруйск, после конвоирования в Игумен транспорта»[88]88
Архивные материалы Муравьевского музея, относящиеся к польскому восстанию 1863–1864 гг. в пределах Северо-Западного края. Ч. 2. Переписка о военных действиях с 10 января 1863 по 7 января 1864 года. – Вильно, 1915. – С. 200.
[Закрыть].
Для погребения отца Даниила в Богушевичи к вечеру 25 мая прибыли березинский благочинный Роман Пастернацкий (впоследствии настоятель Слуцкого монастыря), божинский священник Иоанн Шафалович и микуличский – Порфирий Ральцевич с псаломщиком. Из опасения попасть в руки к повстанцам, чтобы добраться до Богушевич, им пришлось переодеться в крестьянскую одежду и даже обрезать волосы[89]89
Мальцев Евгений, священник. Указ. соч. – С. 768–769.
[Закрыть]. В тот же вечер в Богушевичи пришли русские пехотинцы майора Григорьева и казаки под командованием Титова.
Благодаря военным священники смогли безопасно совершить погребение отца Даниила. Из дома на церковный погост гроб мученика несли русские солдаты. Похоронили отца Даниила при фундаменте сгоревшей церкви, на восстановление которой он уже успел заготовить лес. У могилы невинно убиенного страдальца при виде неутешных слез несчастной вдовы и малютки-сына солдаты не могли сдержать негодования, и некоторые в сердцах говорили: «Дай Бог нам только встретиться с поляками, и у нас пленных мятежников не будет!»[90]90
Пастернацкий Роман, священник. Речь, по случаю освящения памятника на могиле священника Даниила Конопасевича, в воспоминание его смерти от поляков, сказанная 23 мая 1870 года в местечке Богушевичах // Минские епархиальные ведомости. – 1870. – № 14. – С. 365.
[Закрыть]
В Минске по убитому богушевичскому настоятелю в кафедральном соборе архиепископ Михаил (Голубович) всенародно отслужил торжественную панихиду[91]91
О православных священниках и прочих лицах, пострадавших во время последнего польского мятежа // Вестник Виленского Св. – Духовского Братства. – 1813. – № 15–16. – С. 279.
[Закрыть].
Когда в отряде майора Григорьева, знакомого с отцом Даниилом, узнали о трагедии, все были буквально потрясены. Сам майор Григорьев, офицеры и нижние чины отряда из чувства сострадания к несчастной вдове приняли живое и трогательное участие в ее скорби: они собрали в складчину 80 рублей, передав эту посильную лепту осиротевшему семейству[92]92
Об убийстве польскими мятежниками священника Конопасевича // Московские Ведомости. – 1863. – № 128. – С. 2.
[Закрыть].
Уже 25 мая игуменский военный начальник получил донесение, что повстанческий отряд, совершивший злодеяние в Богушевичах, направился на Каменичи. Чтобы перехватить его, в район Лапич из Игумена был направлен отряд в 150 человек. Таким образом, отряд Лясковского – Свенторжецкого оказался зажатым с четырех сторон. Хотя точное местонахождение повстанцев пока никак определить не удавалось, их продолжали искать.
Вскоре Минский временный военный губернатор генерал-лейтенант В. И. Заболоцкий получил известие, что отряды Свенторжецкого и Коркозевича, руководимые Лясковским, скрываются в непроходимых лесах и болотах Игуменского уезда между деревнями Домовицка, Володута, Рованичи, Полядки, Логи, Микуличи, Мартыновка, Юревичи, Ганнополь и Старый Прудок. Местность эта представляла собой сплошную непроходимую пущу, имевшую в окружности от 50 до 80 верст. Генерал В. И. Заболоцкий приказал стянуть в этот район к 7 июня под общее начальство генерал-майора Русинова 12 рот пехоты и 40 казаков. При этом, кроме уже находившихся здесь войск, были специально вызваны несколько рот пехотинцев из соседних Бобруйского и Борисовского уездов. 9 июня эти войска, разделенные на пять отрядов (колонн), «произвели концентрические движения» в лесу и за 11 часов беспрерывного и утомительно марша осмотрели большую его часть. Много было обнаружено следов, оставленных бивуаков, попадались даже горящие костры с явными признаками недавнего присутствия повстанцев, но сами отряды настигнуть пока не удавалось. В последующие дни военные продолжали вести поиски, переместившись в леса близ Богушевич. Между тем повстанцы, разбившись на мелкие группы, успели проскользнуть между колоннами, и только незначительную их часть встретила рота Кременчугского полка, следовавшая из деревни Микуличи. При неожиданной встрече повстанцы, дав оружейный залп, поспешно скрылись, оставив в руках военных 12 вьючных лошадей, около трех пудов пороха, свинец, несколько ружей и пр. Со стороны военных при этом получил легкое ранение один рядовой[93]93
Архивные материалы Муравьевского музея, относящиеся к польскому восстанию 1863–1864 гг. в пределах Северо-Западного края. Ч. 2. Переписка о военных действиях с 10 января 1863 по 7 января 1864 года. – Вильно, 1915. – С. 203–204.
[Закрыть].