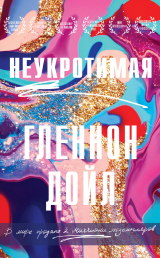
Текст книги "Неукротимая"
Автор книги: Гленнон Дойл Мелтон
Жанр:
Сентиментальная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 5 страниц)
Руки
Я сижу на холодном пластмассовом стуле рядом с гейтом[2]2
Гейт – стыковочный шлюз, с помощью которого осуществляется посадка и высадка пассажиров. – Примеч. пер.
[Закрыть] в аэропорту. Смотрю на свой чемодан, потягиваю местный кофе. Он горький и слабый. За окном виднеется самолет. Интересно, сколько раз мне придется летать в грядущем году? Сто? Я и сама словно превращаюсь в этот кофе – меня тоже вдруг наполняет горечь и слабость.
Если я сяду на этот самолет, он унесет меня в аэропорт «О’Хара» в Чикаго, и там мне нужно будет разыскать в толпе водителя с табличкой с моим (моего мужа) именем. Я вскину руку и увижу, как на лице водителя расплывается изумление, ведь он ожидал увидеть здорового мужика в костюме, а не хрупкую женщину в спортивных штанах. Водитель отвезет меня в отель «Палмер», туда, где будет проходить Национальная книжная конференция. Там я буду стоять на сцене в большом зале и рассказывать сотне библиотекарей про скорый выход моих мемуаров под названием «Воин Любви».
«Воин Любви» – история драматического развала и кропотливого восстановления моей семьи. Ей пророчат стать одной из самых громких книжных новинок этого года. И я буду продвигать ее со сцен и в СМИ – примерно целую вечность.
Пытаюсь разобраться, что же я чувствую по этому поводу? Страх? Радостное волнение? Стыд? Не могу выцепить какое-то одно конкретное чувство. Я смотрю на самолет, гадая, как за семь отведенных минут описать толпе незнакомых людей самое интимное и сложное переживание в моей жизни. Я написала книгу и стала писательницей, а теперь должна стать рекламщицей, которая эту книгу продаст. Но какой вообще смысл быть писательницей, если нужно говорить что-то о том, что я уже и так сказала – в книге? Разве художникам нужно писать картины, объясняющие смысл их картин?
Как-то раз я уже была возле этого гейта. Три года назад я выпустила свою первую книгу и путешествовала с ней по стране, рассказывая о том, как наконец, обрела свое «долго и счастливо», отказавшись от застарелых привычек – переедания и алкоголизма – ради сына, мужа и писательства. Я выходила на сцены по всей стране и передавала главную идею своей книги внемлющим мне женщинам, полным надежд: Не сдавайтесь. Жизнь трудна, но вы – воительницы. И однажды все еще будет.
Но не успели в моей книге высохнуть типографские чернила, как я уже сидела в кабинете психолога и слушала, как мой муж рассказывает, что спал с женщинами налево и направо чуть ли не с первого дня нашей семейной жизни.
Когда он сказал: «Я спал с другими женщинами», я задержала дыхание, а когда снова вдохнула – пахло нашатырем. Он продолжал извиняться, уткнувшись взглядом в свои руки, и в какой-то момент его бессильное заикание вызвало у меня приступ хохота. От него обоим мужчинам в комнате – и моему мужу, и психологу – стало заметно не по себе. А мне их неудобство вдруг придало сил. Я посмотрела на дверь и позволила волне адреналина вынести меня из кабинета и здания и пронести по парковке к моему минивэну.
Я забралась на водительское место, немного отдышалась и вдруг поняла, что не чувствую в себе отчаяния жены, которой разбили сердце. Скорее писательскую ярость – ведь мне испоганили всю малину! Фурия в аду ничто по сравнению с мемуаристкой, чей муж только что подложил ей в историю такую свинью.
Я была зла на него и полна отвращения к себе. Я потеряла бдительность. Поверила, что все остальные персонажи моей истории будут вести себя так, как должно, благодаря чему сюжет ровно и гладко прокатится по проложенному пути. Я подвергла свое будущее и будущее своих детей риску, доверив руль другому персонажу. Что за дура! Ну ничего, больше это никогда не повторится. С этой минуты я снова беру руль в свои руки. Это моя история и моя семья, и только мне решать, чем все закончится. Я приму все то дерьмо, которое вывалили мне в душу, и обращу в золото.
Я вернула контроль над ситуацией – с помощью слов, предложений, глав и сюжетов. Начала с того, что разобралась с этим у себя в голове – создала там здоровую, исцелившуюся от проблем семью и дальше начала танцевать от нее. Конечно, будут и ярость, и боль, и долгий процесс исцеления, терапия, самопознание, прощение, нежелание доверять, а затем, в конце концов, новые ростки близости. Искупление. Я не знаю, как было на самом деле: может, я сначала прожила следующие несколько лет и потом написала о том, что произошло, или, может, я сначала описала эти три года, а затем изо всех сил постаралась воплотить их в жизнь. Это не имело значения. Важно было лишь то, что, когда помутнение этих лет прошло, у меня на руках осталась мрачная мелодрама, в которой были предательство, прощение, боль, искупление, разрушения и исцеления. И в семье, и в бумажном переплете. Шах и мат тебе, Жизнь.
В книге Энн Пэтчетт «Правда и Красота» читатель на презентации подходит к столу, за которым Люси подписывает книги, и спрашивает про ее мемуары: «Как вы умудрились запомнить все эти события?». А она отвечает: «Я их не запоминала, я их писала».
Закончив «Воина Любви», я вручила Крейгу рукопись со словами: «Вот. Вот зачем все это было нужно. Я сделала так, чтобы в этой истории появился смысл. Мы с тобой выиграли войну. Наша семья выиграла. Мы стали историей любви. На. Не благодари».
Война действительно закончилась, и теперь я хочу домой. Но дом превратился в кроличью нору, в глубине которой мы с Крейгом смотрим друг другу в глаза и пытаемся понять: Что же будет дальше? Что мы на самом деле выиграли в этой войне?
Звоню сестре и спрашиваю, можно ли мне отменить поездку в Чикаго? Так хочется, чтобы она сказала мне, мол, ничего страшного, можно и отменить, никаких проблем. А она говорит:
– Отменить можем, но проблем будет куча. Есть же договор, тебя ждут.
И вот я делаю то, что должна. Представляю себе, как выгляжу со стороны – прямая спина, крепко сжатые губы. Но в душе я понимаю, что моему «я», жидкому, пришлось затвердеть. Вода обратилась в лед. Гленнон покинула здание. И все у нее под контролем. Я сяду в самолет и полечу рассказывать историю, в которую, похоже, и сама не особо верю.
Со мной все будет хорошо. Представлю себе, что это просто выдумка, а не реальная история. Прикинусь, что давно уже ее пережила, а не увязла в самой сердцевине. Расскажу, как обман привел меня к саморефлексии, саморефлексия к прощению, а боль – к искуплению, и вот теперь мы здесь. Алле-оп!
Скажу правду, но уклончиво: обвиню себя, но умеренно, а его выставлю в самом симпатичном свете. Упомяну свою булимию, свяжу ее с фригидностью, а свою фригидность – с его изменой. Подам так, что люди скажут: Конечно. Иначе и сложиться не могло.
Моральная дуга всей нашей жизни склоняется к какому-то смыслу – особенно если мы сами склоняем ее туда со всей, блин, силы.
Я прибываю в Чикаго и встречаюсь со своим книжным агентом в отеле «Палмер Хаус», где проходит мероприятие. Эти выходные – все равно что Суперкубок от мира книг, и моя агент вся как на иголках. Мы идем на ужин, за которым нам, десяти приглашенным писателям, предстоит познакомиться друг с другом, прежде чем отправиться в главный зал презентовать свои книги со сцены. Об этом ужине я узнала всего пару часов назад, и он поднял мой интровертный уровень тревоги с желтого до красного.
Ужин проходит в маленькой комнатке с двумя длинными столами для совещаний, сдвинутыми так, чтобы получился один большой квадратный стол. Люди однако не сидят, а толпятся вокруг. Для меня подобный вид общения – чисто ад на Земле. Я предпочитаю не соваться в эту толпу и отхожу к столу с напитками – налить себе воды со льдом. Ко мне подходит известная писательница и представляется, а потом спрашивает:
– Вы – Гленнон? Я очень хотела с вами поговорить. Вы же крещеная, верно?
Да. Крещеная.
– Главная героиня моей книги переживает религиозное откровение и становится христианкой. Можете себе это представить? Христианкой! И для нее это все так реально! Не знаю, как отреагируют на это мои читатели: будут ли люди относиться к ней серьезно? А вы как думаете? Вам кажется, такое могут воспринять всерьез?
Я выдаю ей самую серьезную точку зрения, которую только способна из себя выжать, а после извиняюсь и отхожу.
Смотрю на стол. Сиденья не подписаны, вот дряньство. С одного края стола тихонько сидит Джордж Сондерс. Он производит впечатление человека крайне учтивого и добродушного, и мне хотелось бы сесть рядом с ним, но он мужчина, а я не умею общаться с мужчинами. А с другого края сидит молодая женщина, источающая спокойную, уверенную силу. Я сажусь рядом с ней. На глаз ей двадцать с чем-то, она выпускает свою первую книжку для детей, и я засыпаю ее вопросами, а про себя думаю, как было бы здорово, если бы организаторы просто разложили наши книжки на столах, чтобы мы познакомились друг с другом вот так, через текст, спокойно читая. Мы макаем суши в соус. Подают салаты. Я как раз ищу заправку для своего, когда автор детской книги вдруг поднимает голову и смотрит на дверь. Я следую за ее взглядом.
И вдруг вижу: там, где еще минуту назад никого не было, стоит женщина. Она заняла не только проем, но и неожиданно всю комнату, целый мир. У нее короткие волосы, платиновые на макушке, выбритые по бокам. На ней длинный тренч и красный шарф, а на губах – теплая улыбка, скрывающая холодную, как клинок, уверенность в себе. Пару секунд она стоит на пороге и рассматривает происходящее в комнате. Я за эту секунду успеваю пересмотреть всю свою жизнь.
Я впитываю ее всем своим существом, и оно говорит мне:
А вот и Она.
Я поднимаюсь. Широко раскидываю руки.
А она смотрит на меня, склоняет голову набок, приподняв бровь, и улыбается.
Блин! Блин-блин-блин, а почему я встала? Зачем я стою, зачем так широко раскинула руки? Господь милосердный, что же это я такое творю?
Я опускаюсь на место.
Она подходит к столу и по очереди пожимает всем руки. А когда приближается ко мне, я поднимаюсь снова, поворачиваюсь и смотрю ей в глаза.
– Эбби, – представляется она.
Я спрашиваю, можно ли мне ее обнять, потому что – ну а вдруг это мой единственный шанс и больше такой возможности не представится?
Она улыбается. И раскрывает объятия. Я окунаюсь в аромат, который в будущем станет для меня домом – аромат кожи, мягкой, как пудра, кондиционера для смягчения ткани, шерсти на воротнике, ее туалетной воды и еще чего-то, улицы, ветра, чистого воздуха и прохладного неба, так пахнет голова ребенка, любовь, целый мир.
Карточка с ее именем лежит на тарелке с другого края стола. Она уходит от меня и идет к своему месту. Позже она расскажет мне, что ничего не ела и почти не разговаривала весь ужин, потому что изо всех сил старалась не смотреть на меня. Как и я на нее.
Ужин подходит к концу, и комната опять превращается в муравейник. Господи, возня усиливается, уже попахивает революцией. Приношу извинения, прячусь в уборной и пару минут пересиживаю там всеобщую мельтешню. Когда я выхожу, она стоит в холле и выжидательно смотрит на дверь уборной. А затем жестом подзывает меня к себе. Я на всякий случай украдкой оглядываюсь, убедиться, что она обращается именно ко мне. Она смеется. Смеется.
Пришло время идти в главный зал. Мы каким-то образом отделяемся от толпы – люди на три фута впереди нас и на столько же позади, а мы идем одни, вместе. Я так отчаянно хочу показаться ей интересной. Она такая естественно-клевая, а я не умею быть клевой. Ни дня в своей жизни не была клевой. Мне жарко, я просто в огне, пот в паре мест даже пропитал рубашку.
Слава Богу, она первая заводит разговор. Рассказывает мне про книгу, которую собирается выпустить.
– Но сейчас ситуация непростая, – говорит она. – Ты наверное слышала?..
– Что слышала? Я не слышала. Что я наверное слышала и где?
– В новостях могли говорить, может? По ЕСПН[3]3
ESPN – американский кабельный спортивный телевизионный канал. – Примеч. пер.
[Закрыть]?
– Эм-м, да нет, по ЕСПН ничего такого не слышала, – говорю я.
И тогда она говорит:
– Я играю в футбол. Точнее играла, раньше. Ушла совсем недавно и теперь не вполне представляю, как жить дальше. А в прошлом месяце выхватила штраф за вождение в нетрезвом виде. Об этом трубили в новостях. И я много дней наблюдала за тем, как мои снимки из участка треплют по всем каналам, как этот скандал не уходит из бегущих строчек. Последние пару лет я просто не вылезала из депрессии, чувствовала себя такой потерянной, и… ну что тут скажешь, облажалась так облажалась. Я всю жизнь была зациклена на чести и достоинстве, и тем поступком обесценила и уничтожила все. Всех подвела. Можно даже сказать, всех женщин в принципе. И теперь они хотят, чтобы я написала книгу с позиции ты-смотри-какой атлетки, а я все думаю: Может, нужно быть просто честной? Взять и выложить всю правду о том, что творилось в моей жизни?
Мне ее жаль, но за себя я счастлива. За те четыре минуты, что мы провели вместе, она поговорила со мной на три темы, в которых я разбираюсь лучше всего: алкоголь, писательство и стыд. Я в этом шарю. Моя тема. УХ, МОЯ!
Я кладу ладонь на ее плечо и меня прошивает ток. Убираю руку и перевожу дух, а потом говорю:
– Слушай, у меня список приводов длиной с твою руку. И я бы на твоем месте выложила все как есть. Была бы честной. Я не разбираюсь в спорте, но точно знаю, что в реальном мире любят реальных людей, такими, какие они есть.
Она останавливается, и я тоже. А потом оборачивается и смотрит прямо на меня. Кажется, хочет что-то сказать. Я жду, затаив дыхание. Но затем она отводит взгляд и идет дальше. Я выдыхаю и иду следом. Мы заходим в зал и вслед за потоком других писателей лавируем в море круглых столиков, накрытых белыми скатертями, под тридцатифутовым потолком, усыпанным хрустальными канделябрами. Мы оказываемся на небольшом возвышении, поднимаемся по лестнице и видим, что нас посадили рядом. Возле нашего столика она кладет ладонь на спинку моего стула. Кажется, не может решить, стоит ли отодвинуть его для меня. И отодвигает.
– Спасибо, – говорю я.
Мы садимся, и писатель по другую руку от Эбби спрашивает, откуда она.
– Мы из Портленда, – отвечает Эбби.
– О, Портленд прекрасное место, – отзывается писатель.
– Ага, – соглашается Эбби.
Что-то в ее голосе в тот момент, когда она говорит «Ага», заставляет меня навострить уши и слушать очень внимательно.
– Не знаю, сколько мы еще там пробудем. Мы переехали туда, потому что думали, что этот город – отличное место, чтобы завести семью.
Даже по тому тону, которым она это говорит, ясно, что никаких «мы» уже нет. Я хочу избавить ее от дальнейших расспросов и говорю:
– Люди вроде нас в Портленде не приживаются. У нас Портленд внутри. Снаружи не хватает солнца.
И тут же страшно смущаюсь того, что сказала. Портленд внутри? Что это, блин, вообще значит? И что за «люди вроде нас»? Боже, ну зачем я это ляпнула? Нас? Что за самонадеянность предполагать, что некие «мы» вообще существуют. Мы.
Мы. Мы. Мы.
Она смотрит на меня огромными глазами, а затем улыбается. Я расслабляюсь. Не знаю, что это значило, но теперь я рада, что сказала это. И решаю, что любые слова, способные вызвать эту улыбку – воля Всевышнего, не иначе.
И вот начинается мероприятие. Когда наступает моя очередь говорить, я без сожалений отметаю половину запланированной речи и говорю о стыде и свободе, потому что хочу, чтобы эти слова услышала Эбби. Я смотрю на сотни людей перед собой, но думаю лишь о ней, сидящей позади. Закончив, возвращаюсь на свое место. Эбби смотрит на меня, и глаза у нее красные.
Ужин заканчивается, и к нашему столу начинают подходить люди. Перед Эбби выстраивается очередь длиной в пятьдесят человек. Она поворачивается ко мне и просит подписать для нее мою книгу. Я подписываю. И прошу ее подписать мне открытку. Она соглашается. А когда отворачивается к толпе поклонников – снова улыбается, подписывает, болтает со всеми и по чуть-чуть. Она уверенная, грациозная, с ней приятно. Она на таких ситуациях собаку съела.
К нашему столику подходит кудрявая женщина, та самая, которая пришла на ужин после Эбби. Кажется, давно хочет о чем-то со мной поговорить. Я улыбаюсь и кивком подзываю ее к себе. Она наклоняется ко мне максимально близко и шепчет:
– Простите. Раньше я никогда ничего такого не делала. Я просто… Видите ли, я давно знаю Эбби, она мне как сестра. Не знаю, что тут такое произошло за последний час, но я еще никогда ее такой не видела. Мне… Мне кажется, что вы ей очень нужны. Вообще. В принципе. По жизни. Не знаю, как… Это так странно, простите, простите меня.
Незнакомка страшно взволнована, у нее на глазах слезы. Она протягивает мне свою визитку. Похоже, ей очень важно узнать, что я об этом думаю и каков будет мой ответ.
– Окей… Да, конечно. Конечно, – говорю я.
Меня уже ждет Динна, моя подруга из издательства – мы собирались уйти вместе. Я оглядываюсь на Эбби, вокруг которой толпится не меньше сорока поклонников, жаждущих получить автограф.
Мне не жаль с ней прощаться. Я даже хочу этого, очень хочу, потому что тогда у меня появится возможность подумать о ней. А еще потому что я никогда прежде не чувствовала себя настолько живой, и теперь я хочу выйти в мир и как следует выгулять это чувство. Хочу наконец быть тем удивительным новым человеком, которым совершенно неожиданно и непостижимо стала.
– Пока, Эбби, – говорю я, и тут же, про себя: «Господи, я произнесла ее имя!». Эбби. Интересно, можно ли произносить вслух имя, если оно пускает по телу такие разряды. Она оборачивается, улыбается, машет. Смотрит так, словно чего-то ждет. На ее лице написан вопрос, на который, придет день, я обязательно отвечу.
Мы с Динной выходим из зала в гигантский холл. Она останавливает меня и спрашивает:
– Ну что, как думаешь, как все прошло?
– Потрясающе, – ответила я.
– Согласна. Ты так круто выступила, – отозвалась Динна. – Как-то совершенно по-другому на этот раз.
– А, ты про речь. Я имела в виду сам вечер. Я почувствовала такое странное… Мне показалось, что между нами с Эбби есть какая-то связь.
– Поверить не могу! – воскликнула Динна, схватив меня за руку. – Богом клянусь, мне тоже! Я прямо видела, как между вами словно искра проскочила, это и с последнего ряда было заметно. Просто отпад.
Пару секунд я просто таращилась на нее, а потом сказала:
– Да. Весь вечер… было это чувство, будто между нами есть связь… как будто…
Динна окинула меня взглядом и договорила:
– Как будто вы двое были вместе в прошлой жизни?
Часть вторая
Ключи
Роняя ключи
Женщина слабая
и неразумная
Близких в клетке хранит.
Мудрая женщина
Ночью подлунною
ключ там роняет,
где близкий сидит.
ХАФИЗ
Я никогда не исчерпывалась до дна. Во мне всегда оставалась хотя бы одна искорка. Но довольно долгое время я чувствовала себя, черт возьми, совершенно опустошенной. Моя детская булимия в конце концов переросла в алкоголизм и наркозависимость, и пятнадцать лет я провела в состоянии тупого оцепенения. А затем мне исполнилось двадцать пять – я забеременела и вышла в пущу трезвости. Именно в этой пуще ко мне начала возвращаться моя дикая природа.
Началось все вот как: я строила жизнь, которую и должна строить женщина. Стала хорошей женой, матерью, дочерью, христианкой, гражданкой, писательницей, да и просто женщиной. Но пока я готовила перекусы в школу, писала мемуары, бегала по аэропортам, вежливо беседовала с соседями и жила всей этой жизнью напоказ, я чувствовала, как во мне нарастает и бьется током комок беспокойства. Словно грозовая туча, он раскатывал гром вот здесь, у меня в груди, пускал под кожу пучки молний, сотканные из боли и радости, томления и ярости, и любви, слишком глубокой, болезненной и нежной для этого мира. Я была водой, разогретой до невозможного, вздыбленной, но еще не закипевшей, хотя казалось, вот-вот, вот уже…
Я начала бояться того, что творилось у меня внутри. Что бы это ни было, оно грозило сравнять с землей каждый дюйм той прекрасной жизни, которую я умудрилась возвести. Например, я вечно чувствовала страх и тревогу, оказавшись на балконе: а вдруг спрыгну?
Это нормально, убеждала себя я. Никто не пострадает, ни я, ни мои близкие, если я просто это спрячу.
Поразительно, как легко у меня это вышло. Я – гром и молния, кипяток да бурлящее червонное золото, но все, что понадобилось, чтобы мир принял меня за тихонькую лазурь – улыбаться ему и поддакивать. Иногда, правда, я задумывалась, неужели я – единственный человек, который чувствует себя взаперти в собственной коже. А вдруг все люди вокруг на самом деле – пламя в кожаной обертке, которое старательно прикидывается льдом.
Моей точкой кипения стал тот момент, когда Эбби показалась в дверном проеме. Один взгляд – и моя оболочка не выдержала. Кипящая багряным золотом смесь из боли, любви и томления плеснула за край, сорвала меня со стула и заставила раскинуть руки, настойчиво шепча: А вот и Она.
Долгое время я думала, что случившееся в тот день было результатом некой сказочной магии, случайно озарившей мою жизнь. Казалось, слова А вот и Она пришли ко мне откуда-то свыше. Теперь я знаю, что не свыше. А изнутри. И все то дикое буйство, которое так долго назревало во мне и в конце концов вылилось в слова и подняло меня, – это тоже была я. Голос, который произнес эти слова, принадлежал мне – точнее, той девочке, которой я была до того, как мир велел мне стать другой. И эта девочка сказала: А вот и я. Теперь моя очередь.
Еще в детстве я чувствовала, что мне нужно следовать и доверять своей интуиции, и в решениях часто опиралась только на свое воображение. Я была дикой, пока меня не взнуздал стыд. Пока я не начала прятаться и заглушать свои чувства, потому что их было слишком много, меня – слишком много. Пока не стала прислушиваться к советам других, а не к собственному чутью. Пока не позволила убедить себя, что воображение у меня дурное, а желания – эгоистичные. Пока добровольно не сдалась в клетку чужих ожиданий, культурных норм и моралей, и общественных позиций. Научившись всем угождать, я потеряла себя.
Трезвость стала для меня этапом мучительного воскрешения. И возвращения в дикую природу. Как же долго я вспоминала. Как долго сознавала, что беспокойный комок из грома и молний внутри – это и есть я сама, пытавшаяся добиться моего внимания, умолявшая вспомнить, настаивавшая: Я все еще здесь!
И вот я наконец отпустила ее. Выпустила на свободу свою прекрасную, необузданную, истинную и дикую суть. Я не ошиблась в ее силе. Ей было тесно в той жизни, которую я построила. Поэтому она систематически прогрызала себе путь на волю, пока ее клетка не развалилась.
И потом я возвела свою собственную жизнь.
Возродила ее из тех обломков меня, которым меня учили не доверять и которые учили скрывать, чтобы другим жилось комфортнее:
Моим чувствам
Моей интуиции
Моему воображению
Моей храбрости
Вот они – ключи к свободе.
Вот кто мы есть на самом деле.
Хватит ли нам храбрости отпереть двери наших клеток?
Хватит ли храбрости отпустить себя на свободу?
Сможем ли мы наконец выбраться из своего заточения и объявить – себе, людям и всему миру: А вот и я?








