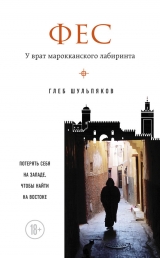
Текст книги "Фес"
Автор книги: Глеб Шульпяков
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
“Значит, переход соединяют два парадных. В 20-х годах любили накручивать”.
Резкий запах краски шел из приоткрытой двери, которую не сразу и заметишь. Зачем я вошел в эту дверь? Внутри был обычный ремонтный пейзаж – ободранные стены, стремянка, куски срезанных радиаторов. На веревках – тряпки, среди щербатого паркета лежит матрас и стопка журналов.
“Нет, это не двадцатые годы”. Я провел ладонью по старинной кладке.
Тишину пустой квартиры нарушали звон посуды и голоса, а к запахам ремонта примешивалась кухонная гарь. Я вышел на балкон и перегнулся через перила. В лицо ударил теплый ночной воздух.
Голоса доносились с террасы, которая лежала прямо напротив.
ЧАСТЬ II
1
Постепенно боль стихает, уходит в землю. Сколько сейчас времени?
В темноте оно стоит на месте. Откроешь глаза, закроешь – никакой разницы. Вокруг тьма, непроглядная и густая.
Волосы от крови слиплись, темечко онемело. Стоит приподняться, как накатывает тошнота. Она внутри и вокруг – в самой тьме, в ее сыром воздухе, в мертвенной тишине.
“Ладно, пора вылезать отсюда”. Я провожу рукой по карману, но телефона нет.
“Скажу, спал. Никаких звонков не слышал”.
Пот на губах горький, пахнет таблетками. Ноги чужие, не слушаются. Один шаг, другой, третий – вытянув руку, одолеваю несколько метров и падаю. На ощупь это браслет или кольцо, которое обхватывает ногу над щиколоткой. От кольца тянется цепь, тонкая и холодная. Она скользит между пальцами, как змейка.
Натягиваю цепь, несильно дергаю. Справа из темноты раздается металлический шелест. Встав на четвереньки, ползу на звук. Это крюк или скоба, она торчит у самого пола. Дергаю цепь слегка, как дергают колокольчик, но цепь только натягивается и падает. От удивления и страха про боль забыто. Сажусь, обхватив колени, – как дома, во время бессонницы. Когда сидишь и смотришь перед собой, чтобы собраться с мыслями. Картина настолько отчетлива, что на секунду мне действительно верится, что я дома.
Правда, только на секунду.
Рывок, еще раз – ничего. Звенья впиваются в спину, звенят от напряжения. Но стоит ослабить усилие, как цепь равнодушно падает и боль снова обручем обхватывает затылок.
“Успокойся, – говорю себе. – Успокойся и представь, что капкана нет”.
Я сажусь на корточки, сплевываю – слюна горькая, густая.
“Все это – фантазия, которую можно усилием воли уничтожить”.
Но что ни представляй, мысли все равно бегут к простому факту. Что вокруг меня темная подвальная комната; что цепь, на которую меня посадили, лежит рядом; что это не сон или наваждение, а реальность.
2
Комната в квартире, куда я попал в тот вечер, выходила через балкон на нашу улицу. Просто перетекала, вливалась в уличное пространство.
И наоборот, улица была растворена в квартире, она присутствовала в ней отблесками фонарей и уличными звуками, запахами. Смешиваясь, комната с улицей образовывали третье измерение, которое не принадлежало ни внешнему, ни внутреннему миру.
На соседнем балконе стояли голубятни.
“Кто бы мог подумать…” Я схватился за теплые перила.
А внизу под окнами гудела терраса.
Между шторами в соседнем окне виднелся край стола и клеенка с утятами. Свет падал от лампы с перламутровым абажуром. Он освещал полку и плетеные подстаканники (почему-то подстаканники врезались в память). Время от времени в разрезе штор появлялись женские руки, они держали чашку, и пивная пена падала из чашки на пол.
В следующем кадре я увидел знакомый рюкзак.
“Не может быть…” Прижался к стене.
Стекло звякнуло, рама задребезжала и открылась. Из окна донеслась музыка, старый джаз. Теперь девушка находилась так близко, что ничего не стоило взять ее за руку. Как тогда, в клубе, – сжать холодные тонкие пальцы.
Подцепив крючок, она подняла створку. Из голубятни вылетело и, подхваченное потоком уличного воздуха, закружилось белое перышко. Что-то блеснуло в темноте, зашелестел пластиковый пакет. Следом за первым свертком отправилось еще несколько, после чего девушка застегнула рюкзак, руки исчезли.
Штора вернулась на место, свет в комнате погас.
…Воздух с шумом вырвался из легких. В том, что танцы глухонемых и голубятню смонтировала одна рука, сомнений не было. Даже номер мертвого человека – звено одной цепи. Но кто режиссер? И в чем его логика?
“Позвонить художнику и все выложить”. Достал трубку.
“Вдруг они сейчас вместе?”
Мне уже мерещился звонок его телефона – оглушительная трель за стеной. Удивленные глаза художника, и как он улыбается, хлопает себя по ляжке (его жесты). Мы одновременно выходим на лестничную клетку, хохочем. Они рассказывают безобидную историю, которая за всем этим кроется, и мы спускаемся вниз, чтобы отметить дурацкое совпадение на террасе. И я забываю – о ревности, о своих страхах.
В пустой комнате пахло дымом от сигареты. Раздался шорох, но обернуться я не успел. Удар был настолько сильным, что я сразу потерял сознание.
3
Глиняные стены поглотили крик, просто съели его.
“Ладно, это вопрос суммы”. Я опустился на пол, сплюнул.
“Не меня же они ждали”.
Однако чем больше я успокаивал себя, тем меньше верил в то, что думал. Другой голос твердил, что никакой ошибки нет. Что все произошло как дболжно. И надо ждать худшего, то есть продолжения.
Сколько времени прошло – без движения, в полудреме? Постепенно над головой образовался серый прямоугольник, снаружи светало. Но привычных звуков города – гудков, шарканья ног и грохота стройки – слышно не было.
Цепь оказалась длинной, и скоро мне удалось вычислить габариты подвала. Стена, откуда торчало кольцо, шла в глубину метров на пять-семь. Неровная и шершавая, она царапала руки соломой или прутьями, торчавшими из глины. Другая тянулась вдвое дальше. Ее сложили из крупных пористых камней вроде пемзы. Между камнями проходил палец, настолько большими были дыры. Сухой раствор напоминал помет и легко крошился на пол.
Из второй комнаты накатывал теплый воздух, как бывает, если работает калорифер. Кран торчал из стены, и я долго пил известковую воду. Потом промыл затылок, провел мокрой рукой по лицу – и привалился к стене, застонал.
Лицо покрывала трехдневная щетина.
4
Свет мигнул, в проеме застыла фигура в белом балахоне.
– Эй! – Я призывно поднял ладонь.
Но человек не обратил на меня внимания.
Послышались голоса, два-три человека разговаривали на непонятном языке. Судя по шарканью, они что-то втаскивали. “Селямалейши, селямалейши…” – то и дело повторяли.
“Гастарбайтеры чертовы…” Я заложил руки за спину.
Это были мешки или брикеты. Двое с голыми торсами подтаскивали эти брикеты к порогу и сбрасывали. Ударяясь об пол, мешки покрывались облаком пыли, и несколько секунд она клубилась в косом уличном свете.
– Бекир, бекир! – Хлопнув ладонями, бородатый человек в балахоне сделал жест: достаточно. Его голос звучал на удивление моложаво.
– Бекир! – Огромный кожаный кошель исчез в складках балахона.
– Послушайте… – Я сделал шаг.
Человек исчез из проема, дверь захлопнулась.
5
Что с ними? Я колотил в дверь, царапал доски. Лежал, уткнувшись в стену, и мычал от отчаяния. Бросался на дверь снова.
Ближе к вечеру, когда прямоугольник под потолком потускнел, снаружи снова послышались голоса. Двое что-то обсуждали – на повышенных тонах каркающим языком. Один голос я уже знал, второй – хриплый и низкий – слышал впервые.
– Незрани? – Они смотрели на меня из-под капюшонов.
– Зид! – Второй, толстый, вытащил палку.
– Послушайте… – Я шагнул навстречу и тут же скорчился от боли.
Толстый ловко поймал конец плетки.
Они показывали на вторую комнату: “Иди”.
От ярости я забыл про цепь, но следующий удар отбросил меня в угол.
– Зид! – закивали на черный проем снова.
Не переставая скулить, я пополз в темноту. Куда подевалась моя злость? Двух ударов оказалось достаточно, чтобы превратить человека в собаку.
“Открывай”. Толстый показывал плеткой.
Под собственной тяжестью крышка съехала на пол.
В печи гудело и металось пламя.
6
По тому, как освещен переулок – есть ли тень и какова ее длина или стена покрыта ровным светом, – я научился определять время суток. Сырые полосы на глине говорили о том, что прошел дождь. А в ясные дни розовая поверхность искрилась, поблескивала.
“Балахон” приходил три раза в неделю. Он привязывал у входа черного ослика и сам сбрасывал брикеты. А потом садился на ступени и доставал кулек с финиками.
Когда он уходил, я подбирал и обгладывал косточки. Если топливо
заканчивалось раньше и пламя ослабевало, в подвал приходил другой, “толстый”. Неодобрительно бормоча, он бросал несколько брикетов и вынимал плетку. Когда ему удавалось ударить меня особенно сильно, его живот округлялся от смеха, и ткань балахона вываливалась из жировых складок.
Первое время, чтобы увернуться от плетки, я забивался в дальний угол. Но “толстый” все равно доставал меня. Вскоре мне удалось вычислить безопасное место – у самого порога. Здесь “толстый” не мог ударить самым страшным местом плетки – жалящим кончиком. А сойти вниз и этот и тот боялись.
Сколько раз я ползал перед ними, умолял! Называл номера телефонов, суммы! “Что вам надо? – хрипел, хватал за одежду. – Назовите цену!” Но в ответ “толстый” добродушно тыкал в меня плеткой. Кивал на печь: работай.
Постепенно Москва отодвинулась в дальний угол сознания и потускнела. Все, что связывало с прошлой жизнью, стало расплывчатым. В том, что случилось, мне мерещился фатум. Замысел, спорить с которым бесполезно, поскольку он свершается по чужой воле. Я мог почувствовать эту волю – но объяснить или изменить ее?!
К тому же голод – он вытеснял привязанности быстрее, чем время. Его тупое, изнуряющее присутствие направляло мысли в одну сторону: “Когда придет „балахон” или „толстый”? Что мне бросят, кости или лепешку? Какую часть, сколько?”
Голод был сильнее любви и ненависти, ярче памяти. Образов жизни, ее привязанностей и страхов. Голод превратился в привычку, стал мной. Если прошлое и всплывало в моем сознании, это были картины семейных ужинов. Мне мерещились недоеденные куски мяса на бараньих ребрах. Шкурки от печеной картошки, яблочные очистки. То и дело сглатывая слюну, я часами подсчитывал, на сколько этого бы хватило мне в подвале.
Иногда “балахон” ужинал прямо на ступеньках. Чтобы дразнить меня? Не знаю. Ел он почему-то поздно, в сумерках. Садился на порог, ставил на колени блюдо, а рядом на пол – чайник. От запахов еды у меня подгибались колени, я задыхался. Как человек подносит ко рту кость? Как выгрызает из нее мясо? Как берет горсть риса? Как облизывает губы?
Вид набивающего брюхо действовал подобно гипнозу. У меня не возникало желания отнять пищу. Я просто не мог оторвать от него взгляда.
Он уходил, а мне оставались крошки. Чтобы обмануть голод, я размачивал хлеб во рту. Когда слюна приобретала мучной вкус, сглатывал, а мякоть держал за щекой, чтобы она превратилась в кашу. Если сна не было, перебирал в памяти то, что осталось неразмытым. Думал о Москве, но без отчаяния, с каким-то печальным равнодушием.
“Кто меня видел в последний вечер? Бармен, двое на „девятке”?”
Оставалась девушка – если, конечно, художник расскажет обо мне.
И тот, с кем она танцевала, совпадет с тем, о ком речь. Но этот вариант представлялся мне самым невероятным.
Постепенно жизнь в подвале вошла в привычку. Мысль о том, чтобы изменить что-то, все реже приходила в голову. Зачем? Любое изменение только пугало меня. Рана на голове давно зажила, волосы отросли. Только макушка осталась голой, и мне нравилось трогать ее младенческую кожу.
Через равные промежутки времени в подвал долетали звуки печальной песни. Так пели в мечетях, когда мы первый раз выехали на азиатское море. Но мысль о том, что я нахожусь в другой части света, за тысячи километров от дома, нисколько не трогала меня. Ведь подвал вокруг меня оставался одним и тем же. Так какая разница, что снаружи?
Глядя в черный потолок, я рисовал наше далекое лето. Пляж, моторную лодку. Даже название этой лодки – “High and blue tomorrow” – и то вспомнил. Как мы шли по заливу в открытое море и я задыхался от торжества и страха. От свободы, которая долго еще с этими чувствами будет связана.
После купания любили друг друга прямо на дне лодки. Мне мешала банка или канат, приходилось отталкивать его пяткой. А она, лежа на спине, улыбалась чужой улыбкой. Это было лицо незнакомого человека – как в первые дни нашего романа. Словно на небе, куда она смотрит, открываются удивительные картины. Но мне они недоступны.
7
Время определялось по тому, как светлеет или исчезает в тени контур под потолком. По призывам на молитву, поскольку ночной звучал дольше и печальнее, а дневной – коротко. И по визитам надсмотрщика. Но что теперь означало время? В подвале оно перестало быть. Оставались его следы, наглядные свидетельства. Как отросла борода или насколько холоднее спать ночами. Но предсказать время? Угадать его? Ни наступления утра, ни паузы между молитвами рассчитать не удавалось. Мне по-прежнему не составляло труда складывать дни в недели – или вычитать. Но уловить само течение, поток? То, что складывалось и вычиталось, не существовало. Превратилось в одну растянутую секунду. Темную или сумеречную, холодную или жаркую. Заполненную чувством голода или отчаяния. Меланхолии. Размером с комнату, где я сидел, – или бескрайнюю, как сны, которые мне снились.
Зато с удвоенной ясностью вернулась память. Прошлое выскакивало из нее как черт из табакерки – в виде отчетливых, пугающе резких картинок. Вот детская лопатка с желтым пластиковым штыком – из моей песочницы, видна даже свежая трещина. Вот кожаная этикетка с индейцем в коконе из перьев – джинсы с этикеткой носила одноклассница, в которую я был влюблен в школе.
Так моя жизнь превратилась в киносеанс. Затопив печь, я засовывал за щеку хлебный мякиш – и закрывал глаза. Теперь в моем распоряжении имелась настоящая коллекция. Пантеон случайных вещей, паноптикум воспоминаний, которые я мог тасовать сколько заблагорассудится.
Крашеные заборные доски, из них мы соорудили плот. Прилавок ларька и перламутровые пуговицы на хлястике пальто – человека, стоявшего впереди в очереди. Бесконечное ожидание в этой очереди – неизвестно чего. Блеклая фотография блондинки на приборной доске автобуса – меня возили этим автобусом в детский садик на пятидневку. Ворона с перебитым крылом, жившая одно время за верандой в садике, и кусок хлеба, которым я подкармливал ее. Часто мне казалось, что передо мной фрагменты чужой жизни. Которые почему-то всплывают в моем сознании – словно фильмы перепутали и в коробку с одним названием положили другое кино. Только люди – те, кто жил в этих фильмах, – оставались неразличимыми. Чтобы увидеть лицо, я делал масштаб подробным, даже слышал голос. Но стоило перевести взгляд на источник этого голоса, как изображение гасло.
И все же одну картинку мне удалось разобрать. Это была старая фотография, студенческая. Молодые люди сгрудились в кузове грузовика; судя по хлопковому полю и тюбетейкам, дело происходило где-то в Азии. На фотографии был он, мой художник! Совсем юный, вчерашний школьник – но с той же обескураживающей, открытой улыбкой. С тем же тревожным взглядом.
“Уже тогда играл лицом две роли”. Я улыбался в темноте, потирал ладони.
Наверное, кто-то из одноклассников – тех, кто стоял в кузове, – вывесил ее в сообществе. И я наткнулся на нее в Сети и запомнил. А он даже не знал об этом, наверное.
Рядом с художником стояла невысокая девушка. Белые шорты плохо скрывали ее полные короткие ноги. Художник обнимал ее сдержанно, как бывает, если между молодыми людьми только-только появились отношения. Она придерживала панаму так, что тень закрывала лицо. Но что-то неуловимо знакомое – в осанке, в наклоне головы – угадывалось в ней.
8
Случалось, просвет под потолком неожиданно исчезал, гас – и так же неожиданно появлялся снова, как будто снаружи убирали то, что его заслоняло. Случалось, что вода из-под крана отдавала известью, а случалось – горчила. А иногда воды вообще не было. Случались настолько холодные ночи, что я перебирался в комнату с печкой и лежал, прижавшись к глиняной стенке. Случалось, “балахон” приходил не один, а с мальчиком, одетым в точно такое же, только меньшее по размеру, платье, и что-то рассказывал ему, показывая кончиком плетки на углы и стены подвала. Случался такой длинный призыв на молитву, что я успевал заснуть и проснуться, а он все звучал. Случалось, что мне наконец удавалось три раза обернуть волос на бороде вокруг мизинца, и я радовался этому, как ребенок. Случалось, меня завораживал собственный животный запах, и я часами обнюхивал себя, как мартышка. Случалось, я думал только о том, чтобы оказаться в кресле
самолета на высоте десять тысяч метров. Лицо моей жены, случалось, невозможно было вызвать в памяти – или вместо него всплывали лица других: например, официантки из кафе на нашей улице. Случалось, я мог без запинки просклонять глаголы “иметь” и “быть” на французском языке, который когда-то недоучил, а выученное забыл напрочь. Собственное имя, случалось, вызывало у меня приступ изумления и страха, и я хотел стряхнуть его не только с языка – но даже с себя. Случалось, я не мог вспомнить название нашей улицы. Я мог мысленно собрать на балконе голубятню, доска за доской, – случалось и такое. Случались минуты, когда я наматывал цепь на шею и раздумывал, можно ли задушить себя. Случалось, ночью я просыпался в слезах, а проснувшись, рыдал безутешно и горько, хотя и не знал – отчего? Случалось, под циновкой обнаруживался засохший кусок лепешки, и я грыз ее, забыв о том, что еще недавно искал крюк или хоть что-нибудь, за что можно зацепить цепь. Случалось, мне приходили в голову мысли о том, что весь мир лежит у моих ног и я могу распоряжаться миром, как мне хочется, – уничтожить его, перевернуть с ног на голову или просто не замечать. Случалось, я чувствовал себя отрезанным не только от мира и людей, но даже от подвала, в котором сидел; от вкуса воды и еды, которыми питался; от собственных мыслей. Случалось, топливо было настолько пересохшим, что крошилось в руках. Толстяк, случалось, подолгу сидел на пороге и слушал музыку, игравшую у него на мобильном телефоне. Случалось, музыка мне нравилась, но чаще навевала тоску или злость. Случалось, что одна мысль была способна занимать меня целыми сутками. Случалось, сотни мыслей пролетали за долю секунды. Случалось, я говорил себе: единственное, что может быть сильнее времени, – это мысли, которыми мы его наполняем.
9
От удара дверь стукнула в косяк, звуки барабанной дроби заполнили подвал.
“Балахон” поднял светильник над головой. Его плечи покрывала светлая праздничная накидка. А в другой руке он сжимал дольку дыни.
– Аркан! – Облизал губы и бросил корку.
От взмаха руки из-под мышки выскочила плетка и тоже упала на пол.
“Балахон” состроил недовольную гримасу, поставил светильник на ступеньку. Беспомощно огляделся. Послышалось сопение, тяжелое и сосредоточенное. Носок обуви, которым он хотел пододвинуть плетку, дрожал от напряжения. Ткань накидки натянулась и просвечивала.
Не удержав равновесия, он упал на правый бок и тяжело скатился вниз.
Теперь все предметы выглядели обведенными тушью.
10
Чем туже стягивалась петля, тем ниже он опускал голову. Наконец раздался короткий хруст, спина обмякла. Голова повисла на цепи, а тело, словно уставшее от борьбы, опустилось на пол.
По подвалу поплыл едкий запах кала. Брошенная цепь, свернувшись змейкой, лежала рядом с головой. Кожа на моих руках была содрана, и я несколько секунд не мог оторвать взгляда от капель крови.
“На, держи! – Очнувшись, подвинул ему плетку. – Вставай, чего разлегся?”
Но рука, нелепо вывернутая и еще блестевшая от дыни, не двигалась. Тело было ненужным и одиноким, и его пустота передалась мне. Кожа на лице горела, а внутри разрастался холод. Как будто это мои руки неподвижны. Я не могу пошевелить губами. Меня не стало.
11
Замок щелкнул, цепь упала. С порога, который столько времени оставался для меня недоступным, недосягаемым местом, подвал выглядел до смешного непримечательно. Привычно. Разве что мешок мертвого тела – лежавший там, где еще недавно жил я, – говорил о том, что все бесповоротно изменилось.
Крупная родинка на виске и карий, неподвижный, как у чайки, глаз. Редкая кучерявая борода. Губы, по-детски припухшие и полуоткрытые, готовые задрожать от обиды. Тонкая белая кожа с голубыми прожилками, заметными даже сквозь волосы.
Я считал его ровесником, взрослым человеком.
А под капюшоном оказалось лицо юнца, мальчишки.
Лечь на землю и превратиться в камень; перестать быть, потому что быть и то, что лежало передо мной, не могло существовать в одном сознании – вот что я чувствовал. Но вместо этого руки аккуратно, чтобы не испачкаться, сняли накидку и балахон, стащили туфли. Я переоделся – и потащил тело к печке.
В узком проеме между крыш горят звезды, они редкие и крупные – настолько, что можно спутать их с лампами иллюминации, а может быть, это и есть иллюминация, ведь в городе праздник, играет музыка, горят фейерверки.
В переулке никого, только ослик, он покорно ждет у стены рядом с дверцей. Дверца медленно приоткрывается, из подвала вылезает человек; по его неуверенным, порывистым движениям – как он одергивает платье и как беспомощно водит руками – видно, что человек испуган или крайне возбужден, но пытается всеми силами скрыть это возбуждение.
Ослик тычется в подол, обнюхивает. Прижавшись к стене, одной рукой человек гладит ослика между глаз, где плоскую кость покрывает короткая шерсть, а другой зажимает рот, сдерживая рыдания, и несколько минут стоит с зажатым ртом, подняв лицо к небу. Потом, отняв руку, глубоко вдыхает. Чем глубже свежий ночной воздух проникает в человека, тем чище и холодней становится у него на душе, и вот уже оба – человек и ослик – трогаются с места и медленно уходят по переулку.
Их движение бесшумно, поскольку копыта ослика обуты в резиновые облатки, а на ногах у человека туфли из кожи. Время от времени человек пугливо озирается, но людей в переулках нет, бояться некого – разве что изредка между домами мелькает тень кошки или собаки, а больше ничего, тишина. В эту часть города праздник не добирается.
Правда, иногда в переулке слышны мужские голоса и музыка, они звучат настолько близко, отчетливо, что кажется, их породило само сознание; что говорят между собой мысли человека. Но это не так, потому что за приоткрытой ставней человек видит полутемный зал и людей в светлых одеждах (таких же, какие сейчас на нем), слышит их разговор, как они говорят между собой, сидя на ковре полукругом. Видение оказывается недолгим, ставню захлопывает невидимая рука. Следующая остановка у ниши, она прорублена прямо в стене. Это блюдо с едой, оно выставлено по случаю праздника, и человек набрасывается на липкий рис, заталкивает пригоршнями мясо и курагу, давясь и кашляя на всю улицу, забыв об осторожности, а когда на блюде ничего не остается, вычищает его поверхность до тех пор, пока на пальцах не появляется металлический привкус, и только потом вылизывает пальцы, выедая из-под ногтей остатки риса.
…Обычная городская баня устроена таким образом, что можно принять ее в любое время, даже в праздник, а чтобы работа шла бесперебойно, то есть чтобы горячая вода и пар поступали в баню круглые сутки, в смежном подвале, который выходит на другую улицу (из этого подвала человек только что вылез), устраивают большую глиняную печь. Одним боком эта печь находится в парилке, и эта сторона покрыта тонким, неплотно прилегающим медным листом, окруженным понизу узким стоком из мрамора. Холодная вода, бегущая по ганатам старого города, падает на раскаленный медный лист и, стекая вниз, испаряется; именно этот пар отводят под каменные топчаны парилки, а горячей водой наполняют бассейн и раковины.
Сейчас поздно, в бане пусто и сумрачно – видно только банщика, он сидит под масляной лампой и читает газету. На спиртовке кипит маленький чайник, напротив стола на сундуке тускло горит экран телевизора.
В чашке с чаем плавают распаренные листья, и, поднося чашку ко рту, банщик громко фыркает, чтобы листья не попали в рот.
В дверях раздаются голоса, слышны обрывки фраз – это по ступенькам ведут человека в белом полосатом платье. На глаза ему надвинут капюшон, видна только курчавая бородка, и банщик привычно складывает руки в подобострастном поклоне. Походка новоприбывшего неуверенна, он озирается, покачивается, словно пьяный, но банщика это не удивляет, ведь сейчас праздник и все в городе немного навеселе. Однако если бы не позднее время и сумрак – и не опьянение самого банщика, – можно было бы заметить, что человек этот находится в сонном, полуобморочном состоянии, какое бывает, если ты устал от собственного страха и готов доверить судьбу первому встречному, лишь бы этот страх отпустил тебя.
Вяло поднимая и опуская руки, он позволяет себя раздеть, после чего банщик сажает его на мраморную тумбу. Человек безучастно смотрит, как банщик опускает его ступни в горячую воду, как осторожно, чтобы не задеть опухшие щиколотки, омывает ноги, как разминает суставы, после чего жестом приглашает в парную.
В парной человек остается один. Его никто не видит, и он с наслаждением вытягивается на полке; проводит ладонью по плечам, скребет ногтями грудь – пока мелкие капли пота, покрывшие тело, не становятся черными от грязи. Тогда человек стряхивает их на пол и снова вытягивается на полке. Вздыхает и трет глаза, размазывая по щекам не то пот, не то слезы.
Тем временем банщик переворачивает песочные часы и встает. Следующие десять минут уйдут на то, чтобы, надув мыльную наволочку, растереть человеку ноги и грудь, размять плечи и шею. Во время процедуры человек незаметно проверяет, не сбилось ли полотенце, как если бы под повязкой скрывалось нечто, способное удивить банщика. Но тот слишком хорошо знает свое дело, поэтому за время мытья повязка ни разу не меняет положения.








