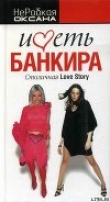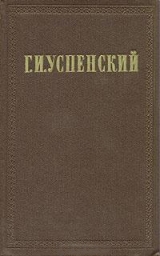
Текст книги "Столичная беднота"
Автор книги: Глеб Успенский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 4 страниц)
В сундуке ее были какие-то удивительные наряды, всё, конечно, из "господских". Была тут коротенькая юбка, словно балетная, шелковые заштопанные шерстью чулки; была тут какая-то черная люстриновая баскина, вся на камыше и железе, концы которых давно вылезли наружу, словом – наряды самые удивительные. Одевшись в это шутовство, она чувствовала себя хорошо и шла в гости,где вела себя так: прямо отправлялась в кухню «молодых господ», засучивала рукава баскины, подтыкала балетную юбку, снимала шелковые чулки и башмаки и принималась мыть, стирать, подметать, словом – делать все, что следует делать кухарке. «В гостях»она перечистит все ножи, перемоет все тарелки, вспотеет от работы десятка два раз и, напившись кофею, уйдет. Угощалась она таким образом очень странно, но все-таки ей было удивительно весело, на душе. Чем бы она ни отблагодарила «молодых господ» за внимание, если бы могла, но, кроме стирки, в ее распоряжении не было ничего.
Так она ходила в гостидовольно долго и впоследствии приводила с собою даже Дурдилку, которая однажды, когда господа почувствовали одним вечерком порядочную скуку, даже очень развлекла их и понравилась им.
– Не взять ли нам собачку? – предложила молодая жена.
– Д-да! – согласился муж… – Необходимо завести что-нибудь… вообще… даже двух…
Настасья разыскала им двух щенят, но Дурдилку водить перестала. Так прошло довольно долго, и Настасья чувствовала себя хорошо, как вдруг случилось следующее обстоятельство. Раз, на масленице, к молодым господам нежданно-негаданно наехало и нашло пропасть приятелей и друзей. Вдруг поднялось такое веселье, которого нарочно никогда не устроишь: полилось вино, заиграло фортепьяно, пошли танцы, шутки, смех. Настасья давно не видывала такого веселья. Ей было так хорошо и весело, как, может быть, бывало только в раннем детстве. Она забыла, что у ней болит нога, бегала по десяти раз за вином, выпивала и опять бегала, и раз какой-то шутник из гостей вдруг обхватил ее и провальсировал с нею по комнате, причем все хохотали. Настасью поили вином, заставляли ее шутить, говорить прибаутки, которых у ней было в запасе довольно. В передней набилось горничных со всей лестницы; пришли посмотреть на потеху какие-то неизвестные люди, довольно прилично одетые в новые сибирки, и, поглядев немного, раскритиковали всю публику и ушли; Настасья не слыхала этой критики и веселилась как ребенок, не помня себя, возбуждая всеобщий хохот, и господ и зрителей передней: она проплясала какую-то удивительную пляску, целовала ручки, представляла, как ездит "легкая почта", причем почему-то боком скакала по горнице, словом – делала всевозможные глупости. Но репертуар их у Настасьи был невелик, а ей хотелось дальше и дальше.
Послали ее не то за табаком, не то за вином. Полетела Настасья с лестницы, как птица, и вдруг видит, что дворник забыл на площадке лестницы топор. Ей вдруг смертельно захотелось украсть этот топор; ей представилось, как это будет необыкновенно весело, и она в одну минуту схватила его, притащила в горницу и объявила: "У дворника украла!" – и залилась громким смехом. Это было так глупо, что все покатились со смеху, а Настасья, разумеется, больше всех. Не замечая того, что веселье, во время ее отсутствия за покупкой, приняло другое направление, она, воротившись, рассказала, продолжая покатываться со смеху, что встретила на лестнице дворника, который искал своего топора (представила даже) и, не находя, ругался… Так как это продолжение истории о топоре было совершенно неожиданно среди нового направления веселья, то публика опять засмеялась, а Настасье стало еще веселее. Как кончился веселый день и вечер – никто из гостей на другой день хорошенько не помнил. Не помнил никто и о Настасье, и только недели через полторы уже кто-то – барыня или кухарка – вспомнили о ней: "Что это давно не видать Настасьи?"
Прошла еще неделя, Настасьи все нет.
Кухарка зашла к ней на квартиру, но и там ее не было; там сказали, что недели две с половиной назад пошла она в баню и с тех пор "не бывала". Угол ее отдан другому, сундук и "ангел" – у хозяйки, а Дурдилка шатается где придется. Хозяйка не весьма ласково отзывалась и о Настасье и о Дурдилке, которая, кстати сказать, очень внимательно слушала этот разговор.
А с Настасьей вот что случилось.
На другой день после веселого дня Настасья пошла в баню, намереваясь оттуда пройти к "молодым господам", помыть полы "после вчерашнего", поприбрать, словом – "в гости". Воспоминания о вчерашнем веселье не покидали Настасью. Она так разлакомилась вниманием и смехом, которые возбуждала вчера, что и сегодня так ее и подмывало отмочить какую-нибудь смешную штуку. Выходя из бани, она заметила целую груду шаек и, проворно схватив, спрятала одну из них под полу: ей представилось, как господа захохочут, когда она явится и похвастается вновь покражей, как смеялись все вчера покраже топора. Схватив шайку, она побежала бегом; но думая, что еще будет веселей, если притащить две (у туляка, думала она, их много!), вернулась, схватила другую, потом вдруг третью, потом веник…
– Ты что это делаешь? – строго, но спокойно сказал неожиданно появившийся дворник.
– Батюшка, я в шутку.
– В шутку!.. – повторил дворник и тотчас, с тем же спокойствием петербуржца, крикнул младшему дворнику, расчищавшему снег: – Иван! покарауль старуху, гляди, не убегла бы, я городового приведу…
– Батюшки! родимые! Христом богом!
– У нас две тысячи шаек в год публика ворует, всё тоже – в шутку. Гляди, держи!
Вопли Настасьи собрали толпу, которая сильно осрамила Настасью. Ее взяли в часть.
IV
Настасью взяли в часть просто для «острастки», в шутку, на одну ночь; но утром, когда ее хотели выпустить, она лежала вся в жару, совершенно больная. Водочкой погреться после бани ей не удалось, а и на дворе и в камере части было довольно холодно. Кроме того, она была испугана и глубоко огорчена. Она горько плакала, сидя с ворами и пьяницами и вспоминая Дурдилку, которой никто теперь поесть не даст и которая, после знакомства Настасьи с молодыми господами, иной раз получала хороший кусок и даже привыкла к этому куску. К утру Настасья совсем разнемоглась. Ее поместили в больницу, и здесь-то пролежала она, почти не вставая, шесть месяцев. Разболелась нога, о которой в веселее она забыла думать, спина, грудь, сердце. Все это, измученное и старое, поддерживалось прежде водочкой, а теперь все это расклеилось, пошло врозь. Настасья каждую минуту ждала смерти, вспоминала свою жизнь, детей, думала, что будет гореть в аду, думала беспрестанно о Дурдилке, представляла, как ее гонят со двора, как она умирает. Словом, в эти шесть месяцев и физически и нравственно она выстрадала ужасно много. Она чуяла, что смерть приходит, что она не за горами, и это-то предчувствие заставило ее бодриться, чтобы в последний раз поглядеть на белый свет, посмотреть на Дурдилку, на господ.
Слабая, раздражительно-нервная выписалась она из больницы. Надежда – что вот сейчас она увидит молодых господ, которые пожалеют ее, несколько ободрила Настасью. Выйдя из больницы, она выпила водочки и поплелась к господам. Шла она долго, утомилась, устала. Наконец добралась.
Но господа переехали – там живут другие.
Как ножом ударило это Настасью в сердце: ей отдохнуть, даже присесть было негде.
– Куда переехали, милый человек, такие-то? – спрашивала она у дворника.
– Выехали в Москву… в деревню!
Настасья вдруг потеряла бодрость, вдруг ослабела и присела у ворот, прямо на тротуар. Долго сидела она в одышке; но так как дело шло к вечеру, нужно было идти куда-нибудь.
Она пошла к Дурдилке в свой старый угол.
Поздно уже ночью добралась она туда.
И действительно, только любовь к собаке держала еще ее на ногах. С самым лучшим, с самым задушевным другом мы не так встречались, не с такою пламенною любовью спешили к нему навстречу, как Настасья желала и спешила встретиться с Дурдилкой.
Но в "угле" Дурдилки нет.
– Где ж она? – едва дыша, произнесла Настасья.
– Где? Да солдат твой взял ее…
– И пошла? Дурдилка с солдатом убежала?
– Чего ж ей! Ее здесь кормить некому.
Настасья окаменела от такой измены. Дурдилка могла умереть с голоду, но изменить! Настасья никогда не ожидала этого.
– У-у, проклятая образина! – разозлившись, закричала она. – Удушу и с солдатом-то вместе! Бессовестные разбойники! Куда солдат переехал? давай адрес мне, пойду изуродую обоих разбойников!
Солдат, оказалось, переехал куда-то очень далеко, и идти теперь, ночью, не было никакой возможности. Настасья, в гневе и в возбужденном состоянии, провела в кухне хозяйки целую ночь, предварительно выпив, за уступленную хозяйке баскину, довольно много водки. Целую ночь она плакала, ругалась, забываясь только на минуту, целую ночь ругали ее за беспокойство угощенные ею же обыватели углов. Утром, с хмельными парами в голове и еще более больная и слабая, она пошла к солдату. Она так была больна, что не могла злиться на Дурдилку, рассудивши ее беззащитное положение; она была уверена, что собака обрадуется ей, и все пойдет по-старому. Ей нужно было только взглянуть на нее.
– Где собака? – довольно категорически спросила она солдата, разыскав его в "углу" на Петербургской стороне.
– Какая собака?
– Какая! моя собака! где Дурдилка?
– Тепериче она не твоя! – спокойно и даже с иронией отвечал солдат.
– Как не моя? Вор ты этакой!
– Не шуми, старуха! Толком тебе говорю, не твоя собака теперь! Не пойдет она за тобой, хоть ты ее озолоти.
– Врешь, разбойник!., горло перерву вору! – Слушай, старуха! ведь ежели я примусь…
Солдат показал кулак.
– Берегись этого! Я говорю дело. Вон твоя собака, поди попробуй, пойдет ли?
В углу за сундуком действительно виднелась морда Дурдилки. Настасья замлела от радости, как только увидела эту морду.
– Голубчики! – прошептала она с истинно материнскою нежностью, осторожно подходя к Дурдилке и недоумевая, почему это она сама не идет к ней и почему эта морда и глаза как будто не те, что прежде?
– Дурдилушка! – протянув руку к собаке, шептала Настасья,
Но Дурдилка вдруг оскалилась и, захлебываясь, зарычала на Настасью, как на лютого врага.
– Ай взяла? – с удовольствием произнес солдат. – Ну, поди, подступись!..
– Дурдилушка! Матушка! – шептала ошеломленная Настасья, не помня себя… – Это я… что ты?
Но Дурдилка рычала все грозней и грозней. Шерсть у нее на затылке стояла дыбом.
– Да что же это ты сделал, варвар этакой? – вдруг в совершенном отчаянье вскрикнула Настасья, обращаясь к солдату. – Что ты сделал с моей собакой?..
– Дура! – остановил ее солдат. – У ней щенята!.. Чего ты ко мне лезешь? тресну, ведь дух вон!..
– Щенята! – побледнев, прошептала Настасья. И тут началась отвратительная и ужасная сцена.
В углу солдата раздавалась возня, крик, лай, визг щенят, удары, звон разбитых стекол. Эту сцену кончили городовые.
-
– Щенят перебила, – рассказывали на другой день в углах. – Солдату щеку раскроила… Все переломала… Собаке ногу переломила… После увезли в часть. Говорят – сумасшедшая.
Настасья, должно быть, на этот раз и умерла в части, потому что жить ей стало совершенно незачем.
4. ИЗВОЗЧИК
(Очерк)
В глуши Калужской губернии стоит заметенная снегом деревушка; есть в ней крошечная и шершавая избенка, – в избе живет баба с двумя ребятишками. И баба и ребятишки прежде всего желают что-нибудь есть, а сборщик желает получать с них подушное, и вот ради всего этого по Петербургу мыкается извозчик Ванька, тот самый, который рекомендует вам прокатиться на «американской шведке» или просто надоедает возгласами вроде: «вот на порядочной!», «ах бы, за гривенничек прокатил!» Ради подушного, толокна и красного платка, ожидаемых в деревушке, Ванька переносит в столице множество всевозможных страданий. Прежде всего немало уедает у него веку хозяин.
Человек этот вышел из таких же Ванек, сумел понравиться господам, попадал в жизни несколько раз "на счастие", которое являлось к нему в виде людей, желавших носиться из трактира в трактир не иначе, как во весь дух, – и в короткое время, на лютую зависть всем землякам, "вышел в люди". В Ямской он нанял целый этаж, когда-то населяемый господами, и переселил из деревни всю семью. Остатки обоев, золотых багетов и паркетных полов как-то по-свойски мешаются с деревенскими бабами, шатающимися в барских покоях с грязными ребятами; ковши с квасом – на каменных подоконниках, грязные шерстяные чулки у камина, вовнутрь которого вдвинута клетушка с гусыней, изломанное вольтеровское кресло с прорванной подушкой, деревянная лавка, чашка с капустой, громадное зеркало, расколотое в самом центре, и проч. Самовары с зелеными и красными потеками не перестают здесь клокотать целые дни; ковриги хлеба, соленые огурцы, картофель до такой степени изобилуют в жилище Ванькина хозяина, что даже деревенские родственники его, первоначально потерявшие рассудок от возможности поглощать означенные продукты "сколько душе угодно", в короткое время сообразили, что в этом нет особенного дива и что "по Петербургу завсегда так!" На то он и Петербург прозывается, чтобы "чего угодно… так-то-ся!" Тем не менее увеличение роскоши в огурцах и капусте, происходящее в верхних апартаментах хозяйского жилья, имеет непосредственное отношение или давление на нижний, подвальный зтаж, где копошится в отравленном и душном воздухе сорок человек Ванек и их промокшие полушубки, далеко пахнущие овсянкой, их промокшие сапоги и рубахи, в которых гнездится тиф, Ванька этого в счет не ставит. На первом плане его забот стоит хозяйский приказ: "хоть роди, – а два серебром предоставь". Бывают случаи, что в руки Ваньки перепадает кое-что и сверх выручки; но бывают, что вся эта прибыль, накопившаяся в течение нескольких недель, в один несчастный день целиком попадает в хозяйский карман, так как хозяин имеет ту "правилу", "чтобы ничего этого в расчет не принимать!" "Знать я этого не хочу, – говорит хозяин, – потому у меня положено, чтобы было два серебром"… Но и Ванька тоже имеет свою защиту в таких несчастных случаях. Во-первых, он надеется на бога, а во-вторых, у него есть секреты; этими секретами он, словно рожнами, от беды отпихивается. Вот он выехал, помолился на церковь и стал на "счастливое" местечко. По преданиям, на этом самом месте, на углу, около трактира "Амстердам", стоял Иван Шумелов, которому господь такое счастие послал, что теперь он первый из хозяев-лихачей и имеет пребольшой капитал в ломбарде. Попав на счастливое место, Ванька почти покоен и, ожидая седоков, мерзнет с некоторым даже удовольствием. В такие минуты он думает о том, какой-то попадется седок, так как седоки бывают разные; один любит расспрашивать про женский пол; другой говорит: "ну, что же ты теперь – свободный?", а третий умеет только кричать – "пошел же, чорт тебя побери!" Размышляя о свойствах седоков, Ванька вполне уверен, что седоки эти будут непременно, "потому Иван Шумелов тут же стоял, и теперь он, можно сказать, первый по Петербургу"… Размышляя таким образом, Ванька погуливает по панели, похлопывает рукавицами, подпрыгивает и плечами передергивает, ибо мороз пробирает его тоже не в шутку, а по-столичному, по-петербургски, то есть до костей. Мимо, по улице, несутся извозчики с обледенелыми бородами, седоки с руками, засунутыми в карманы, и поднятыми воротниками. Все визжит и дымится, не знает, куда укрыться от лютой зимы. Ванька все стоит, погуливает да покряхтывает. Идут седоки, но цену несоответственную дают, гривенник с Песков на Английский проспект или в Мастерскую. Ванька тоже понимает цену и за такую ничтожность везти не берется. Но вот с противуположной панели сел на извозчика какой-то барин, и Ванька тотчас же перемахнул с своими санями с счастливого местана теплое.Теплое место – тоже хорошо. Оно иной раз невпример даже «счастливого» лучше бывает: Ванька в этом вполне убежден. Попал он на теплое место и подскакивает, и плечами передергивает, и седоков ожидает… Идут люди и дают цены несоответственные. Но Ванька цену знает себе… и ждет.
– Извозчик! – раздается наконец.
И седок без торгу заносит ногу в Ванькины сани. Ванька подбирает вожжи и пускается в путь, бодро смотря в лицо морозному ветру и сохраняя за своей спиной барина, который изредка пускает вопросы из глубины своего воротника.
– Что это у тебя нос-то желтый? – спрашивает барин.
– Отморожен-с, вашескобродие! Не доглядел-с – ай морозом-то его и отъело. Отойдет-с!
– Неужели отойдет?
– Отходит-с. Гусиным салом первое дело… от него отходит-с. Потому у нас это кажинный год, кажную зиму бывает-с, ну а через гусиное сало он опять входит в свое понятие. Следственно, шкура с него лезет, отваливается. И страсть, вашескородие, что шкуры-то этой мы с носу-то… упаси господи! Ну а к лету она вторительно нарастает…
– Вновь?
– Да уж обыкновенно она внови нарастает, потому мы ее, шкуру-то, снимаем-с. Сдираем ее, она негодная от морозу-то-с, а летом-то уж она опять нарастание имеет вторительное. Так-то-ся!
Седок, у которого мороз захватил дыхание, прижимается за спиною Ваньки и долгое время молчит.
– Так гусиным салом? – говорит он наконец, освободив на минуту свое лицо из-под воротника и видя, что Ванька сидит к нему полуоборотом, что ясно свидетельствует о желании последнего продолжать разговор и приятное знакомство.
– Гусиным-с! гусиным салом-с! И преотличнейшее средство… потому мы в этом известны. Это у нас кажную зиму носы повреждаются с морозу-с. Первое дело мы дерем с его шкуру. И старайся ты, вашескобродие, в случае чего, салом этим… Как салом смазал – сейчас он, нос-то, в облупку пойдет… Как ты его обдерешь…
– Стой! – говорит седок, – подожди, вышлю.
– Слушаю-с!
Принимается Ванька ждать…
"И какой барин разговорчивый попался", – думает он, попрыгивая на окаменевших ногах и хватаясь каменной рукавицей за каменный, отмороженный нос… Час проходит, и два прошло, и три. Ванька начинает входить в "сумление". Но по его соображению обману быть не может: первое дело – барин, второе – с теплогоместа взят; по всем расчетам не выходит, чтобы был здесь обман… Но прошел час и еще час, – идет Ванька в ворота, становится среди двора, водит глазами по этажам и думает. Мне кажется, что самый просвещенный ум, став в положение скромного Ванькина ума, в короткое время мог бы убедиться в ничтожности человеческого существа вообще. Какими, например, судьбами бренный ум наш может проникнуть сквозь каменную стену, на которую долгое время был устремлен испытующий взор Ваньки? Какой из шести лестниц, выходящих на двор, отдать предпочтение пред прочими, признав ее именно тою лестницею, по которой исчез неизвестный седок? Что должен предположить европейски образованный ум, если, кроме безмолвной стены и не менее немых лестниц, на том же дворе существуют проходные ворота?
Европейский ум должен потерять сознание. Ванька потерял его наполовину, он угрюмо смотрел в каменную даль проходных ворот, чесал голову и бормотал: "К примеру"… Через несколько времени, не изменяя направления взора, он принялся чесать голову и спину и бормотал:
– Ишь он к примеру… Так-то-ся!
– Тебе кого?
– Барин тут… Часа с четыре жду…
– Э-э, – произнес дворник и, не говоря больше ни слова, юркнул в свою квартиру.
Ванька долгое время по уходе дворника стоит посреди двора, несколько раз плюет в раздумье и принимается шататься по лестницам, робко трогая ручку звонка, слушая суровые отзывы прислуги и в ужасе отдергивая свой мерзлый нос из захлопывающихся дверей. В заключение Ванька снова стоит посреди двора, смотрит в стену, чешет затылок и бормочет: "а называются господа". Дело оканчивается тем, что он, наконец, возвращается к своим саням; проходя мимо лошади, дает ей кулаком в голову, а затем садится на козлы, подбирает вожжи и принимается стегать свою шведку во всю мочь, устремляясь в какую-нибудь знакомую харчевню вроде "Ямки", что за Казанским собором, где пьют и едят всё свои. Тут есть биллиард и волчок; девицы в красных платьях поют романсы вроде: "Он тиран – тиран, вор мальчишка, он не любит, вор, меня". Атмосфера прокалена запахом масла, луку и водки. Извозчики распоясались, разгорелись и, выбегая на улицу посмотреть лошадей, дымятся от тепла, которое выносят с собою.
Выпив и закусив с горя в ямке,Ванька снова молится на церковь, и затем начинается опять проба счастливых и теплых мест и прочих секретов.
ПРИМЕЧАНИЯ
Весь цикл рассказов печатается по изданию: Сочинения Глеба Успенского в двух томах. Том первый. Третье издание Ф. Павленкова, СПБ., 1889.
Рассказы, входящие в этот цикл, сначала неоднократно печатались Успенским как самостоятельные произведения. Цикл рассказов под названием «Столичная беднота» впервые был сформирован самим писателем в первом издании его «Сочинений» (т. I, 1883). Однако сюда вошли далеко не все рассказы 60-х годов на эту тему. Так, в сборнике Успенского «Глушь» 1875 года под заглавием «Из столичной жизни», кроме рассказа «Швеи» (в настоящем томе – «Первая квартира»), были напечатаны рассказы «Дворник» и «По черной лестнице».
Усилившееся после реформы разложение деревни и классовое расслоение крестьянства увеличили приток крестьян в город на заработки в качестве извозчиков (рассказ Успенского "Извозчик", 1867), дворников ("Дворник", 1865), кухарок ("По черной лестнице", 1867), швей ("Первая квартира", 1866) и др. Эти выходцы из деревни еще тесно связаны с крестьянским хозяйством, и все заветные думы и заботы их направлены к деревне и оставшейся там голодающей семье. Беднота, ютившаяся на городских окраинах, привлекала к себе внимание ряда демократических писателей 60-х годов. А. И. Левитов и М. А. Воронов объединили написанные ими рассказы на "трущобные темы" в сборнике "Московские норы и трущобы" 1866 года. Успенский в 1867 году тоже выпускает сборник "В будни и в праздник. Московские нравы". Однако по своему содержанию рассказы Успенского на эту тему отличаются от произведений Левитова и Воронова тем, что его интересуют не нравы люмпен-пролетариата, а материальное и социальное положение трудовойстоличной бедноты.
1. Старьевщик
(Из московской жизни)
Впервые рассказ напечатан в «Библиотеке для чтения», 1863, XII, и неоднократно, с небольшими стилистическими исправлениями и сокращениями, перепечатывался Успенским в сборниках «Очерки и рассказы» 1866 года (в разделе «Эскизы»), «Разоренье» 1871 года (в разделе «Мелочи») и во всех изданиях «Сочинений».
«Старьевщик» – первый рассказ, напечатанный Успенским в Петербурге, о чем он с гордостью сообщал родителям в письме 1864 года, взволнованный особенно тем, что в объявлении о сотрудниках «Библиотеки для чтения» на следующий год его имя (по алфавиту) стояло рядом с именем И. С. Тургенева.
"Старьевщик" является также первым из ряда рассказов писателя, рисующих городскую бедноту московских окраин, обитателей подвалов и мансард.
– «Крымский ад» – название трактира близ улицы Грачевки (упоминание этой улицы было в первоначальной редакции рассказа).
2. Первая квартира
(Из запасок пролетария)
Впервые рассказ появился в газете «Петербургский комиссионер», 1866, No№ 151, 153, 154, 155, 159, под заглавием «Первая квартира (Из московской жизни)»; с сокращениями, исправлениями текста и с новым, эпилогом перепечатывался самим автором в сборнике «В будни и в праздник» 1867 года; в 1875 году под названием «Швеи (Из московской жизни)» был напечатан в сборнике «Глушь», в отделе «Из столичной жизни», опять с новыми сокращениями; с прежним заглавием «Первая квартира» и подзаголовком «Из записок пролетария» рассказ печатался в «Сочинениях», где он вновь подвергся тщательной стилистической правке и сокращениям.
Рассказ написан на материале наблюдений Успенского в Москве, где он жил в течение 1862–1863 годов. В своей автобиографии Успенский помечает: «Жил я у одной madame, где были швеи. Один из рассказов касался этого времени». Началом творческого замысла этого произведения надо считать декабрь 1863 года (очерк «Ночью», из второй части которого писатель и создал настоящий рассказ, появился в январской книжке «Русского слова» за 1864 год).
Печальную участь девушек-швей, вырванных из крестьянской среды пореформенным разорением деревни, Успенский объясняет материальными и социальными условиями "трудной жизни рабочего человека" в то время; именно жизнь трудящегося Успенский в этом рассказе предлагает изучить с "особенною внимательностью". Судьба городской швеи интересовала и других писателей-демократов 60-х годов – см., например, рассказ 1863 года А. Левитова "Московские комнаты снебилью".
Чиновник особых поручений Вильде протестовал против напечатания этого рассказа для широкой публики, ссылаясь на "явно тенденциозное содержание" рассказа, "цель которого – выставление наиболее темных сторон нашей общественной жизни" (письмо его начальнику Главного управления по делам печати). В 1903 году цензор Н. М. Соколов запретил к печати отдельным изданием для народа рассказы "Старьевщик" и "Первая квартира".
3. Про одну старуху
Рассказ впервые появился в книге «Нашим детям. Иллюстрированный литературно-научный сборник». Изд. А. Н. Якоби. СПБ., 1873, с иллюстрацией и гравюрой на дереве В. И. Якобия и датой написания: 15 марта 1873 года; перепечатанный без изменения в сборнике Успенского «Лентяй, его воспоминания, наблюдения и заметки», СПБ., 1873, рассказ вошел в «Сочинения» с незначительными стилистическими поправками.
Рассказ о трагической судьбе больной одинокой старухи из дворовых крестьян, погибающей после «освобождения» 1861 года в «углах» и «норах» петербургских «трущоб», – в книгу для детского чтения попал случайно, в пору сильных денежных затруднений писателя.
Стр. 312. Люстриновая баскина– накидка из шерстяной или полушерстяной ткани с глянцем.
4. Извозчик
(Очерк)
Очерк впервые появился в газете «Петербургский листок», 1867, № 52 от 8 апреля; перепечатан в сборнике «Нравы Растеряевой улицы», СПБ., 1872, с двумя большими купюрами: в начале рассказа (об извозчиках, научившихся французским словам ради увеличения своего заработка) и в самом конце (характеристика ночных извозчиков – «желтоглазых»); вошел в «Сочинения» с незначительными стилистическими исправлениями текста.
Тему очерка – о тяжелом труде извозчика из крестьян, который тщетно бьется в городе из последних сил для того, чтобы спасти в деревне погибающую от голода и налогов семью, об эксплуатации его хозяином – Успенский развивает позднее в очерке «Извозчик с аппаратом» (1889), с повторением в нем некоторых мотивов своего раннего произведения (см. том 8 наст. издания).
Стр. 318. Шведка– низкорослая выносливая лошадь северной породы.