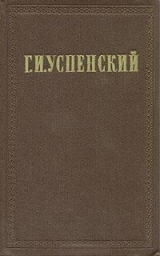
Текст книги "Крестьянин и крестьянский труд"
Автор книги: Глеб Успенский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)
VII. ПАСТУХ
Стройность системы «земледельческих взглядов» Ивана Ермолаевича начала понемногу действовать и лично на меня, по мере того как я стал убеждаться в полнейшей неизбежности этих взглядов. Жить стало легче, то есть проще. Нервы сделались как бы покрепче, стали обнаруживать некоторую неподатливость в таких случаях, в каких прежде, то есть весьма недавно, они не могли не ныть, хотя, конечно, бесплодно. Зашел ко мне проститься пастух; он был принанят деревней на полтора последних месяца по случаю того, что старый пастух тяжко заболел. Это был лет под пятьдесят холостой человек, отставной солдат; в военной службе он прослужил двадцать пять лет и по выходе получил одиннадцать рублей каких-то артельных денег вместе с шинелью, от которой, однако, начальством были отрезаны пуговицы, как «не отслужившие срока»,и, облекшись в эту шинель без пуговиц, пришел домой. Здесь его приняли не совсем ласково; правда, сестра родная жалела его и много плакала с ним и о нем, но муж сестры косился на то, что Еремей (так звали пастуха) не может работать в хозяйстве. Беда Еремея в том именно и заключается, что он не может работать труднойработы, у него нету сил, необходимых для этой работы; он длинен ростом, и если ему нафабрить усы и растопырить бакенбарды, да нахлобучить каску, какую пострашней, так он может показаться человеком очень могучим, богатырем даже, но на деле он был хоть и длинен, но вял и робок. «Счастье еще, – говорил он мне, – что меня на службе не очень серьезно били, а то б я давно помереть должон; фитьфебель у нас был добрый человек: бедных, у кого ничего нету – имущества, денег, почесть что не бил, а бил он богатых; как увидит, что у человека деньги, сейчас на ученье подлетит – рраз!.. Рубль ли, два ли ему и вылетает! Ну, а у меня ничего не было, и денег я в глаза не видал – стало быть, пользы ему меня бить не было. Что ж меня бить, коли у меня ничего нету? А то бы по моему здоровью мне давно надо помереть, ежели бы, то есть, бой мне был настоящий, как прочим, богатым людям, был бой!»
И точно: пахать, ходить по кочкам за сохой или плугом и напрягать свои силы до степени лошадиных – он не мог и наверное повалился бы на пятой борозде. Вот почему, возвратясь домой из военной службы, он стал встречать в семействе косые взгляды, и так как от этих взглядов кусок ему в горло не шел, то он и захотел выделиться. Выделили ему часть из отцовского имущества; часть эту он продал, и денег у него набралось рублей ста полтора. "Тут, – говорил мне пастух, – стало мне скучно, стал я вином баловаться; и так я его полюбил, словно медведь мед любит; пьянствовал я, пожалуй что, близко двух годов; потом, как оставшись я "безо всего" – пошел из своих мест прочь… Тут я поступил в монастырь… В монастыре трапеза хорошая (пастух подробно рассказывал мне монастырское меню) – ну денег, то есть жалованья, не дают, а от богомольцев пользоваться не запрещают… Было нас там таких, как я, человек пять. Вот мы, бывало, и испросим у отца-игумена благословения, чтобы в храмовой праздник дозволил он нам хоть колокольней пользоваться… Например, который бывает богомолец охотник все осматривать, то лезет и на колокольню: пусти да пусти. Ну, дает он гривенник, копеек двадцать – что по возможности – мы и пустим и покажем все. В большие праздники рублей по шесть наберем артелью-то. Ну и насчет работы нельзя пожаловаться, работа монастырская не тяжела: принесу воды, отнесу письмо… или в огороде что-нибудь… Монах не станет над тобой стоять, над душой, например: "работай!" Ему надо в храме быть, то заутреня, то обедня, то вечерня, то всенощная, то молебен, то акафист – беспрестанно он отлучается… Ну и отдохнешь. К обедне вдарят, а ты сел или лег, или трубочку закурил, никто не препятствует…" Монастырская, не тяжелая работа была также по силам Еремею, но увы! наши монастыри, как известно постепенно превращающиеся в "крупные" земледельческие хозяйства, стали брезговать такими, как Еремей, работниками и начали принимать не из милосердия, а по найму, не из-за хлеба, а за определенную плату, настоящих работников, так как дело хозяйственное пошло не по-монастырскому, а по-настоящему, в сурьез, из-за самых определенных, и ясных коммерческих расчетов. На счастье, Еремей чуть-чуть знал грамоте, едва-едва, с грехом пополам, мог прочитать по складам печатную страницу и написать с ужаснейшими искажениями слов крестьянское письмо. Цифры он знал очень мало; что такое миллион – не знал, не мог понять; даже цифры сто тысяч не мог себе ясно представить, не только что написать. Но все-таки и эти знания давали ему по временам кусок хлеба; он брался учить крестьянских ребят и брал цену небольшую – сорок копеек в месяц, и иногда брался "огулом" за два целковых, и притом обязывался к сроку, например, чтобы за зиму непременно обучить мальчишку; но в таких случаях, не доверяя его познаниям, с него требовали подписку. "Дай подписку!" – говорили ему, и Еремей не отпирался от подписки, давал какую угодно, лишь бы зиму не умереть с голоду и не замерзнуть. Но и при подписке и без нее Еремей никого ничему не выучивал, кроме азбуки и двух-трех цифр; однако случаев, чтобы за это взыскивали с него, не бывало, ибо и родители, слушая, как Еремей бьется и потеет и как надседаются дети, понимали, что это дело нелегкое, что за него взяться заставляет человека только крайняя нужда. Из учителей нужда его погнала и в пастухи; дело это ему непривычное, не по характеру; он даже боится быть в лесу одним-один, да и скотины, бодастых коров и быков, побаивается; но нужда научит, по пословице, и кирпичи есть. И Еремей кое-как приладился. К скотине он подошел не как повелитель и начальник, а как самый вежливый и предусмотрительный человек; хлебом, корки которого он сберегал от обеда и подбирал где только возможно, он задобрил решительно всех животных, которых боялся. Но ведь такой образ действий со скотиной – вещь немыслимая. Ни сил, ни средств нехватит у целой деревни на такую деликатность, да Еремей и сам чувствовал, что он не годится для этого дела, так как заменить хлеб палкой, что следует сделать настоящему пастуху, он был неспособен. Он чувствовал, что пастухом он сделался случайно, да и все это чувствовали. Пошел снег, скотину загнали в зимние помещения, и Еремею пришлось уходить. Куда? Он и сам не знал, куда именно ему надобно идти. А идти надо, больше ему нет дела; даром кормить не будет никто, и вот он в такую-то минуту зашел ко мне проститься. Он был в той самой шинели, от которой начальство отрезало пуговицы, в сапогах, разбитых до невозможности, а шапка, которую он держал в руках, была, как говорится, ни на что не похожа. Он пришел проститься, но видимо ждал какого-то счастливого случая, который бы дал ему возможность не идти, остаться зиму здесь. Он привык, познакомился с людьми – зачем бы их бросать? а главное, куда идти-то? Идти приходится неизвестно куда, когда на дворе зима, когда добрые люди забиваются в теплые избы, когда снежком занесены эти избы со всех сторон, густо обложит их толстой, пушистой, непроницаемой от холода стеной. А он вот куда-то иди! Но куда? Денег у него оказалось за расчетом семь рублей пятьдесят копеек, а их нехватит и на полсуток, потому что в таких сапогах, какие надеты на Еремее, нельзя идти далеко, не пройдешь и трех верст, как ноги окоченеют. "Куда же ты теперь?" – спрашивал я Еремея. "Да, признаться, еще покуда не огляделся… Вот сапоги надо. Вот как разбились… не знаю, кабы рубля бы за два пришлось сапоги-то купить, оно бы ничего… Вот тоже одежи мало, совсем мало одежи!" Еремей трогает себя за борт шинели без пуговиц, вытягивает руки и оглядывает рваные рукава. "Мало, мало, совсем мало одежи; надо что-нибудь по зимнему времени… а денег-то вон семь рублей, да лавочнику, поди как подсчитает, пожалуй как бы за мелочь рубли два не пришлось отдать… Забирал табак, нитки, рубаху взял… Вот денег-то и нехватает. Кабы на машину хватило, пожалуй, в город бы уехал…"
Очевидно, что Еремей находился в глубокой нерешительности, не знал, что делать, куда идти, что покупать, что исправлять в одеже, сапоги ли, или шинель, или шапку… Я предложил ему водки – он любил ее, – но в эту трогательную минуту он отказался. Он решительно сказал: "Боюсь я теперь пить!" И точно, настроение его было такое, что, зайдя в теплый кабак, он не вышел бы оттуда на мороз, не оставив в кабаке всех семи рублей пятидесяти копеек. Теперь в кабаках играют в карты, и ничего не было бы мудреного, если бы Еремею пришла мысль поиграть "на счастье"… И все-таки Еремей ушел, несмотря на страстное желание остаться, несмотря на то, что ему было ужасно боязно идти неведомо куда – в холод, в рваной одежде, без денег и без сил, которых не дала природа. Ушел, потому что даром кормить его никто не будет. Надел рваную шапку, взял палку, крякнул как-то в глубоком, чуть не до слез доходившем душевном расстройстве и пошел неведомо куда. Я стоял у окна и видел, как Еремей удалялся к лесу, ступая рваными сапогами по занесенной снегом дороге, шел, сгорбившись и вытянув вперед длинную, обмотанную тряпками шею…
– Такое уж ему, должно быть, счастье! – сказал Иван Ермолаевич о Еремее. – Кто же виноват-то, что он не работник. Ведь этого переменить нельзя… А задаром кормить никто не станет. Откуда я возьму – сами посудите?.. Кабы мастерство какое знал, ну, еще ему бы можно было как-нибудь справиться помаленьку. А то и мастерства за ним нет… В кузню? – Слаб… Вот и выходит, что ему надо кое-как жить, перебиваться… Случаем. А чтобы постоянного жительства – этого нет… не подойдет ему. Нешто работники такие бывают!
И точно, приняв во внимание "породу" Еремея, его физические ресурсы, видишь, что для него как бы естественно, само собойвытекает такой, а не иной образ жизни. Он должентак жить; никто не в силах переделать его жизнь, никто на это не имеет возможности. Его можно жалеть, но сам он волей-неволей должен пройти именно тот самый путь жизни, который ему предопределен и который объясняется условиями, находящимися в его натуре, породе. Он долженпоэтому кое-как шататься по свету, работать случайную работу, кое-как кормиться в случайно попадающихся не слишком бойких для работы местах, а помереть ему придется так же, как вот недавно помер в деревне бобыль. Помер он потому, что физические средства существования были в нем истощены до последнего предела, и замечательно, что имущества после него осталось как разстолько, сколько необходимо надо на его погребение. За шапку дали восемнадцать копеек, за остатки полушубка рубль, деньгами осталось в тряпке сорок копеек и разной мелочи (лопата, горшок, один новый лапоть) продано на несколько копеек, всего набралось два рубля восемьдесят три копейки, которые «точка в точку» разошлись на погребение – за яму, попу, гроб и т. д., даже три копейки, которые оставались, казалось, лишними, и те пришлось отдать нищему, который сидел на паперти во время отпевания. Словом, «копейка в копейку» человек рассчитался а белым светом, возвратив ему все «до копеечки», что взял от него для жизненного своего пути. Всякое сожаление, скорбь и т. д. – все это будет несколько фальшиво при такой «неизбежности» форм и жизни и смерти. Таким образом, в ту минуту, когда бобыль был зарыт в могилу, от него ничего не осталось,ни даже воспоминания… На чужой голове «живет» его шапка, рваные овчины перекроены и «живут» в чужом полушубке, и все это живое в иных формах уничтожает даже возможность воспоминания об умершем. Жизнь и смерть для человека, имеющего дело непосредственно с природой, слиты почти воедино. Вот умерло срубленное дерево, оно вянет, гниет, но в то же самое мгновение пополняется новой жизнью. Под гниющей корой неведомо откуда явились и копошатся тысячи червей, муравьев; все это суетится, лазает, точит, ест мертвеца, тащит в свой дом, строится, устраивает муравьиные кучи, растаскивает его по мельчайшим частям, как у бобыля шапку, полушубок, и, глядишь, нет дерева, а есть что-то другое, и не мертвое, а живое; дерево рассыпалось, и на том месте, где оно лежало, по всей его длине, вырос крепкий мох, разнообразный, красивый, и в нем после хорошего «грибного дождя» (для грибов бывает особенный грибной дождь) – масса грибов, которые через день по появлении жарятся на сковороде в сметане… Издохла лошадь, и немедленно, не давая вам поскорбеть о погибшем работнике, она, эта самая мертвая лошадь, начинает жить новою жизнью. Сколько живых существ мгновенно воспроизводит она в один день! Какая гибель червей, устраивающих свое собственное благосостояние! В каком великолепном расположении духа стаи птиц, ворон, галок и всяких прелестных лесных пташек! Как выделывают они эти кости, доводя их, при помощи своих острых носов и содействии дождей и ветров, до степени великолепнейшей белизны. На весну – нет лошади, нет об ней капли воспоминания, потому что она вся разбежалась, расползлась и разлетелась тысячами живых существ. Недавно под полом того деревенского дома, в котором я живу, собака вывела щенят. Она прорыла под некрепким фундаментом лаз и забралась в самый дальний угол противоположной лазу части дома. Она сделала это для того, чтоб щенятам было теплей, чтоб ветер, который будет проникать под пол, чрез лаз, не доходил до них. По ночам во время снежных вьюг они сильно вопияли под полом; пробовали достать их и перенести в тепло, но это было невозможно сделать, нельзя было пролезть под пол. Но вот две ночи кряду не слыхать их писка; щенята замерзли. Несчастные существа! Они не выдержали сильных морозов и всей кучей, такие хорошенькие, маленькие – замерзли! Но не успели вы посантиментальничать и пяти секунд, как немедленно же, неведомо откуда, явилось множество сорок… Они делают под полом свое дело и веселые вылетают оттуда. Сколько между ними, по всей вероятности, разговоров, и разговоров интересных, оживленных, ежели судить по стрекотанью красивеньких птиц, стрекотанью, которому они с азартом предаются на крыше дома, вокруг загороди, на соседних голых деревьях… Не беспокойтесь! они также делают свое дело и своим желанием и правом жить уничтожают вашу бесплодную сантиментальность.
Отрывайте от семьи людей. солдатчиной, дифтеритом… поболит раненое место и заживет. Жалко бывает смотреть иной раз на деревенскую старуху, которая одна доживает век среди подрастающих внучат и правнучат. У нее нету мужа, нету двух сыновей – для нее все кончилось, как для дерева, которое срублено. Но корень у них у обоих жив, и, зная свою смерть, они должны покорно созерцать процесс собственного конечного истощения, в обилии и в безжалостности возникающей вокруг них и их последними соками питающейся жизни. Из-под умирающего пня так и прыснули молодые побеги и, зеленея своими молоденькими листьями, так и рвут из него остатки сил. Та же участь и старухи: с какой безжалостностью эксплуатирует ее привычку заботиться й любить – это новое, молодое, ребячье поколение… Не уйти ей от этой жадной до внимания белоголовой толпы, и она растет, сокрушая и разрушая старуху, и чем гуще и веселее этот человечий "прутняк", тем меньше у старухи сил, тем ближе и смерть… Пришел сын из полка – но уж ему нет места… Матушки уж нет, она вся истратилась в молодом поколении, а он, как отрубленный сук, – не прирастет к старому месту… А мы с Иваном Ермолаевичем, подумавши и обсудив участь этого сука, скажем:
– Такая уж ему, стало быть, участь… Ведь не прирастет – стало быть, волей-неволей, а валяйся при дороге, сгнивай понемногу… Такой предел.
VIII. МИШКА
Расскажу еще один небольшой эпизод из жизни Ивана Ермолаевича, который под влиянием «новых» для меня взглядов показался мне весьма привлекательным. Иван Ермолаевич задумал учить своего сына, одиннадцатилетнего мальчика. Необходимо сказать, что потребность учить и учиться была сознаваема Иваном Ермолаевичем в смутной степени. Обыкновенно он решительно не нуждался ни в каких знаниях, ни в каком учении. Жизнь его и его семьи, не исключая и одиннадцатилетнего сына, была так наполнена и так хорошо снабжалась знаниями, которые сама же и давала, что нуждаться в каком-нибудь постороннем указании, совете – словом, в чем-либо непочерпаемом тут же, на месте и на своем деле – даже не было и тени надобности. Но иногда, минутами, что-то неведомое, непонятное, что-то доносящееся из самого далекого далека пугало Ивана Ермолаевича. Ему начинало казаться, что где-то в отдалении что-то зарождается недоброе, трудное, с чем надо справляться умеючи. Он чувствовал собственную опасность так же, как по отдаленному звуку колокола догадывался, что где-то пожар и кто-то горит; и тут он догадывался, что есть какая-то беда, хоть и не знал доподлинно, кто горит и где и в чем беда. И в такие-то минуты он говорил: «Нет, надо Мишутку обучить грамоте. Надо!» Удивительно странные обстоятельства приводили его к этой мысли. Однажды во время косьбы зашли мы с ним в луга, арендуемые немцами курляндцами. Попался нам курляндец, сидит он на копне сена и что-то ест. Поглядели, ест рыбу. «Какая это рыба?» – спрашивает Иван Ермолаевич. «Салака!» – «Дай-ко отведать». Немец дал, Иван Ермолаевич поглядел на рыбу, повертел ее в руках, померил, откусил, пожевал и спросил: «Почем?» Немец сказал цену. Иван Ермолаевич доел рыбу, поблагодарил, и мы пошли дальше, и тут-то, ни с того ни с сего, Иван Ермолаевич вдруг вздохнул глубоко-глубоко и сказал: «Нет, надо Мишутку учить! пропадешь, верное слово, пропадешь! Ишь вон какую рыбу-то ест!» Или тоже поедет он куда-нибудь из дому, на мельницу, на станцию, наглядится там разных людей, наслушается в трактире за чаем разговоров разных и, подавленный всею массою их новизны, сделается как-то суше, жестче в обращении и твердит: «Надо! вот уберемся, отдам учителю».
Но как только Иван Ермолаевич оставался дома, делал свои домашние дела, так все это в нем исчезало; он забывал, почему вдруг ему вздумалось чему-то учить Мишутку. Словом, только какой-то неприятный гнет, который он ощущал вне дома, какие-то неприятные, недобрые веяния времени, которых он тогда не мог бы высказать мало-мальски в определенной форме, только это и приводило его к мысли о необходимости учить сына. Иногда он заходил посоветоваться на этот счет и со мной. Но я уж до такой степени проникся взглядами Ивана Ермолаевича, что и сам не мог хорошенько определить, зачем собственно необходимо учить Мишутку? и главное, решительно не мог представить себе того, чему бы именно нужно было его учить. Поэтому в разговорах об учении мы с Иваном Ермолаевичем только твердили одно: "надо!" Он, чем-то угнетаемый, сидит, мрачно задумавшись, и твердит: "Нет, надо, надо!" И я ему отвечаю тем же: "Да, надо, Иван Ермолаевич!" – "Как же?" – говорит он, очевидно пытаясь подкрепить свои слова какими-нибудь основательными доводами, но обыкновенно ничем не подкрепляет, а так на слове и останавливался… Затем, помолчав довольно долго, вновь восклицал: "О-х, надо, надо. Нельзя без этого!" И я отвечал ему: "Да уж без этого… как же? Разумеется, надо!" – "А я-то про что ж? Я про то и говорю, что – надо! Больше ничего!" – "Конечно, нужно! Чего же тут?"
Таким образом мы разговаривали с Иваном Ермолаевичем иногда очень долго и расходились, чувствуя ужаснейшую тяжесть на душе. "Надо, надо!", а сущность и цель Ивану Ермолаевичу неизвестны, непонятны, а я уж ленюсь разъяснять их, да и призабыл, чем именно это надоследует оправдать.
С величайшею неохотою и как бы тяжестью на душе Иван Ермолаевич приводит намерение свое в исполнение. Уж давно убрались с хлебом, уж давно прошла осень, и начал устанавливаться зимний путь, а он все не везет Мишку к учителю, раздумывает, к кому отдать. Сначала думал было отдать учительнице, но на станции ему разъяснили, что учительница ничего не стоит.
– Ты сам посуди, – говорили ему, – ну что она, баба, может? Ведь учение дело серьезное, ведь, братец ты мой, возьмем хоть твоего Мишку, ведь его обломать – ведь тут надобен какой учитель-то? Поди-ко, сшиби с него дурь-то! Ты думаешь, это легко? Нет, брат, запотеешь! Тут надо вот как: чтобы ни-ни, ни боже мой!.. Ну, где же тут бабе? Нет! Советую тебе учителя разыскать, которого посурьезнее – вот это так! Да чтоб он твоего Михаилу с первого слова осадил, чтобы без послабления, чтобы вогнал его в правило, установил в точке, остолбил его с бацу – вот из него дух-то этот, храп-то мужичий и выйдет вой! вот (показывает кулак), чтобы – аминь! ну тогда он очувствуется!.. А так-то из него в два года мужицкого духу не выбьешь… сделай милость! Я по себе знаю! Бывало, отец меня с глаз не спускал, как я стал учиться: так и стоит с палкой! как чуть отвернулся – я марш через забор… И что ж? Драл! да зато я теперича его поминаю добром, да! А кажется, как драл-то! До самого училища от дому неотступно, бывало, с хворостиной провожает. Чуть оглянусь – раз!.. Чуть в сторону – два! Бывало, боем, чисто одним боем, в школу-то вбивал! А то – бабе! Захотел ты от бабы порядку!
Таким образом, решено было отдать Мишку учителю. Иван Ермолаевич нарочно съездил в одну из ближних деревень, где была земская школа, уговорится с учителем, и, наконец, настал день, когда надо было везти Михаилу в школу. До этой минуты на все разговоры об учении Михайло обыкновенно не отвечал ни одного слова. "Вот, – скажет Иван Ермолаевич, – скоро в школу повезу, смотри, учись!" Михайло молчит, не отвечает ни слова. Мальчик он был бойкий, веселый, разговорчивый, но как только дело или разговор касался школы, Михайло делался как каменный: не огорчается, не радуется, а смотрит как-то осторожно… В день отъезда Иван Ермолаевич сказал, наконец, с тяжелым вздохом:
– Ну, Михайло, сейчас поедем. Мать, одень Мишку-то!
Мать одевала его и плакала. Иван Ермолаевич также чуть не рыдал, не понимая, из-за чего должно происходить все это мучение. Но Михайло хоть бы словечко. Спросят его: "Рад ты, что в школе будешь учиться?" – Молчит.
Спросят; "Чай, не любо в школу-то идти?" – Опять нет ответа.
Но в самый день отъезда Мишка дал-таки свой ответ. Он скрылся в ту самую минуту, когда все было готово, когда уж работник подвел запряженную лошадь, когда и Иван Ермолаевич оделся и Мишку одели. Все время Мишка был тверд и молчалив, как железный, сам Иван Ермолаевич тяготился этим отъездом в школу гораздо больше, чем Михайло Иван Ермолаевич мучился этим отъездом, Мишка же только молчал. И вот в то время, когда Иван Ермолаевич нехотя и с глубоким сокрушением стал влезать в саяи и со вздохом произнес: "Ну, Михайло, полезай, брат", – оказалось, что Михайлы нет. Покликали, покричали – нет ответа. Принялись искать – опять нигде нет; оглядели все чердаки, все углы в доме и на дворе – нет Михайлы! Иван Ермолаевяч сильно затревожился. "Ведь спрашивал дьявола, – сердился он, – хочешь в ученье или нет? ведь молчит, как камень, дубина экая, а вот убег! Уж попадись ты мне, я из тебя выбью ответ!" Но этот гнев немедленно же сменялся в родительском сердце состраданием, и Иван Ермолаевич, видимо, глубоко сожалел, что затеял всю эту "музыку". "Жил бы, мол, так, вокруг дому, к работе привыкал, а то вот…" К вечеру мысли Ивана Ермолаевича окончательно склонились в пользу того, что всей этой музыки затевать было незачем. Надвигались сумерки, а Мишки не было. Всеми, не исключая работников, овладело глубокое уныние, которое сменилось искреннейшею радостью, когда один общий знакомый мужик из соседней деревни уж темным вечером привез Мишку домой. Все обрадовались, забыли всякие разговоры об ученье, всякие намерения "пробрать" и т. д. Спрашивали только, "не замерз ли", "чай, голоден", а работники, так те откровенно высказывали свое одобрение: "Ловко ты, Мишанька… Право, ловко!.."
Мишка чувствовал себя победителем и как бы вырос и окреп за эти несколько часов бегства. Тотчас, как только его привезли, он переоделся, переобулся и в несколько минут обегал весь двор, заглянул в хлева, сараи и т. д., точно желал удостовериться, все ли на своих местах, все ли по-старому, все ли благополучно. Мишку уж и не спрашивали, хочет он учиться или нет.
С неделю Иван Ермолаевич и не заикался о школе и ученье, он приходил в себя, у него были хлопоты с сеном, ему было не до того. Но опять пришлось ему побывать в людях, на станции, в городе – и опять он воротился с тревожными мыслями. "Нет, беспременно надобно учить. Ничего не поделаешь, не такое время"…. И опять стал ожесточаться на Мишку. "Ну уж теперь я тебя туда завезу, – говорил он о Мишке, – ты у меня не убежишь… Я уж теперь знаю. Разговаривать не стану".
И точно, Иван Ермолаевич перестал говорить с Михайлом о своем намерении, но вместе со мной заключил заговор. Не говоря никому ни слова, мы выберем любой день, посадим Мишку в сани и поедем в другую деревню за двенадцать верст, близ станции железной дороги. Там мы его сразу и заточим в школу и водворим в квартире. Там есть у Ивана Ермолаевича знакомые, которые будут присматривать, приглядывать, а в случае чего и по затылку дадут – ничего, выдержит! скотина добрая…
Мишка ничего не подозревал, когда Иван Ермолаевич приказал заложить лошадь, объявив, что едет на мельницу. Он, как и всегда, помогал запрягать, причем любил дернуть лошади морду и вбок и кверху, и точно большой мужик загоготать на нее, и т. д. Когда лошадь была подана, Иван Ермолаевич внезапно объявил Михайле, находившемуся в избе: "Одевайся, со мной поедешь". Михайло побелел как полотно, почувствовал, что схвачен врасплох, но ни слова не сказал, оделся; тут подоспел и я; посадив Михайлу в средину между нами, мы тронулись в путь. Михайло молчал как каменный, но однажды взглянул на меня, и в этом взгляде я заметил ужасное негодование. Он не знал, куда едем, но подозревал. По хорошей зимней дороге мы "духом" долетели до деревни, где была школа, и обделали все дело не больше, как в один час. Как раз против школы нашли квартиру у вдовы-старушки, внучки которой также учились в школе, дали задаток, повели Мишку к учителю, переговорили с ним, также дали задаток, после чего учитель сию же минуту взял Мишку и увел в школу, где уж сидело и жужжало человек сорок малых ребят. Переход от деревенской, интересной, понятной жизни к непонятной и скучной школе, от знакомых людей, где Мишка начинал уж считать себя "большим", "парнем", в среду незнакомых, чужих ребят был необыкновенно быстр и резок. Мишка хотя и был крепковат на нервы, а когда учитель усадил его в самую середину школьной толпы, малый "загорелся", вспыхнул, смутился и оторопел…
– Это самое и надо! – сказал Иван Ермолаевич, когда мы выбрались из школы. Он и сам был испуган школой не меньше Мишки. – Так и нужно пррямо под обух! Скорей оботрется… Оглушить его этак-то – он и пообмякнет… Это слава богу, что так – пррямо об земь! Ничего, пущай! – закончил Иван Ермолаевич, и мы поехали прочь от школы.
По дороге заехали мы к кузнецу, которого звали Лепило и который вместе с тем был и коновал. У него находилась на излечении лошадь Ивана Ермолаевича. Лепило сделался коновалом как-то совершенно нечаянно, потому что ему это. занятие "подошло". Он был кузнец, ковал лошадей, и всякий раз мужики спрашивали у него советов, не знает ли, отчего лошадь хромает, что такое вот тут, на ноге, у ней пухнет и т. д. Лет пять Лепило отвечал на эти вопросы: "Не знаю!", "Почем я знаю?" и т. д. Но потом помаленьку да полегоньку стал он давать и ответы: "Пухнет? Это пухнет… опух такой бывает… от этого". Или: "Хромает? Это она хромает от болезни, болезнь такая есть". А потом стал и лечить. Помогла и надоумила его в этом деле жена. "Чего ты? – сказала она. – Кому ж лечить-то, коль не тебе? Бесперечь ты при лошадях, да тебе не лечить? Кабы коновалы были – ну, так. А то только пользу свою опускаешь!" – "А и в самом деле!" – подумал Лепило и стал помаленьку приучаться к делу; как известно, тряпка, самая обыкновенная, коль скоро ею завяжут рану или вообще больное место, уж сама по себе представляет как бы лекарство или медикамент – и вот Лепило стал лечить при помощи тряпки и всякой дряни, какая только попадалась "округ дому". Не ходить же ему за десять верст в аптеку, да и что бы он мог там купить? Поэтому всякую нечисть двора, все он мазал на тряпку, иногда перемешивал одну нечисть с другой и опять же мазал на тряпку. Иной раз жена вытащит на вьюшке сажи, или золы, или вообще какой-нибудь совершенно никому ненужной дряни и скажет ему: "На!.." Лепило знает, что означает это краткое изречение, и валит сажу или золу в приготовленную дрянь. Единственные средства, употреблявшиеся им и действительно могущие назваться средствами, были крепкая водка, купорос, скипидар, а в последнее время керосин. Каленое железо "само собой" уж должно было считаться в числе средств Лепилы как кузнеца: ничего нет легче раскалить железную полосу и ткнуть в больное место. А между тем это – тоже лекарство, и никогда не даровое.
Заехали мы к Лепиле, поглядели больную лошадь, к ноге которой была привязана тряпка с лекарством вышеописанного приготовления, зашли, кроме того, в лавки кое-что купить, часа два пили в трактире чай, грелись, разговаривали и воротились домой шажком уж часу в первом ночи.
– Мишка прибежал! – было первое слово, сказанное женой Ивана Ермолаевича, когда мы подъехали к крыльцу его избы.
И я и Иван Ермолаевич были несказанно изумлены. Иван Ермолаевич вылез из саней и молча пошел в избу; я также молча пошел домой; было уже поздно, и поэтому с Иваном Ермолаевичем я увиделся только утром.
– Это его учитель прислал… Грифель вишь… книгу какую-то надо… бумагу…
Потолковали мы насчет расходов и порешили отвезти Мишку и послать учителю деньги, чтобы купил грифель и все, что нужно. Отправили Мишку на следующий же день с работником. Но утром через день Мишка опять явился.
– Ты зачем?
– Хозяйка прогнала. Напилась пьяна, стала драться, погнала вон… Не пимши, не емши…
Михайло рассказал возмутительную историю о поступках хозяйки.
Все жалели его, особенно же жалели, что он и сапоги и ноги истрепал. Но– Мишутка в моменты своих кратковременных возвращений не обращал, повидимому, никакого внимания ни на сожаления о его ногах, ни на самые ноги. Едва прибежав из дальнего путешествия по снегу, он немедленно же пускался осматривать, все ли цело, все ли так, как было при нем в родном его месте. Бегал в коровник, в свиной хлев, к овцам, к лошадям, в сарай, в баню к уткам; все это он делал лихорадочно, поспешно – прибежит, откроет дверь в хлев, в коровник, оглядит, пересчитает, захлопнет дверь – летит в сарай и там все пересмотрит, перепробует, рукой пощупает; словом, не нарадуется на свои родные места, в которых ему, очевидно, дорога каждая порошинка.








