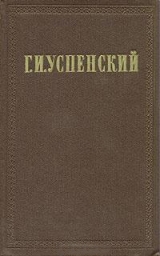
Текст книги "Рассказы"
Автор книги: Глеб Успенский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
– Есть, стало быть, и такие, – спросил я, – что не следует и давать им?
– Их всяких много! Иной нищий идет и хлеба, просит, и сам же ругается на тебя. Однажды сидим мы так-то всем семейством за обедом, входит прохожий. На голове шапка с красным околышем, халат надет теплый, подпоясан и уши подвязаны. Сапоги тоже есть. Вошел, шапки не снял, огляделся кругом. "Какая, говорит, у вас, у мужиков, гадость в избах… Точно, говорит, в хлеву". – "Так зачем же ты пришел-то сюда? Иди своею дорогой!" – "Я, говорит, озяб, устал. Нельзя мне не отдохнуть". Не гнать же человека? Сел. Что-то у него в лице как будто полоумное было. Задумчивый. "Большая, говорит, на свете теперь неправда настала. У каждого мужика-дурака есть и земля, и хлеб, и изба, а в дворянстве, случается, кровные дворяне и пристанища не имеют! Это должно прекратиться! Что это такое, говорит, за подлость? Я, дворянин, должен у какого-то мужичонки просить позволения погреться? В этаком хлеву? Тьфу!" Надо бы по шее благословить, – ну, бог, мол, с ним, пущай поврет в свое удовольствие. "А ты сам-то дворянин, что ли, будешь?" – спрашиваем. "Я, говорит, самой чистой дворянской крови с материнской стороны. Моя мать была настоящая дворянка, генеральская дочь, только отец, стало быть, мой дед, разорился, должна была выйти за купца. А кровь у меня чистая дворянская! По бумагам я мещанин, а по крови настоящий дворянин. Бумага – наплевать. Дворянский дух и кровь – вот главное дело, а во мне и кровь и дух дворянские есть! Я у помещика на псарне ночую, мне там милее, чем у мужика на печке. Во мне есть благородная кровь. Я и пропадаю из-за дворянской чести. По бедности пустили меня после смерти отца по коммерческой части. И я, как благородный человек, исполнял свое дело, пылинки чужой не взял. Образование имел собственное, чтением занимался. За мои услуги фабрикант был очень мне благодарен, потому я все его дела увеличил, размножил, обогатил. Он сам, этот фабрикант-то, говорил мне: "Такого благородного человека я в жизнь не видал. Все мое семейство из-за тебя живет в богатстве"… И старшая его дочь мне говорила: "Вы наш благодетель… Я вас обожаю". Письма писала. Совершенно верно выходило ей быть за мной замужем… Обнимала. А между тем ихняя подлая мужицкая кровь объявилась же наконец. Выдали за выкреста, богача… Из-под носу выхватили, невежи! Ну, я минуты не оставался, надел, что было мое, бросил фабрику и ушел. Маменька еще была жива, прожил с нею все и тогда совсем ушел. Не хочу покоряться! Не поклонюсь! Выкрест-то всю семью разорил в корень. Пусть. Хожу по монастырям, пусть кормят! И по помещикам, потому благородный должен помочь благородному. У меня дворянская чистая кровь! И к мужикам хожу и беру у них хлеб, яйца и деньги, но не как нищий, а как барин!.." Как брякнул он это, признаться, взяло и нас за живое. "Нет, говорим, эта пора прошла!" – "Нет, говорит, не прошла! Не может этого быть, чтобы барину не было удовольствия! Мне и схимник сказывал: "Будет, говорит, оборот! Не может быть, чтобы дворянин пропадал. Будет ему дано опять в оборот все старое. Всякому дворянину будет дано". Я и сны вижу. Этого не может быть, чтоб у мужиков было у каждого все, а у дворянина нет! Скоро вам, дуракам, будет приказано посмирней быть"… Должно что полоумный. Сидит, сидит: "Как! заорет, чтобы дворянам не было предоставлено жить по-дворянски? Для чего это мужики предназначены? Почему бог создал дворян и мужиков? Будет! Не нищий я, а барин! Это будет! Я просить не буду, а прямо ты мне должен дать, как барину. Дай хлеба, я не ел". Вот ведь какие! Палкой замахивается. Как не дать? Только уйди, сделай милость! Дали и этому полоумному. Засунул хлеб за пазуху, опять оглядел избу: "Какая, говорит, у вас тут все подлость! Даже тошнит. Вонь, смрад, точно свиньи!" Вот ведь какие бывают! А и этим как не дать? Ведь под окном может с голоду помереть, а кто отвечать будет? А может, он, полоумный, и чего еще хуже сделает?
Собеседник прервал рассказ и, как бы обиняком, спросил:
– А что, может, и вправду будет это, что полоумный-то говорил? Я так думаю, что полоумный он, непременно! Разве есть слухи какие?
Поговорили мы на эту тему и опять возвратились к прерванному разговору:
– И какие иной раз веселые бывают из них – страсть! Кажется, весь ободран, голоден, идет неведомо куда, без пути, без дороги, а нет-нет, да и представит комедию! Стою я раз на станции на платформе, смотрю, идет оборвыш, чуть не в чем мать родила. Палка длинная, ноги босые, сам верста ростом. Вошел по ступеням на платформу, стал, огляделся, увидел жандарма и закричал: "Жандарм! Поди сюда, каналья!.. – и палкой стучит. – Живо!" Жандарм осерчал, подскочил. "Ты как, говорит, смеешь так говорить?" Бродяга опять застучал палкой и закричал: "Молчать, каналья! Я – сенатор! Пошел, дай телеграмму, чтобы разыскали десяток папирос петровских, в курьерском забыл! В купе чтобы искали, исполняй! Пшол!" Ну, конечно, сгребли его, волокут в кутузку, а он не унимается: "Да хорош ли у вас там, канальи, буфет?" – "Иди, иди, любезный, увидишь, какой буфет!" – "Чтобы сейчас затопить камин и бифштексу три порции!" В кутузку усадили, и оттуда чудит: "Ни соусу нету, ни шампанского не дают! Ах вы, такие-сякие!" Увидал меня сквозь решетку и говорит: "Мужик! Принеси мне краюху хлеба, а то, ей-богу, околею с голоду!.." Ну, как не дать?
Поговорили затем, уже крепко позевывая, вообще про обилие разлакомленного сладкими кусками дармоедного народа, вырабатываемого особенными условиями городской жизни, и тяжести расходов, которые эта голытьба возлагает на придорожное крестьянское население, и понемногу разговор возвратился к началу.
– А уж как хорошо было, как владычица-то прошлась по нашим местам! Сколько она приютила бесприютных и голодных накормила! Разжалобились богомольцы, развязали кошели, не обижали бедных. Когда это бывало? Сколько нищего народу до дому добралось, а иной, может, с десятком рублей за мастерство взялся, человеком стал. Долго этак-то не раздобреет жадный человек, как в ту пору владычица его раздобреть заставила!.. Вовеки не дожить нам всем, и с бродягами вместе, до этакой радости!.. Теперь опять к нам, мужикам, в окошко постукивают: "Подайте, Христа ради!"
Хорошо говорил мой собеседник о необыкновенно замечательных днях, но все-таки в конце концов мы заснули, а проснувшись, уже и совсем не имели для разговора какого-нибудь интересного материала. Молча доехали до станции и, прощаясь, опять обменялись обычным ласковым: "Спасибо!" – "Дай бог вам!" – "Счастливо оставаться!" – и не хмурым, а ласковым взглядом проводили друг друга.
3. БОГОМОЛКА
I
…Всевозможные развлечения, устраиваемые летними посетителями Л<ипец>ких минеральных вод, были окончательно исчерпаны. Ездили за город, катались на лодках, опять ездили за город, но уже соединенными компаниями, взлезали на колокольню любоваться видом города, который и так был виден довольно ясно, и, наконец, скука настала страшная. Нужно было отдохнуть от этого «летнего» отдыха. Но как? В этом затруднительном положении совершенно неожиданно помог мне случай.
В одно утро в гостинице, где я стоял, появился ямщик, предлагавший свои услуги везти на богомолье в соседний монастырь, верст за пятьдесят. В монастыре на днях должен быть храмовой праздник, на который съедется народ отовсюду. Это предложение было для меня как нельзя более кстати, и мы уговорились тотчас же.
Ехать нужно было на другой день часа в два дня, выехали мы, разумеется, не в два, а под вечер, что, впрочем, было гораздо лучше. Ехали мы не спеша, по узкой проселочной дороге, сухой и хорошо укатанной, переваливаясь с холма в долину, снова взбираясь на холм, точно такой же, как и первый; неслышно и чуть-чуть постукивая телегой, пробегали мы по сырой и мягкой дорожке луга, миновали деревню с ярким огнем лучины [1]1
Было в <18>73 г.
[Закрыть]в тусклом и маленьком стекле тусклого и маленького крестьянского окна, курили и думали каждый о своем, – впрочем, вернее – о своем деле думал только ямщик; я, единственный его пассажир, затем и лежал в этой телеге, чтобы «о своем» – не думать.
По мере того как начинало темнеть, по дороге стали попадаться люди, пешие и ехавшие в таких же повозках, как и мы, – это были богомольцы, торопившиеся к ночлегу, в ближайшую деревню. Мы вместе с этими пешеходами, скоплявшимися близ деревни в партии, прибыли на ночлег поздно ночью. Постоялый двор был полнехонек народом: в сенях, в избах, в телегах и других экипажах, переполнявших двор, повсюду спал или приготовлялся спать усталый народ, охая, кряхтя, поминая слова молитвы. Я последовал примеру богомольцев и тоже лег в телеге, под открытым летним небом.
Проснулся я рано и вышел со двора на улицу. Здесь у ворот я присел на широком камне, поставленном на двух кусках дубовых обрезков, плотно закутавшись от утреннего холода в пальто. Деревенская улица мне была знакома, и мне нечего было разглядывать в ней.
II
В это время к дому приближалась богомолка; она шла скорыми, проворными шагами, нагнув лицо к земле и проворно работая палкой. Поровнявшись со мною, она остановилась, спросила не то у меня, не то у кого-то невидимого мне, «пущают ли?» – и, как бы не расслышав моего утвердительного ответа, села на другой камушек и с трудом перевела дух.
Лицо этой старушки заставило невольно обратить на нее внимание: такое красивое, умное лицо не часто приходится встречать в простонародных странницах. Черные, острые, наблюдательные, умные глаза придавали ее хотя и красивому, но утомленному и уже заметно не молодому лицу оттенок умной задумчивости. Но когда я заговорил с ней, в этих умных глазах, в пристальности, с которой она уставила их на меня, и быстроте, с которой она вдруг опускала их, смотрела в сторону, я заметил что-то странное, как будто в голове ее не совсем было ясно.
Я спросил ее – "откуда она?"
Она отвечала, что издалека, что идет к угоднику, а оттуда отправится тотчас же в другое место. Я заметил ей, что такие частые и далекие переходы утомительны и вредны, что она вот и теперь еще не отдышалась порядком.
– Иному человеку, – сказала она в ответ, – и жить-то нельзя, покуда не умучает себя! Покуда умучил себя хорошенько, будто и можно на белый свет смотреть, а дай-ка ему отдых и покой – так он!..
Она отвернулась в сторону и махнула рукой.
– Что ж он? – спросил я.
– А то, – сказала она, глянув на меня тем странным взглядом, в котором виделось что-то ненормальное в ее сознании, – а то, что бес в нем просыпается, да! Ну-ко, поди, сладь с ним в то время!
– Бес?
– Да! дьявол пробуждается! проснется и начнет обозлять тебя на людей. Ну, и взбесишься, полезешь на всех с кулаками. Разве так можно с добрыми людьми жить?
– А может быть, люди-то в самом деле не добрые, а дурные? – начал было я, но богомолка, быстро прервав меня, сказала:
– Кому ты это говоришь? Я не от зубов хожу исцеляться, – зубы у меня все целы и здоровые, как жемчуг; не детей я хожу просить, – мужа у меня нету, умер; опять и обещания никакого я не давала, – зачем мне бегать так-то по тысячи верст? И дома можно молиться! А уж, стало быть, я знаю его,стало быть, оннадо мной забирал силу! Я знаю это! Мне теперь пятый десяток идет, а онменя с детства во власть взял! От кого я и родилась-то, не знаю. Матушку свою помню, а отца никогда не видала. Не то беда, что «незаконная», а то беда – чья?вот что! Матушка, покойница, бывало, говорит: "Чьяты, Аграфенушка?.." – «Не знаю, маменька» – «И лучше тебе не знать!»
– Неужели ты в самом деле веришь, что есть какой-то бес и может войти в человека?
– Что ж я, с ума, что ль, сошла? Покойница матушка и сама-то измучилась от него…Это я уж потом от тетки узнала: "Ходил, говорит, он к ней, к твоей матери, каждую ночь, целую зиму… И слышно, говорит, за перегородкой разговор идет шопотом… Подкрадемся, – говорят; вскочим с фонарем, – а там никого нет, только мать бьется как в лихорадке. Измаялась, иссохла, как щепка, отвезли потом к Тихону Задонскому – ну, они вышел! Вот и со мной тоже… И мать-то всегда боялась, что и меня ониссушит. А ты говоришь, люди плохи!.. Кроме добра мне ничего никто не делал, я и беситься-то начинаю, когда мне жить станет покойней! Вот зиму нонешнюю купцы Собакины как меня ублажали, а что ж? Переругала всех, расплевалась со всеми и ушла! вот и бегу! Ох, друг ты мой, не учи! – знаю! Онменя с самого младенческого возраста стал соблазнять-то! Я еще была девчонкой, в игрушки играла, а уж он вокруг меня шмыгал!..
– Ну, какой же он? Есть у него какое-нибудь обличье? На кого он похож?
– Да ни на кого не похож. То будто и совсем его нет, а так, невзначай, обхватит, – на улице ли, на речке ли, – обхватит, расцелует. "Красавица ты! Миллионщица будешь!" Умчит в лавку, игрушек, гостинцев целый подол насыплет и сгинет! Играю в анбаре, лакомлюсь, а он округ ушей все мне шепчет, в сердце впивается, голову мутит гордостию. Маменька спросит: "Откуда гостинцы, кто дал?" – "Не знаю!" – "Видела ты его?" – "Нет, не видала!" Вот матушка и стала пугаться. "Крестись, крестись, Аграфенушка, как этак-то соблазнять тебя будет!"
– И еще было?..
– Всю жизнь он меня ест – поедом! Купить меня даже у матери хотел! Сначала объявился барыней… Играем мы, девчонки, на улице, идет барыня, а с ней другая… Остановились, расспрашивают, разговаривают… Онмне каждое слово подсказывает; говорю, сама не знаю, откуда у меня что берется? «Ах, если бы взять ее от матери!» Тут я испугалась, закричала, они и сгинули! Тут уж их, должно быть, несколько было!
– Да может быть это в самом деле была барыня? Бывают бездетные, берут чужих детей?
– Барыня? Вот какая она была барыня! Прибежала я в избу с улицы-то, – а маменька-то моя едва жива. "Опять, говорит, хотели тебя отнять от меня… Приходил, говорит, бородатый какой-то, говорит: "Деньги, говорит, дадим, на всю жизнь хватит, – только отрекись от дочери на веки веков!" Маменька как услыхала это, да крестом его, да закричала: "отойди от меня, сатана!" Он захохотал, как дьявол, и сгинул, а маменька рассудка лишилась. Вот после этого-то, когда уж он вьявь объявился, тут уж я и сама стала пугаться. Стала опять всякую работу исполнять, измаешься, будто полегчает. А потом опять! И все он меня на гордость разжигал – а как разъел мое сердце, так и на грех стал наводить!.. Как мы жили? бедно, ровно нищие, только-только кормились, и я с шести лет уже за матерью на речку белье носила, помогала ей, из чего мне гордиться? А у меня, поди-кось, что было в башке-то, – то было, и сказать не расскажешь! Бывало, сяду за стол, играю будто на фортепьяне, будто я барышня, перебираю пальцами так-то по столу, и что ж? ведь будто слышу: вот чистая музыка, чистая вот-вот по комнате раздается! Мать глядит, глядит на меня, – да зальется слезами. А сны какие видела? проснусь, бывало, да и спрашиваю матушку: "Где, мол, мои золотые башмачки? А что я в хоромах танцевала? Ах, маменька, какие там красавицы были! но я всех лучше себя оказала!" После таких снов, бывало, без слез ни за что дело не обходилось. Опомнюсь, увижу, что это сон, – реву, реву, – и мать тоже ревет, ревет, потом браниться начнет, замахиваться, а потом и совсем бить начинала, потому с каждым годом онвсе дальше да больше!
– Как стала я приходить в возраст, тут он, говорила я тебе, стал и на грех меня наводить. Просверлил мне сердце-то гордостью, да и стал любоваться, как я на грех-то стала легка! Первый раз, помню, с дочерью головы случилось… Добрые были люди, часто нам помогали, дай бог им здоровья! Пришла она к матушке, принесла чаю, сахарку. Девочка ровесница мне была… Пришла она, а во мне эта почесть-то и заговорила… "Как ты позволяешь, чтобы этакая тетеря чванилась над тобой? разве можно тебя с ней, с толстомясой, уравнять?" И завертело! Такие стала я ответы ей давать, такие ответы, прямо насмехаться стала! Она мне говорит: "Как ты, дура, себе это позволяешь?" – "Как дура?" Слово за слово, цап ее по щеке!.. И сама не помню! Изуродовала меня матушка в то время, ах как изуродовала! Пришла я в чувство, думаю, господи, что я сделала! – добрый человек принес чаю, сахару, а я как с ним поступила? Сама, глядючи на мать, что она измучилась от моего поступка, – реву, реву, бьюсь, бьюсь, молюсь, молюсь, а онвсе шепчет, только уж со злом шепчет… Чую, что рад, – в грех ввел! Вот так с этого и пошло! Раззадорит на худое дело, а потом и оплюет! И никаких сил нет! Упаду, измучаюсь, ничего не помню… Видишь, голубчик! не люди! Люди нам всегда добра желали, а это он!
Нервная дрожь и видимый испуг и ужас охватил и потряс богомолку, когда она в каком-то исступлении воскликнула:
– За что я мужа погубила?.. Какой человек! Изойдя весь свет, нашел ли бы ты такую добрую, ангельскую душу? А ведь я его забила в гроб, заклевала его, насмерть заклевала!
– Как же так?
– Как! – говорила тебе, чем он сердце-то мое разъел?
– А издевался-то?
– Сто раз улестит! Опять сто раз раззадорит! Стала я невеста, опять разъел мне душу! Все мне так-то представлялось, что со мною непременно что-нибудь должно случиться, не в пример против других. Хожу в отрепках, в опорках, а в мечтах – лучше я всех! Вот словно говорит он: "Наплюй на всех!" – И что же? Что ж ты думаешь? И сбывалось! Хоть бы вот как я замуж вышла. Слушаешь – как та, да другая вышла за богача, да за такого, за сякого, а он говорит: "Ты их превзойдешь". Глядишь, слух новый пошел – молодые, мол, худо живут, и деньги есть, и все есть, а драться, мол, ругаться стали… "Ты, говорит, превзойдешь!" – И что ж? Ведь превзошла! Как ты думаешь, за меня, за нищую, босоногую, растрепу, стал, матушки мои голубушки, наипервейшего богача сын свататься. (В лавке у него на два двугривенных печенки купила.) Что ни делали родители-то, ругали, били, колотили, родня – так на весь город его срамила – "нет!" А уж меня-то в ту пору костили, боже милостивый! А я все будто знать никого не хочу. Глас дает знать: "будешь за ним!" Кончилось так, что пришел отец к нам в конуру. "Где, говорит, твоя дочка-шкуренка, выводи ее!" Я вышла. "Что ты, говорит, шкуренка, с моим сыном сделала?" Стала я давать ответы. Слушал, слушал старик: "Ах ты, говорит, бесовка проклятая! Напрохвостилась ты в трущобе-то, честному человеку с тобой не сговорить! Змеиный твой язык! Заела ты моего сына змеиным языком, и меня заедаешь!" А нечто это мой был ум? Это все он!" "Заела, заела меня, змея!" – кричал отец на меня, однако дал согласие! Тут уж я ходила, земли под собой не слыхала! сколько тогда за моего-то жениха девиц норовило выйти, – все на меня зубы скалили: "Муж-то твой ангел, а ты-то дьявол!" И вправду, человек был тихий, благородный, кроткий, непьющий, ангельская душа, одно слово. Ног я под собой не слышала в ту пору… Кажется, чего бы еще?.. А он, что со мной под венцом-то сделал? "Из корысти, говорил, продалась!.. Оплела дурака, – где твоя совесть? У меня в когтях!.. Поклянись-то теперь в любви, поцелуйся, да взгляни в его харю!.." Стою я под венцом, вся как лист трясусь; стали целоваться, – глянула я на мужа на молодова, – и такая меня сразу взяла отчаянность! Господи!.. Показался он мне вдруг некрасивый, нос толстый, глаза белые, – представился он мне вроде как совсем глупый. "Боже мой, боже мой! И на что польстилась!" А он шепчет: "Велико счастье за лабазником! Оставила бы его толстомясым купеческим дурам, пусть бы они владели… Не тебе в мясной лавке сидеть и, вместо муженька-то, сдавать сдачу копейками!" Заголосило у меня в сердце, господи боже! Поцеловаться пришлось под конец венца, так насилу, насилу смогла! На всех навела смуть, тоску! Пир не в пир вышел, и закону я с супругом в то время не приняла. Тут сраму-то! Муж-то ходит, голову схвативши, плачет (добрый был, чисто ангел кроткий!), а мне он все хуже да хуже… Он зарыдает, – а мне того противнее, – "за какого слюнявого пошла!" Все злей да злей! Ей-богу правда! Уж вся родня собралась, – наступили на меня… а от этого он мне еще стал гаже. По городу-то смех над ним. Сидит, сидит в лавке, придет, весь пахнет, обнимется с женой… Я ему: "Что ты, с ума сошел?.." Огорчу его. Родитель его придет, говорит: "Целуй его!" А бес: "За что его свиное рыло целовать? Погляди какая харя". Погляжу, – так и есть! А бес-то: "Погляди, говорит, куда ты попала? Нешто это люди?" Погляжу, господи! Уроды-то! Боже милостивый, что это? И не понимаю, что говорят, и что им надо, и кто они такие? Злюсь, мечусь как угорелая. Муж-то, бывало, целую ночь рыдает, – а я больше, да больше! Что ни скажет – все мне кажется, что он хочет меня совратить, уйду с кровати, стану одеваться, бежать! А куда бы мне бежать от этакого упокою? Всего было много, полная чаша, жить бы да жить. Нет, вывертывает меня оттуда сила бесовская! В два годика таким манером забила муженька, заклевала его, – чах, чах, – зачах, помер! Тут я опамятовалась было на минуту… Я всегда опамятываюсь и робею, когда меня совсем пришибет, что ни двинуться, ни с места встать!
– Хоть бы вот и теперь… Хорошо, что я ног под собой не слышу, устала, ну я с тобой будто и толком говорю… А дай-ко мне хозяин отдышать, накорми, напои меня, сейчас я стану мечтать; станет мне показываться, придет мне в голову то, что никто не видит, не примечает, примусь я злиться, и за ваши же благодеяния – пойдете вы от меня все в дураках, да в шутах… А за что? Вы мне добро делаете, а я вам зло? Что это? Бес! Уйти мне скорей, господь с вами!
Старушка действительно скоро собралась, молча выпила воды в сенях постоялого двора, молча поклонилась и поспешно ушла.
-
Долго смотрел я ей вслед, а потом долго искал ее на богомолье и почему-то спешил пробраться в толпе туда, откуда слышались истерические вопли "кликуш" ("к угоднику" много привезли порченых женщин), но не нашел и не встретился с ней. Побуждало меня к этой встрече настойчивое желание понять сущность этого беса, не слушать ее, а расспросить и дознаться понятных причин ее мучений. Нелепица бесовского влияния и все признаки чрезвычайной впечатлительности, не только ко всякой несправедливости, но и ко всему, что некрасиво, грубо, оскорбительно в чувстве изящного, все это требовало разгадки загадочной жизни богомолки. Умное лицо, умные глаза затмевали нелепицу ее рассказа; и всякий раз, когда мне вспоминалось это лицо и эти глаза (а это бывало очень нередко), богомолка и ее мучения выяснились мне как погибель умного, впечатлительного человека в темном царстве, не видевшего света, изувеченного путаницей диких понятий. "Что бы было с этой порченой старушкой, если бы в ребяческом возрасте бес действительно ее купил и из подвала перенес ее в хоромы? надел бы настоящие золотые башмачки, то есть дал бы ее уму и впечатлительности широкий простор восприятия впечатлений?"
Шло время, и образ "порченой" совершенно был позабыт, а богомолка вспоминалась как жертва суеверной и невежественной среды.
III
Вот в этом-то смысле, спустя долгое время после встречи с нею, я и «росписал» ее однажды в одном обществе, где, между прочим, зашел разговор о темноте русского простого народа, о том, что без посторонней помощи, и именно без помощи людей знающих, искренно преданных народному делу, тьма эта никогда не рассеется. Хороший, преданный делу сельский учитель, дельная книга – вот спасение против обуревающей наш народ тьмы. Слово «тьма» – воскресило во мне впечатления встречи с богомолкой, и когда я ее «росписал» должным образом, многие из собеседников крепко призадумались. В числе их был один земский гласный, сам вышедший из крестьянского сословия, и теперь очень и очень известный человек, пожилой, добродушный и наблюдательный.
– Да, – сказал он, – это положительно верно!.. Если б не одна совершенно нелепая и невероятная случайность, я бы не вылез из лаптей и, может быть, валялся бы теперь пьяный у кабака! Ни книг, ни школ, ни учителей, ничего этого в наши времена и в помине не было!.. Спасло меня…
Он добродушно улыбнулся, развел руками и, недоумевая, произнес:
– Спасло меня только одно, случайное мгновенье…удивительная неожиданность!
– Что ж такое? Расскажите, Иван Петрович.
Иван Петрович рассказал действительно нечто необыкновенное. Никакой связи с рассказом о богомолке оно не имело, но о тайнах тьмы, поглощающих массу талантливых людей (а в числе их я почитаю и богомолку), рассказ Ивана Петровича заслуживает внимания.
– Я ведь был мужик, простой, настоящий мужик, которому предстояла самая обыкновеннейшая мужицкая лямка. И каюсь, лично я, вплоть до той минуты, о которой хочу рассказать, решительно не могу сказать о себе ни единого слова в похвальбу, в голове моей не возникало до этой минуты никаких "вопросов", не происходило никакой работы, вся она начинена была детскими сказками, страхами, детскими играми, ребячьими, начинавшими переходить в мужичьи, заботами и больше ничего. Скажу больше: я так был туп, что мне надо было пять раз повторить фразу, прежде нежели бы я раскусил ее, да и тут обыкновенно я не всю ее раскусывал, а всегда оставалось что-нибудь, по лености головы, не осмысленное, за что, конечно, следовал подзатыльник. Тринадцати лет я уж стал подумывать о том, как я женюсь и буду с женой лежать на печке. Как вдруг совершилось почти до того смешное и удивительное, что я не только забыл о печке думать, но вот, как видите, вместо неплательщика превратился в земского гласного. Вот что случилось.
"Как теперь помню этот удивительный день. Я лежал на печке и смотрел на интереснейшую сцену, происходившую в горнице. ю в ней шло угощение после крестин новорожденной маленькой сестренки. Отец, фельдшер-кум и кума, и несколько знакомых мужиков заседали за столом, убранном по-праздничному, угощались водками разных цветов, в бутылках с раскрашенными ярлыками; я думал о том, что когда выпьют водку, я утащу самую красивую из бутылок и спрячу. Отец суетился и потчевал гостей, вытаскивая с загнетки разные яства. В числе этих яств была небольшая чашка, в ней лежала жареная щука, залитая яйцами и запеченная вместе с ними.
"– Пожалуйте! – говорил отец, поднося ее фельдшеру-куму. – Откушайте!
"– Сам-то ты что же не ешь?
"– Нам этого нельзя, – говорил отец, – у нас вон пирог есть постный, а это мы уж собственно только для вас скоромненького-то припасли!
"Очень аппетитно смотрела щука, и я бы охотно отведал ее, если бы день был не постный (была пятница – отлично помню), и я с завистью смотрел на фельдшера, который, нарушив "закон", принялся уплетать это кушанье за обедом. И вдруг, в эту-то минуту, во мне навсегда кончился серый русский мужик. Вдруг, моментально и совершенно определенно, без моего ведома, пронесся в моей голове такой вопрос:
"Да почему же эта щука стала от яиц скоромной, а яйца не сделались постными?"
"Я даже сам был как бы ошеломлен этой мыслью, так неожиданно пронеслась она в моей башке! И тотчас же голова принялась за работу и пошла молоть, как жернов:
"Грех, грех, есть скоромное в постные дни, говорит все: отец, мать, батюшка, но вот оказывается, что неизвестно еще, не постные ли яйца-то иной раз бывают? За что ж тогда каяться на духу в том, что оскоромился? Да и что это такое за постное и за скоромное? Сколько грехов прекращается само собою, если окажется, что яйца могли стать постными, как щука могла сделаться скоромной? Знает ли об этом кто-нибудь? Может, и других грехов тоже будет меньше, если разобрать?"
"И так далее до бесконечности. Словом, с этого дня, чего прежде не бывало, я стал думать обо всем как беспощадный критик. Щука разорвала висевшую передо мной завесу невежества, и "дух отрицания и сомнения" вселился в меня как бес!
"А уж раз он вселился, с ним не совладаешь. Покоряясь ему сначала в вопросе о степени скоромности щуки, – я обращался за разрешением задачи сначала (в тот же вечер) к отцу, которого немало удивил своим вопросом, но который сказал мне: "Почем я знаю… это поп знает". Пошел к попу, который, засмеявшись, ответил, что мне дано два уха и один язык для того, чтобы я более слушал, а менее болтал, что скоромное всегда будет скоромным, а постное постным. Но эти ответы уж меня не удовлетворили. Я ясно видел своими глазами постное, превращающееся в скоромное, и уж не верил. Нет, думал я, тут надо разобрать! Стал смотреть, слушать, приглядываться, нет ли где в чем-нибудь еще подвоха вроде щуки, – и скоро в самом деле заметил повсюду такую массу оскоромленных щук, что уже не мог не думать, не мог заставить ум молчать… Так и пошло… Как я выбился из мужицких лаптей, – это вопрос другой… Я знаю только одно, что всему этому виною – "скоромная щука"!"
-
И опять я вспомнил мученицу-богомолку; не узнай Иван Петрович омраченной тьмою ее жизни, не вспомнилась бы ему и минута его просияния.






