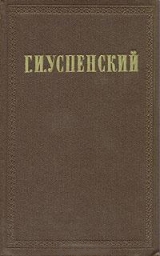
Текст книги "Очерки и рассказы (1882 - 1883)"
Автор книги: Глеб Успенский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Очерки и рассказы
НЕ СЛУЧИСЬ
Рассказ
Недавно в газетах был напечатан небольшой, но в высшей степени замечательный уголовный процесс. Слушался он в вологодском окружном суде и состоит в следующем. Более двух лет тому назад, именно около Петрова дня 1880 года, железнодорожный сторож нашел в реке Шаграш, около моста Ярославско-Вологодской линии, джутовый мешок, в котором, по вскрытии, оказался труп убитого человека, разложившийся до такой степени, что только по одежде можно было догадаться, что убитый – мужчина. Открытие этого трупа напомнило (не знаем, властям или обществу) о загадочном исчезновении несколько месяцев тому назад одного из посетителей гостиницы «Вологда», пользующейся весьма сомнительной репутацией. Началось следствие, которое через несколько времени открыло виновного. Убийцей оказался коридорный или половой гостиницы «Вологда», крестьянин Иван Васильев Горюнов, и вот какое поразительное и потрясающее показание дал этот Иван Горюнов на суде:
"Года за два раньше, как я убил Крамского (фамилия убитого), к нам в гостиницу "Вологда" приезжал какой-то господин, повидимому купец. Жил он у нас в гостинице дня четыре и больно сильно кутил, пьянствовал. Когда этот господин уезжал, он подарил мне золотые часы с цепочкой и сказал: "Спасибо тебе, что ты сберег меня, – всё в целости; у меня, говорит, было девяносто три тысячи рублей". Потом гость этот попросил проводить его на вокзал; я проводил, и тут он еще дал мне двадцать пять рублей и еще три рубля. Пришел я домой и показал буфетчику и хозяину часы, что мне подарил гость. Хозяин спросил: "За что ж он подарил?" – "За то, мол, что у него девяносто три тысячи с собой было, и все остались в целости". – "Эх ты, – говорит хозяин, – не умеешь деньги наживать! Так будешь делать – и помрешь бедняком…" Потом хозяин говорит, чтоб я заманивал гостей, обещая им продавать какие-то банковые билеты с большой уступкой… Зимой 1880 года к нам в номера приехал какой-то господин с девушкой… Выпивали они тут. На другой день, часов в девять, девушка ушла, а господин остались одни. Стали рассчитываться и дали мне сторублевую бумажку. Ну, я пошел в буфет, увидал там хозяина и говорю: "Господин, должно быть, богатый – всё сторублевки". Хозяин сказал: "Погоди-ка носить сдачу, я взгляну сначала, что за господин такой". Вернулся он и говорит: "Это человек мне знакомый, денежный человек". – "Как же тут быть?" спрашиваю. "Сам, говорит, знаешь – не малолеток… Река все унесет". – "Страшно, говорю, как-то…" – "А ты выпей стакана два водки – страх-то как рукой снимет… А чтоб свидетелей лишних не было, мальчишку-то в полицию пошли за паспортной книгой…" Сказал это, а сам ушел в другую свою гостиницу, "Россию", через дорогу. Выпил я водки, послал подручного Николая в полицию и понес сдачу в третий номер. Господин лежал на постели, опершись на локотки, и выпивали… Стол около кровати стоял с бутылками… Тут же лежал молоток, который я принес накануне, чтобы вбить задвижку, как господин приказали… Я взял молоток и ударил господина по голове раз и два… Как ударил – спереди или сзади – хорошенько не помню. Вытащил деньги из кармана брюк и, не считая, сунул их себе в карман. Вытащил покойника в четвертый номер, а сам стал прибирать в третьем. Окровавленную простыню и наволочку засунул в печь и сжег. Обои около кровати оборвал, пол подтер, а пятна на матрасе и подушке слегка замыл водой. Потом вернулся к покойнику, перетащил его через пятый номер в чуланчик, который был рядом, и спрятал его в рундук под лестницей, отодрав для этого плинтус. В это время, слышу, вернулся Николай. Я пошел к нему навстречу и велел прибрать в номере третьем. Он после спрашивал: "Что это вода в тазу кровавая и на полу кровь?" – "Это, говорю, гость не расплатился с девицей, она ему и раскровянила морду", – "Как же, говорит, он ушел в таком виде?" – "Умылся, говорю, да и ушел…" Ну, он и поверил. Часа через два после убийства пришел хозяин. Я ему и подал все деньги, не считая. "Мало, говорю, денег-то". – "Врешь, говорит, не может быть столько, ты утаил". Я побожился. Он взял все деньги, а мне дал немного мелочи… На другой день начались розыски покойника. В гостиницу приезжала его родственница с знакомым, ходила полиция… Мы ответили, что гость расплатился и уехал неизвестно куда. Так как околоточный пьет у нас завсегда водку и все такое,то номера осматривать он постыдился.Тут меня взял страх, тоска напала… Я все ходил в рундук, смотрел, лежит ли там покойник, иногда сидел там и плакал… Хотел идти дать знать полиции; сказал об этом хозяину, а он говорит: «Дурак и будешь – ни за грош пропадешь. Меня все равно не оговоришь – не поверят; я и в гостинице-то в это время не был». Ну я и не пошел. После рождества отпросился я у хозяина домой в деревню, взял у него денег и уехал, захватив шубу покойника, которую раньше спрятал… И в деревне тосковал, но родным об этом ничего не говорил. Приехал опять в город к хозяину. Перед пасхой сукровица проникла через потолок, пошел по номерам скверный дух. Меня все пуще стала тоска забирать, и я все чаще стал ходить к покойнику, смотреть на него. Потом перетащил его из рундука в другой угол чуланчика и положил под рамы. Дух все сильней по номерам расходится… Гости стали жаловаться. Я все собирался вывезти, да все случая не было, а хозяин не помогает и тоже говорит: «Убери!» В конце июня я положил покойника в мешок, завязал веревкой, пошел, взял извозчика и ночью поехал окольною дорогой за город на реку Шаграш. Бросил там мешок и возвратился… Потом вскорости слышу, что нашли покойника. Полиция пришла и взяла с меня расписку о невыезде… Я сказал хозяину. Он говорит: «Ты поди в полицию и скажи, что у тебя просрочен паспорт, чтоб они отпустили тебя». Полиция не отпустила. Тогда я сам ушел домой… Но тут меня арестовали и представили в стан. Я и открылся, что я убил…"
Вот показание главного действующего лица, которое мы привели от слова до слова.
Здесь все в высшей степени любопытно и поучительно; Поучительно то, что хозяин, который, как видно из показания, был душой всей этой операции, признан виновным не "в подстрекательстве с корыстною целью", а только "в знании и укрывательстве". Любопытна и поучительна фигура и этого блюстителя порядка – околоточного, который, помня трактирную хлеб-соль и "все такое", стыдитсяосматривать нумера, где совершено это убийство – убийство, которое он несомненно чуял и, может быть, даже знал о нем наверное, так как это знание или догадка – только одно и могло заставить его «постыдиться»,смотреть сквозь пальцы, помня хлеб-соль «и все такое».В то же время, принимая во внимание так называемые «нонешние времена», невольно представляешь себе, как много развелось теперь таких блюстителей, которые, выпивая в гостинице, где над головой выпивающих «и все такое» полгода лежит и гниет убитый человек, которого они «стыдятся» разыскать, наверное не упускают случая высматривать «неблагонадежных личностей» и, заприметив таковых (а приметы в этом отношении годятся всякие, какие только взбредут в голову), не только не постыдятся, а прямо без разговоров «сгребут» и заточат… Ведь вот «сгреб» же один блюститель мирного сельского жителя за роман Шпильгагена – сгреб и засадил, не зная и не имея понятия о том, что значат слова: «роман», «Шпильгаген», «Вперед». Сгреб же другой такой-то блюститель сельского учителя, который сидел на вокзале в провинции, ожидая поезда, и читал брошюру «О дезинфекции» сочинения Нечаева. Что такое «дезинфекция» – это блюстителю знать не полагается. Тот лиэто Нечаев или другой – тоже можно и не знать. Но мелькнуло ему в голову слово «Нечаев» и – «сгреб»! Везде теперь только и слышишь: «сгреб» да «сгреб», или «чуть не сгреб», или «да и сгреб бы, а то что же?.. И ей-богу бы сгреб»… И все эти сгребанья всегда почти оказываются вполне нелепыми и неосновательными; но нелепости и отсутствие всяких оснований не запрещают «сгребать» и не заставляют стыдиться несправедливой жестокости и безобразия, а осмотреть нумера, в которых пропал и убит человек, – «стыдно», потому хлеб-соль и «все такое»…
Но всего замечательнее в этом процессе – это, разумеется, личность самого убийцы – несчастнейшего Ивана Горюнова. Воистину недаром судьба наделила его таким именем и фамилией. "Господин" "приказал" прибить в номере задвижку. Иван Горюнов взял молоток и исполнил приказание, а утром через несколько часов исполнил этим же молотком другое почти приказание хозяина – убил этого самого господина. За час, за несколько мгновений до убийства, у него и мысли не было об убийстве; сторублевая бумажка ставит его в недоумение: "как же теперь быть?" Ему говорят – как, и он делается убийцей, он бьет молотком господина по голове с таким же точно покорным настроением "слуги", как бы подавал на стол порцию селянки или прибивал задвижку. "Как же тут быть?" – говорит он, и вы видите, что если б ему было сказано, как быть: "возьми да отдай сдачу", – так он бы и не был убийцей и отдал бы сдачу. Зачем он убивает – неизвестно. Деньги он отдал хозяину, а сам получил немного мелочи. Ему когда-то сказали: "Дурак будешь" – и он думал, что не дурак ли он в самом деле. Сам он не знает доподлинно, глупо или умно грабить и убивать, и потому спрашивает у "хозяина": "Как же теперь быть?" Он, сам лично,действительно не имеет понятия о том, что умно, что глупо, кто дурак, кто умен, что хорошо, что дурно. Выслушав его рассказ о том, как барин подарил ему золотые часы и двадцать восемь рублей денег, хозяин говорит ему: «Дурак будешь, если так станешь жить – так помрешь бедняком». И он думает, что он дурак, – думает так, как ему сказано; так, как побуждает думать его и поступать постороннее влияние, чужое приказание, чужая воля: «прибей задвижку» – прибил, «убей барина» – убил, и одним и тем же молотком, без малейшей тени собственной своей мысли и собственной своей воли. Ведь если б он «сам» мог думать, понимать и соображать, то есть если б он сам имел какой-нибудь взгляд на человеческие отношения, так ведь случай с барином, который щедро наградил его, должен бы был убедить его как раз в противном тому, что говорил хозяин: за честность и добросовестность он на деле,на факте самом реальном, самом ощутительном оказался не только не в дураках, но прямо в умниках. За то, что он не ограбил, не украл, а берег и смотрел, чтобы не обокрали барина, он получил сравнительно огромное вознаграждение – золотые часы и двадцать восемь рублей денег. Кажется, если бы человек мог и имел бы привычку самостоятельно думать о чем-нибудь, этого случая было бы для него весьма достаточно, чтоб убедиться, что хорошие и добросовестные поступки не пропадают бесследно: результат налицо – золотые часы и деньги… Но он не умеет думать сам и потому убивает бескорыстно, без всякой выгоды, отдав деньги хозяину, а сам получает немного «мелочи»…
Вот эти-то черты нравственности Ивана Горюнова и потрясают вас самым угнетающим образом. Как бы внимательно ни всматривались вы в душу этого человека, вы не можете ответить мало-мальски утвердительно ни на один из вопросов, которые должны возникнуть при этом в вашем сознании. Жаден ли он? – Нет: деньги отдал хозяину… – Жесток? – Ничуть: он убил не подумавши, не задумываясь, а так, как прибил задвижку, и потом сам же плачет и терзается над трупом втихомолку по ночам… – Скрытен, хитер и злобен? – Опять нет: ведь он "побожился", что не утаил денег, а все сполна отдал хозяину; он – не обманщик… Добровольно, когда мало-мальски проясняется ум, он хочет идти в полицию – объявить, но ему опять говорят: "дурак будешь" – и он не идет. Послушание его примерное. Его награждают за честность; но ему говорят, что бесчестно поступать лучше, – и он верит вопреки фактам, доказывающим противное. Ему говорят: "прибей задвижку" – прибил; "убей" – убил. Затем полгода труп лежит в чулане, лежит до тех пор, пока хозяин не сказал: "Убери!" – и Иван убрал. Словом, Иван Горюнов весь чужой, человек постороннего влияния, чужого приказания, даже чужого желания. Своегопо части убеждений и нравственности у него ничего нет – хоть шаром покати. Это совершенно пустой сосуд, который может быть наполнен чем угодно. Не попади он в такой темный притон, можете ли вы сказать, что он сделал бы что-нибудь подобное тому, что его принудили сделать? Был ли бы он убийцей, если бы «попал» вместо трактира в столяры, в сапожники, в кучера к хорошему барину, в лавочники, в хлебопеки?.. Наконец, если бы попал даже опять-таки в трактир же, только не в такой вертеп, как «Вологда», а такой, где все честно и благородно?.. Ни на один из этих вопросов вы не можете отвечать утвердительно, потому что пред вами человек, внутренний мир которого, как траву, как тонкую ветку, колеблют внешние дуновения, дыхание чуждых ему, со стороны идущих, влияний, – человек, который покоряется всему, на что его «бог нанесет», – всему, что волею судеб «набежит» на него…
А ведь таких Иванов Горюновых уже в настоящее время можно считать на Руси сотнями тысяч, а в будущем, если только народная жизнь будет так же, как и до сих пор, оставаться в условиях царствующей и в ней и вне ее неурядицы, – Иванов Горюновых будет тьма, тьмы тем, тьмы тем пролетариата, выброшенного расстройством деревенского быта и духа, готового подчиниться в чуждой ему среде всевозможным влияниям с наивностью ребенка, не имеющего возможности знать и понимать, что в этих влияниях зло, что добро, – словом, пролетариата, который с наивностью ребенка может одним и тем же молотком и одной и тою же рукой прибить задвижку по приказанию "гостя" и разбить тому же гостю голову по чьему-нибудь другому указанию и наставлению.
Отчего же это происходит?
Вероятно не раз, а миллионы и миллионы раз тот же вопрос, только примененный к самому себе и к своей ужасной истории, задавал и задает Иван Горюнов, задавали и задают сотни других Иванов Горюновых. Сидя в слезах и тоске за железною решеткой тюрьмы или на пароходе-клетке, перевозящей арестантов и осужденных в сибирские тюрьмы и рудники, Иван Горюнов и ему подобные мучительно ломают уже погибшие головы свои над этими вопросами: как, и зачем, и отчего? – и, ничего не понимая, но только ужасаясь и недоумевая, невольно переносятся мыслью в родную деревню и инстинктивно ищут здесь, в ней, в условиях ее современной жизни – корни и основание всему, что случилось потом. Оплакав утраченное спокойствие и целомудренность деревенской жизни, оплакав утраченную возможность жить как люди, работать, играть свадьбу, пить вино на праздниках и т. д. и дорываясь до корня своего огромного горя, своих огромных утрат, вековечных, на всю жизнь, – всякий такой Иван Горюнов непременно найдет в самой глубине, на самом дне своих бед, какую-нибудь деревенскую "случайность", благодаря которой человек должен был оторваться от дома, от деревни и идти в неведомый мир, плыть без кормила и весла… Непременно в корне корней окажется какое-нибудь на наш взгляд ничтожное обстоятельство, от которого и вышло потом все, вплоть до конца, до Сибири и каторги. "Не случись" того-то или того-то в деревне, в хозяйстве – и не надо было бы уходить оттуда и отдавать себя на волю непонятных влияний, непонятных условий жизни. Не случись, что умер отец или брат, не случись, что пала лошадь, не случись, что старшая сестра сломала ногу и пролежала год больная, не случись падежа, неурожая, засухи – и не было бы тысячи случайностей, которые потом захватили человека и стали им вертеть по-своему, как имугодно.
Этих случайностей, иногда ничтожных, как пылинка, никогда не тяготело над крестьянскою жизнью так много, как теперь. Земледельческий труд, весь, сполна находящийся во власти велений природы, сам по себе уже таит в этих велениях и прихотях природы неисчерпаемый источник случайностей. В успехе или неуспехе этого труда – следовательно, в благосостоянии и нравственном равновесии или в разорении и нравственном падении крестьян играют важную роль не только такие пособники труда, как животные, скот, не только своя личная сила, свое здоровье и т. д., но даже самые ничтожнейшие атмосферные явления – направление и сила ветра (обил хлеб и т. п.), сила и время дождя, засухи и т. д. и т. д. без конца. Все это может осчастливить, все это может и разорить. Все эти случайности необходимо иметь в виду. А их в настоящее время столько развелось, что вся современная жизнь деревни зависит именно от этих случайностей – и стихийных и всяких других, неизвестно почему скопившихся над деревней как нарочно в такое время, когда она не в силах противопоставить ни "кузьке", ни "мгле", ни "красному петуху" ничего, кроме отчаянного вопля и бесцельного бегства "на сторону".
При крепостном праве (нам не для чего заглядывать дальше для того, чтоб сравнить прошлое народа с настоящим) все эти случайности волей-неволейдолжен был устранить барин, если он не был, что называется, живорезом. Он, в видах своей собственной пользы, должен был кормить в неурожай, давать скот во время падежа, помогать свадьбе, покупать жениха – словом, он должен был всячески экономизировать людьми. Негодных к одному труду он ставил на другой, ни к чему негодных сдавал в солдаты, а беспомощного старика ставил к уткам или так кормил на дворне. Это был скотный двор, организованный из людей, но организованный. Возвращения к нему не может быть, но возвратиться к «организации», перейти от полного невнимания к массам к самому искреннему вниманию – необходимо. Все эти случайности, обставляющие крестьянский труд и, следовательно, играющие огромную роль в благосостоянии масс, в настоящее время почти не составляют предмета серьезного внимания со стороны так называемых командующих классов. Страхование скота, как известно, до сих пор только в проекте, да неизвестно еще, будет ли оно удобно для крестьян; по части организованного кредита тоже в высшей степени плохо; земские подачки в неурожайные годы – предмет для хищнических злоупотреблений и плохое подспорье для большинства крестьян. Да, наконец, времени «даром» ушло так много, что теория хищничества уже вошла в моду и в деревне, и теперь уже нельзя поручиться в том, что даже самое благодетельное мероприятие не будет здесь же, в деревне, повернуто так, что окажет выгоду меньшинству и вред огромному большинству. Отпадение от «хозяйственного», крестьянского, чисто земледельческого ядра, составляющего силу деревни и силу крестьянской массы, все увеличивается; случайности, никем и ничем не отстраняемые, с одной стороны, выбрасывают за борт общинного корабля ослабевших, опустивших руки, идущих искать где лучше, с другой – эти же случайности возвышают незначительное меньшинство, которое, владея лишнею копейкой, пользуется нуждой ослабевших, дешево покупает скот; пашню и другое имущество и богатеет, но в свою очередь также отпадает от крестьянства трудящегося. Одни уходят потому, что нельзя трудиться, другие – потому, что можно и не трудиться, можно отдавать «из прокату» сенной пресс, получать за прокат деньги, сидеть в трактире и играть на гармонии «Стрелочка». Таким образом, от общинного земледельческого ядра, деревни, в одну сторону уходят «по расстройству» Иваны Горюновы и поступают лакеями в трактиры, а в другую – уходят люди вследствие достатка, уходят в те же трактиры, но не в качестве лакеев, а гостей. Эти люди достатка и досуга требуют водки и закуски «и все такое», а Иваны Горюновы подают им и водку и закуску и «услуживают по части всего прочего». Одни учатся – «что приказывать», а другие исполняют приказания: «прибей задвижку» – и прибьет, «убей» – и убьет, и все одним и тем же молотком.
-
Несмотря на имущественную разницу между Иванами Горюновыми, перестающими быть крестьянами, "послугою" по нужде, и другим типом отщепенцев крестьянства, бросающих его и отвыкающих от него вследствие достатка, – в нравственном отношении оба типа не представляют ни малейшей разницы. Оба они, уходя из одного общества в другое, не вносят в него ничего своего,а обречены – по крайней мере на долгие годы – подчиняться тому, что бог нанесет на них или что само на них набежит. Оба эти типа, несмотря на разницу состояний по части материальных благ, одинаково нищие, одинаково безнравственны. Слово «безнравственность» не следует понимать исключительно в дурном смысле, в смысле дурной нравственности – вовсе нет; просим понимать его толькобуквально, то есть только как отсутствие какого-нибудь определенного нравственного содержания, каких-нибудь определенных нравственных принципов… Нам могут многое возразить на это, указать на сектантов и т. д.; но мы, очень хорошо зная, что этою «безнравственностью» не исчерпываются все свойства народной души, тем не менее не имеем намерения доказывать здесь, что эти «другие» стороны известны нам, так же как и возражателям, – не будем делать этого именно потому, что мы берем специально эти безнравственные, а не какие другие черты народной души, хотим указать именно на пустые места этой души – места, которые, помимо естественных причин, держащих народную душу в постоянном колебании по части «убеждений», как будто еще умышленно оставляются пустыми, тщательно ограждаются от всякого вторжения в эту пустоту общечеловеческих интересов, идей общего блага и обязанностей к ближнему и к самому себе. «Не отвечать» за свои поступки как лично, так и по отношению к соседу, к ближнему, народную массу учит – и заставляет даже насильно – ее труд, весь подчиненный прихотям природы. «Не отвечать» приучило народ крепостное право, при котором за всякие безобразия, за все хорошее и дурное отвечал, хотя бы только официально, помещик. Теперь, когда это право миновало, надобно отвечать самим… Но вот этой-то ответственности не только никто не требует от народа, но, напротив, все, что командует им, как бы умышленно стремится отучить его от всякой мысли о том, что, кроме ответственности в исправной уплате податей, есть еще другая ответственность – за этого сироту, который может сделаться вором, за эту старуху, за этого старика, за эту случайно ослабшую семью, которая может разориться и пустить по миру кучу нищих. Ни в школе, ни в церкви, ни в других влияющих сферах мы не видим ни малейших попыток, не слышим ни единого слова, которое обратило бы внимание молодого и старого деревенского люда на массу явлений, за которые по привычке не принято отвечать, но за которые отвечать непременно следует. Один деревенский мальчик сказал мне: «Сколько раз я видал зиму, и нос отмораживал, и ноги знобил, и в снежки играл, а все не думал, что такое зима… А вот как прочитал стишок сочинения Пушкина про ту же зиму и про тот же снег – и стала мне зима любопытна». Вот такого-то слова, которое бы сделало любопытными тысячи явлений, к которым народ пригляделся, которые он видит каждый день, но о которых не думает, как мальчик не думал о зиме, хотя и отмораживал нос и знобил ноги, – и нет у нас. Как были выражением общественных забот в старые времена мирской бык, староста, кабак и холодная, так и теперь – то же. А когда к этим быку, старосте, кабаку и холодной прибавится что-нибудь новое, вроде постоянного фельдшера (из своих и для своих), вроде мирской каморки, в которой могли бы доживать свой век старики бездомные, вроде другой каморки, в которой больной, вывихнувший ногу, или больная, обжегшая солнцем на жниве спину, могли найти койку и помощь и т. д., – когда все это будет, неизвестно. Нигде, повторяем, ни в школе, ни в церкви, мы не слышим ни о зле, ни о добре, ни о добром, ни о худом, ни о безнравственном, ни о нравственном… Конечно, этим мертвым молчанием нельзя убить в человеке душу и совесть, и она так или иначе выразит себя в стремлении к свету и правде; но как бы ни были прекрасны эти, никем не поощряемые проявления благородных стремлений души, нельзя не видеть, что покуда к общинным хозяйским распорядкам не будет прибавленоправа широко и свободно делать все и думать обо всем, что только может расширить размеры народной впечатлительности по отношению к горю и благу ближнего, – до тех пор деревня будет поставлять из своей среды, подчиненной случайностям удачи и неудачи, с каждым годом все большее и большее количество людей с нравственностью Ивана Горюнова – нравственностью, колеблемою, как лист, от малейшего дуновения в ту или другую сторону.
Не знаю, скоро ли интеллигентный человек (то есть человек исключительно интеллигентных целей, а не служащий по найму в интеллигентных должностях) отвоюет для деревни право пещись не о едином хлебе. Это – его обязанность, и другой обязанности нет у русского интеллигентного человека. Конечно, сперва ему необходимо отвоевать это право и для себя… Очевидно, что и то и другое будет не скоро. А покуда мы дождемся этого, позволю себе возвратиться к прерванной речи о значении "случая" в современной народной жизни – "случая", против которого не спасает община, при всех своих хозяйственных совершенствах, и который выбрасывает из "крестьянства" массы беспомощных неудачников на волю божию. Расскажу по этому поводу кое-что из того, что почти сейчас происходило пред моими глазами, но при этом заранее предупреждаю читателей, что рассказанное будет местами производить впечатление неприятное и грубое. Что делать? Действительность куда хуже того, что я расскажу сейчас.
Почти каждый вечер прошлогоднего лета, за рекой, "на той стороне", среди всеобщего мира и тишины, вдруг и неожиданно начинались какие-то крики, брань, ругань и плач… Иногда эти крики, этот плач и шум поднимались среди ночи, когда все покоилось мертвым сном, и будили не только мирных. обывателей деревни, но и нас, жителей противуположного берега, – так они были громки, столько там было женского визга и мужского рева. Не было ни малейшего сомнения в том, что дело не ограничивалось одними криками, а иногда разыгрывалось и в драку, и что драки эти большею частью пьяные. Очень часто, после того как свалки и крик прекращались на той стороне, на нашу сторону переправлялись через речку и шли по нашему берегу какие-то пьяные, ругавшиеся и грозившие кулаками фигуры – фигуры, весьма плохо владевшие ногами, судя по нетвердой походке, и не менее плохо владевшие языком, судя по несвязности речи, иногда переходившей в простое мычанье. Но как ни бессвязно бывало иногда это бормотанье пьяных гуляк, все-таки, слушая его, можно было понять, что и сами пьяные и их пьяные речи имеют какую-то связь с только что затихшей на той стороне свалкой. Не раз смущали меня эти ночные истории и эти толпы пьяных людей по ночам шатавшиеся около моей дачи. Дача была совершенно одинокая, а народу, как говорят, там, в деревне, "много всякого". Поневоле подумаешь о том, что это за люди, которые чуть не каждый вечер производят драку, с криками и со слезами, и потом по ночам шляются с какими-то угрозами около дома… Не раз я спрашивал у крестьян "с той стороны", случайно сталкиваясь с ними, когда они иной раз перебирались на нашу сторону за сеном или за дровами, так как ихние луга и лес были на нашей стороне, но никто из них не дал мне определенного ответа: "Пьянствуют, поди. Ведь ноне воля – свободно стало!" – "Ведь ноне нешто мало безобразиев-то?" – "Нам, батюшка, недосуг за этим глядеть – нам впору с своей работой управиться, а не то чтобы на каких подлецов смотреть. Ноне всякого есть, и хорошего и худого, сколько угодно… Кто такой шумит? – А господь их ведает. Так, должно быть, какие-нибудь пьяницы…" и т. д. А шум и драки на той стороне продолжали повторяться, как и прежде, через день, через два. По праздникам и по воскресным дням они бывали уж непременно.
Заходит однажды ко мне волостной старшина, с которым я познакомился уже давно, просится посидеть – "подождать одного человечка". Человечек должен проходить как раз мимо моей дачи, так вот старшина и сел к окошку, которое выходит на дорогу.
– Что это за драки на той стороне? – спросил я его.
– Как драки?
– Через день, через два уж непременно и шум, и драки, и крик на той стороне.
– О, да, да… Уж давно я думал вывести, искоренить это гнездо, да все недосуг. Проститутки живут – ну, и пьянство…
– А драки-то?
– Да уж одно без другого не ходит… Что и за гулянье без драки…
– Да какие же тут у вас проститутки?
– Очень просто – гулящие…
– Каким же образом завелись они тут?
– Завелись-то они в прежнее время… Началось это, видите ли… стоял полк поблизости. Вот откуда пошло направление это самое… Да и посейчас невдалеке войска стоят и солдаты шляются… Началось-то с войсков – ну, а потом и пошло, и свои пошли баловаться… Ведь ноне народ распустивши, не дай бог… Хлопот-то, ежели бы знали, сколько, не приведи господи! Как есть с этой должностью всего хозяйства решишься. Вот хоть бы сейчас: шлялись к этим проституткам солдаты, а потом и стали в лазарет поступать… Теперича вот предписано мне всех этих шкур представлять каждый вторник к доктору – нарочно земский доктор приезжает. Четверых я уж сегодня представлял – отпустили; а вот пятую – она-то, должно быть, и корень всему – вот и дожидаюсь теперича… Доктор там сердится, а я сиди вот, гляди… А свое дело стоит.
– Так вы эту "пятую" дожидаетесь?
– То-то и есть… Доктор сердится, а где я ее возьму? Она вон на покос ушла – жди ее!
– Так она и на покос ходит и проститутка?
– Да ведь надо жрать-то что-нибудь? Теперь поденно, на хозяйских харчах, бабе тридцать копеек даем в сутки – как же не идтить-то? А гулянкой ведь не проживёшь. Видите, каковы гулянки-то: рубль пропьют да на три целковых ребер поломают… Каждый вечер сами слышите, как плачут гулянки-то… Ведь иной пьяный саврас как разойдется-то, кулачище-то рассучит… Да с этих гулянок и не прожить; нонича хлеб дорогой, а ведь надо каждый день что-нибудь покушать… Водкой-то, пожалуй, напоят да кулаками накормят – с этого сыт не будешь, так как же ей на косовицу-то не идтить? Я думаю, она горячего-то не ест по целым зимам, а тут каждый день как-никак – похлебка…
– Как же это так? Кто же они такие?
– Как сказать?.. Бедность!.. Вот теперича – которую я жду женщину – отца у нее нет, и матери нет, а брат в Питере… Тоже, сказывают, пьянствует – за паспорт деньги не присылает. Хочу вытребовать, уж и бумагу послал… Вот и живет… Как одной-то справиться в расстройстве? Вот и идет в грех… А по нонешнему времени много охотников-то: и солдаты есть и свои, сенники, приказчики – разного народу много… А вот никак и мои красавицы!..
В самом деле по дороге, направляясь к перевозу через речку, шла толпа крестьянских женщин, босиком, с граблями на плечах, в подоткнутых платьишках и в одних повойниках, с голыми, черными от солнечного загара шеями. Старшина взялся за шапку, распрощался и торопливо вышел на дорогу. Из окна я видел, как он помахал бабам рукой, приглашая остановиться, – как вошел в толпу, говорил что-то и как потом одна из женщин, передав грабли соседке, вышла из толпы и отошла с старшиной в сторону… Бабы постояли еще с минуту, столпившись кучей, но потом опять выстроились в шеренгу и пошли своею дорогой к перевозу. Старшина и несчастная проститутка остались одни на дороге и разговаривали. Высокая, сгорбленная, нищенски одетая и уже не совсем молодая на вид баба, потупившись, слушала то, что ей говорил старшина. Раза два она пробовала что-то ответить ему, крестясь и ударяя рукою в грудь, но голоса не было у нее. Видно было, что. она с огромными усилиями старается сделать свою речь звучной, но не выходит ничего кроме хрипоты. Но вот она взялась за фартук, заплакала, подняла фартук к глазам и поплелась вслед за старшиной. Старшина, в новом черном картузике, в опрятненьком пиджачке, надетом сверх красной русской рубахи, выпущенной из-под жилета, и в новеньких блестящих сапогах с бураками, шел, пожимая плечами и разводя руками, впереди, а баба, поминутно утиравшая фартуком то нос, то рот, то глаза, шла за ним. Они шли в волостное правление, которое помещалось в деревне на нашей стороне и куда заезжал по-временам деревенский врач.






