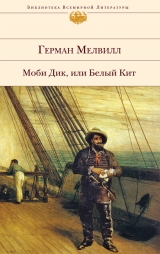
Текст книги "Моби Дик, или Белый Кит"
Автор книги: Герман Мелвилл
Жанр:
Морские приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 57 страниц)
Вся эта загадочная процедура лишь увеличила моё смущение, и видя определённые признаки того, что близится завершение описанных деловых операций и что сейчас он полезет ко мне в кровать, я понял, что наступил момент, сейчас или никогда, покуда ещё не погашен свет, разрушить чары, так долго мною владевшие.
Но несколько секунд, ушедших на размышление о том, как же всё-таки приступить к делу, оказались роковыми. Схватив со стола томагавк, он какое-то время разглядывал его с обуха, а затем сунул на мгновение в пламя свечи, взяв в рот рукоятку, и выпустил целое облако табачного дыма. В следующий миг свеча была погашена, и этот дикий каннибал со своим томагавком в зубах прыгнул ко мне в кровать. Это уж было выше моих сил – я взвыл от ужаса, а он издал негромкий возглас изумления и принялся ощупывать меня.
Заикаясь, я пробормотал что-то, сам не ведая что, откатился от него вплотную к стене и оттуда стал заклинать его, кто бы он ни был такой, чтобы он не двигался и позволил мне встать и снова зажечь свечу. Но его гортанные ответы тут же дали мне понять, что он весьма неудовлетворительно улавливал смысл моих слов.
– Какая чёрт твоя? – произнёс он наконец. – Твоя говорить, а то я убивать, чёрт не знай.
И при этих словах огненный томагавк стал в темноте описывать кривые у меня над головой.
– Хозяин! Бога ради, Питер Гроб! – вопил я. – Хозяин! Караул! Гроб! Ангелы! Спасите!
– Твоя говорить! Твоя сказать, кто такая, а то я убивать, чёрт не знай, – зарычал людоед, устрашающе размахивая томагавком, из которого сыпались на меня огненные искры, так что бельё на мне едва не загорелось. Но в этот самый миг, благодарение господу, в комнату вошёл хозяин со свечой в руке, и я, выскочив из кровати, бросился к нему.
– Ну-ну, можете не бояться, – сказал он, по-прежнему ухмыляясь, – наш Квикег вас не обидит.
– Да перестанете ли вы ухмыляться? – заорал я. – Вы почему не сказали мне, что этот гарпунщик – чёртов каннибал?
– А я думал, вы сами догадаетесь, я ведь говорил вам, что он торгует в городе головами. Да вы напрасно волнуетесь, не бойтесь и ложитесь спокойно спать. Эй, Квикег, послушай, твоя моя понимай, этот человек с тобой будет спать, твоя понимай?
– Моя много-много понимай, – проворчал Квикег, сидя на кровати и часто попыхивая трубкой.
– Твоя сюда полезай, – добавил он, махнув в мою сторону томагавком и откинув край одеяла. И, право же, он проделал это не просто любезно, а я бы сказал даже, очень ласково и по-настоящему гостеприимно. Минуту я стоял и глядел на него. Несмотря на всю татуировку, это был в общем чистый, симпатичный каннибал. И с чего это я так расшумелся, сказал я себе, он такой же человек, как и я, и у него есть столько же оснований бояться меня, как у меня – бояться его. Лучше спать с трезвым каннибалом, чем с пьяным христианином.
– Хозяин, – заявил я, – велите ему запрятать подальше свой томагавк или трубку, уж не знаю, как это у вас называется. Короче говоря, скажите ему, чтобы он перестал курить, и тогда я лягу с ним вместе. Я не люблю, когда в одной кровати со мной кто-нибудь курит. Это опасно. К тому же, я не застрахован.
Просьба моя была пересказана Квикегу, он сразу же её удовлетворил и снова вежливо знаком пригласил меня в кровать, отодвинувшись к самому краю, словно хотел сказать – я и ноги твоей не коснусь.
– Спокойной ночи, хозяин, – сказал я. – Можете идти.
Я забрался в кровать и уснул так крепко, как ещё не спал никогда в жизни.
Глава IV. Лоскутное одеяло
Назавтра, когда я проснулся на рассвете, оказалось, что меня весьма нежно и ласково обнимает рука Квикега. Можно было подумать, что я – его жена. Одеяло наше было сшито из лоскутков – из множества разноцветных квадратиков и треугольничков всевозможных размеров, и его рука, вся покрытая нескончаемым критским лабиринтом узоров, каждый участок которых имел свой, отличный от соседних оттенок, чему причиной послужило, я полагаю, его обыкновение во время рейса часто и неравномерно подставлять руку солнечным лучам, то засучив рукав до плеча, то опустив немного, – так вот, та самая рука теперь казалась просто частью нашего лоскутного одеяла. Она лежала на одеяле, и, право же, узоры и тона все так перемешались, что, проснувшись, только по весу и давлению я мог определить, что это Квикег меня обнимает.
Странные ощущения испытал я. Сейчас попробую описать их. Помню, когда я был ребёнком, со мной однажды произошло нечто подобное – что это было, грёза или реальность, я так никогда и не смог выяснить. А произошло со мною вот что.
Я напроказничал как-то – кажется, попробовал пролезть на крышу по каминной трубе, в подражание маленькому трубочисту, виденному мною за несколько дней до этого, а моя мачеха, которая по всякому поводу постоянно порола меня и отправляла спать без ужина, мачеха вытащила меня из дымохода за ноги и отослала спать, хотя было только два часа пополудни 21 июня, самого длинного дня в нашем полушарии. Это было ужасно. Но ничего нельзя было поделать, и я поднялся по лестнице на третий этаж в свою каморку, разделся по возможности медленнее, чтобы убить время, и с горьким вздохом забрался под одеяло.
Я лежал, в унынии высчитывая, что ещё целых шестнадцать часов должны пройти, прежде чем я смогу восстать из мёртвых. Шестнадцать часов в постели. При одной этой мысли у меня начинала ныть спина. А как светло ещё; солнце сияет за окном, грохот экипажей доносится с улицы, и по всему дому звенят весёлые голоса. Я чувствовал, что с каждой минутой положение моё становится всё невыносимее, и наконец я слез с кровати, оделся, неслышно в чулках спустившись по лестнице, разыскал внизу свою мачеху и, бросившись внезапно к её ногам, стал умолять её в виде особой милости избить меня как следует туфлей за дурное поведение, готовый претерпеть любую кару, лишь бы мне не надо было так непереносимо долго лежать в постели. Но она была лучшей и разумнейшей из мачех, и пришлось мне тащиться обратно в свою каморку. Несколько часов пролежал я там без сна, чувствуя себя значительно хуже, чем когда-либо впоследствии, даже во времена величайших своих несчастий. Потом я, вероятно, всё-таки забылся мучительной кошмарной дремотой; и вот, медленно пробуждаясь, – ещё наполовину погруженный в сон, – я открыл глаза в своей комнате, прежде залитой солнцем, а теперь окутанной проникшей снаружи тьмой. И вдруг всё моё существо пронизала дрожь, я ничего не видел и не слышал, но я почувствовал в своей руке, свисающей поверх одеяла, чью-то бесплотную руку. И некий чудный, непостижимый облик, тихий призрак, которому принадлежала рука, сидел, мерещилось мне, у самой моей постели. Бесконечно долго, казалось целые столетия, лежал я так, застыв в ужаснейшем страхе, не смея отвести руку, а между тем я всё время чувствовал, что стоит мне только чуть шевельнуть ею, и жуткие чары будут разрушены. Наконец это ощущение незаметным образом покинуло меня, но, проснувшись утром, я снова с трепетом вспомнил его, и ещё много дней, недель и месяцев после этого терялся я в мучительных попытках разгадать тайну. Ей-богу, я и по сей день нередко ломаю над ней голову.
Так вот, если отбросить ужас, мои ощущения в момент, когда я почувствовал ту бесплотную руку в своей руке, совершенно совпадали по своей необычности с ощущениями, которые я испытал, проснувшись и обнаружив, что меня обнимает языческая рука Квикега. Но постепенно в трезвой осязаемой реальности утра мне припомнились одно за другим все события минувшей ночи, и тут я понял в каком комическом затруднительном положении я нахожусь. Ибо как ни старался я сдвинуть его руку и разорвать его супружеские объятия, он, не просыпаясь, по-прежнему крепко обнимал меня, словно ничто, кроме самой смерти, не могло разлучить нас с ним. Я попытался разбудить его: «Квикег!», – но он только захрапел мне в ответ. Тогда я повернулся на бок, чувствуя словно хомут на шее, и вдруг меня что-то слегка царапнуло. Откинув одеяло, я увидел, что под боком у дикаря спит его томагавк, точно чёрненький остролицый младенец. Вот так дела, подумал я, лежи тут в чужом доме среди бела дня в постели с каннибалом и томагавком! «Квикег! Ради всего святого, Квикег! Проснись!» Наконец, не переставая извиваться, я непрерывными громогласными протестами по поводу всей неуместности супружеских объятий, в которые он заключил своего соседа по постели, исторг из него какое-то нечленораздельное мычание; и вот он уже снял с меня руку, весь встряхнулся, как ньюфаундлендский пёс после купания, уселся в кровати, словно аршин проглотил, и, протерев глаза, уставился на меня с таким видом, точно не вполне понимал, как я тут очутился, хотя какое-то смутное сознание того, что он уже меня видел, медленно начинало теплиться у него во взгляде. А я тем временем лежал и спокойно разглядывал его, не испытывая более относительно него никаких опасений и намереваясь поэтому как можно лучше рассмотреть столь удивительное создание. Когда же наконец он, видимо, пришёл к определённому выводу о том, что представляет собой его сосед по постели, и как будто бы смирился с существующим положением вещей, он спрыгнул на пол и дал мне жестами и возгласами понять, что готов, если мне так больше нравится, одеваться первым и оставить меня затем в одиночестве, уступив комнату полностью в моё распоряжение. Ну, Квикег, думаю я, при данных обстоятельствах это в высшей степени культурное начало. Да ведь, по правде говоря, как тут ни верти, а дикарям вообще свойственна некоторая врождённая деликатность; удивления достойно, насколько вежливы они по своей природе. Я с такой похвалой отзываюсь о Квикеге просто потому, что он проявил немало учтивости и предупредительности, в то время как я повинен был в грубой бестактности: лёжа в постели, я разглядывал его, внимательно следя за всеми стадиями его туалета – на сей раз любопытство взяло верх над моей благовоспитанностью. Ведь такого человека, как Квикег, не каждый день увидишь – и сам он, и его повадки заслуживают самого внимательного рассмотрения.
К одеванию он приступил сверху, водрузив на макушку свою бобровую шапку – надо сказать, весьма высокую, – а затем, всё ещё без брюк, стал шарить по полу в поисках башмаков. Для чего это делалось, я, клянусь богом, не знаю, но в следующий момент он – в бобровой шапке и с башмаками в руке – очутился под кроватью, где, насколько я мог судить по его прерывистому дыханию и надсадному кряхтенью, он стал старательно натягивать башмаки на ноги, хотя никакими законами благопристойности не предусмотрено, чтобы человек должен был обуваться в уединении. Но, понимаете ли, Квикег был существом в промежуточной стадии – ни гусеница, ни бабочка. Он был цивилизован ровно настолько, чтобы всевозможными невероятными способами выставлять напоказ свою дикость. Образование его ещё не было завершено. Он ещё только учился. Не будь он уже в малой степени цивилизован, он бы, по всей вероятности, вовсе не стал затруднять себя башмаками; с другой стороны, если б он не оставался всё ещё дикарём, ему бы никогда не пришло в голову надевать башмаки под кроватью. Наконец он вылез из-под кровати в шапке, которая вся промялась и сдвинулась на самые глаза, и стал со скрипом, хромая, ходить по комнате, видно он не очень-то привык к обуви, а эта пара башмаков из воловьей кожи, сырых и сморщенных, и сшитых, надо думать, не на заказ, в то немилосердно холодное утро поначалу мучительно жала ему ноги.
Ну а так как занавесей у нас на окне не было и из дома напротив через узенькую улочку отлично видно было всё происходящее в нашей комнате, а Квикег, расхаживающий в одной только шапке и башмаках, представлял собою в высшей степени нелепое зрелище, я стал уговаривать его по возможности понятнее, чтоб он хоть немного ускорил свой туалет, главное же, чтоб он поспешил надеть наконец брюки. Он внял моей просьбе, а затем приступил к умыванию. В тот утренний час всякий христианин на его месте стал бы мыть лицо. Квикег же – поразительно – ограничился лишь тем, что подверг омовению грудь, плечи и руки. Потом он надел жилет, взял с сундука, служившего столом и подставкой для умывальника, кусок твёрдого мыла, окунул его в воду и стал намыливать щёки. Я с интересом ждал, чтоб он извлёк откуда-нибудь свою бритву, но тут он вдруг вытаскивает из угла за кроватью гарпун, отделяет длинную деревянную рукоятку, снимает чехол с лезвия, несколько раз проводит им по своей подошве и, остановившись перед обломком зеркала у стены, начинает энергично брить, вернее гарпунировать себе щёки. Да, думаю, Квикег, здорово же ты распоряжаешься первосортными лезвиями фирмы Роджера. Впоследствии я уже не так дивился описанной операции, потому что узнал, из какой высококачественной стали изготовляются гарпуны и как необыкновенно остро затачиваются их длинные прямые лезвия.
Туалет Квикега был вскорости завершён, и он величественно вышел из комнаты, облачённый в длинный лоцманский бушлат, неся в руке, словно маршальский жезл, свой неизменный гарпун.
Глава V. Завтрак
Я сразу же последовал за ним и, спустившись в буфетную, вполне дружелюбно приветствовал ухмыляющегося хозяина. Я не питал к нему недобрых чувств, хотя он немало позабавился на мой счёт в связи с происшествиями минувшей ночи.
Но ведь до чего ж хорошо бывает иной раз посмеяться как следует. Превосходная это вещь – смех от души, превосходная и довольно-таки редкая, и это, между прочим, жаль. И потому, если какой-нибудь человек своей собственной персоной поставляет людям материал для хорошей шутки, пусть он не скаредничает и не стесняется, пусть он весело отдаст себя на службу этому делу. Уверяю вас, что тот, в ком заложена щедрая доля смешного, гораздо значительнее, чем вы, вероятно, предполагаете.
В буфетной к этому времени собралось уже полно постояльцев, которые прибыли минувшей ночью и которых я вчера не видел. То были почти сплошь одни китобои: первые, вторые и третьи помощники капитана, корабельные купоры и корабельные кузнецы, гарпунщики и гребцы – смуглые, мускулистые люди с дремучими бородами, заросшая, косматая команда, с утра облачённая в матросские бушлаты вместо шлафроков.
Можно было с лёгкостью определить, как давно каждый из них покинул палубу своего корабля. Вот у этого здоровяка-юноши щёки напоминают цветом напоённые солнцем груши, от них и запах-то, кажется, исходит такой же сладкий; он не далее как три дня назад вернулся сюда из Индии. А тот, что сидит с ним рядом, не такой смуглый – это уже оттенок красного дерева. У третьего лицо ещё сохранило тропический загар, но только теперь порядком выцветший – этот человек, без сомнения, уже не одну неделю провёл на берегу. Но кто мог бы похвастаться такими щеками, как Квикег, чья рожа, исполосованная разноцветными линиями, казалось, подобно западному склону Анд, украшена была в одном замысловатом узоре всеми климатическими зонами?
– Эге-гей! Еда готова! – возгласил наконец хозяин, распахнув дверь, и мы проследовали в соседнюю комнату к завтраку.
Говорят, что люди, повидавшие свет, отличаются непринуждённостью манер и не теряются в любом обществе. Но это отнюдь не всегда так: Ледьярд[76]76
Ледьярд Джон (1751—1789) – участник плаваний Джемса Кука, совершил также путешествие через Европу в Сибирь.
[Закрыть], великий путешественник из Новой Англии, и шотландец Мунго Парк[77]77
Мунго Парк (1771—1806) – шотландский путешественник, исследовал течение Нигера.
[Закрыть], оба они в гостиных всегда совершенно тушевались. Быть может, путешествия по бескрайней Сибири в санях, запряжённых собаками, вроде того, какое совершил Ледьярд, или продолжительные прогулки натощак и в одиночестве к сердцу чёрной Африки, к чему, собственно, сводились все достижения бедного Мунго, быть может, говорю я, подобные подвиги не являются лучшим способом приобретения светского лоска. Но всё-таки лоск – это, в общем, не редкость.
Настоящие рассуждения вызваны следующим обстоятельством: когда все мы уселись за стол и я приготовился услышать боевые рассказы о китобойном промысле, оказалось, к немалому моему изумлению, что все присутствующие хранят глубокое молчание. И мало того, у них даже вид был какой-то смущённый. Да, да! Вокруг меня сидели эти морские волки, из которых многие в открытом море без малейшего смущения брали на абордаж огромных китов – совершенно чужих и незнакомых – и, глазом не моргнув, вели с ними смертный бой до победного конца; а между тем здесь они сидели за общим завтраком – все люди одной профессии и сходных вкусов – и оглядывались друг на друга с такой робостью, словно никогда не покидали пределов овчарни на Зелёных горах[78]78
Зелёные горы расположены на северо-востоке штата Вермонт, известного своими лесами и пастбищами.
[Закрыть]. Удивительное зрелище – эти застенчивые медведи, эти робкие воины-китобои!
Но возвращаюсь к моему Квикегу – а Квикег сидел среди них и, по воле случая, даже во главе стола, невозмутим и холоден, как сосулька. Разумеется, его манеры оставляли желать лучшего. Даже самый горячий из его почитателей не мог бы, не покривив душой, оправдать присутствие гарпуна, который он принёс с собой к столу, где и орудовал им без всяких церемоний, протягивая его через весь стол к вящей опасности для соседских голов, чтобы загарпунить и притянуть к себе бифштексы. Но всё это он, надо отдать ему должное, проделывал крайне невозмутимо, а ведь всякий знает, что в глазах большинства невозмутимость равноценна всем светским приличиям.
Мы не будем здесь перечислять других странностей Квикега, не будем говорить о том, как он тщательно избегал горячих булочек и кофе, как посвятил полностью своё внимание непрожаренным бифштексам. Достаточно будет сказать, что, когда завтрак был окончен, он вместе со всеми перешёл в буфетную, разжёг трубку-томагавк и так сидел в своей неизменной шапке, предаваясь пищеварению и спокойно покуривая, в то время как я вышел прогуляться.
Глава VI. Улица
Если я испытал удивление, впервые увидев такую диковинную личность, как Квикег, вращающуюся в культурном обществе цивилизованного города, удивление это тут же улетучилось, когда я предпринял свою первую – при дневном свете – прогулку по улицам Нью-Бедфорда.
Во всяком мало-мальски крупном портовом городе на тех улицах, что расположены поблизости от пристаней, можно часто встретить самых неописуемых индивидуумов со всех концов света. Даже на Бродвее и Чеснет-стрит случается иной раз, что средиземноморские моряки толкают перепуганных американских леди. Риджент-стрит посещают порой индийские и малайские матросы, а в Бомбее на Аполло-Грин туземцев, бывало, часто пугали живые янки. Но Нью-Бедфорд побивает всех – и Уотер-стрит, и Уоппинг[79]79
Бродвей – улица в Нью-Йорке; Чеснет-стрит – улица в Филадельфии; Риджент-стрит – улица в Лондоне; Уотер-стрит – улица в Ливерпуле; Уоппинг – улица в Лондоне.
[Закрыть]. Последние в изобилии посещаются только обыкновенными моряками; а в Нью-Бедфорде настоящие каннибалы стоят и болтают на перекрёстках; самые подлинные дикари, и у некоторых из них кости ещё покрыты некрещёной плотью. Как же на них не глазеть?
Но, помимо жителей островов Фиджи, Тонгатобу, Эроманго, Пананджи и Брайтджи[80]80
Фиджи, Тонгатобу, Эроманго, Пананджи, Брайтджи – острова в Тихом океане к востоку от Австралии.
[Закрыть] и помимо диких представителей китобойного ремесла, которые кружатся по здешним улицам, не привлекая внимания прохожих, мы можем увидеть в Нью-Бедфорде зрелище ещё более любопытное и, уж конечно, более комичное. Еженедельно сюда прибывают стаи новичков из Вермонта и Нью-Гэмпшира, жаждущих приобщиться к чести и славе китобойного промысла. Это всё больше молодые, дюжие парни, недавние лесорубы, вознамерившиеся променять топор на китобойный гарпун. Юнцы, зелёные, как те Зелёные горы, откуда они приехали. Иной раз кажется, что им не более нескольких часов от роду. Вон, к примеру, тот парень, который с важным видом вышел из-за угла. На нём бобровая шапка, и фалды у него наподобие ласточкина хвоста, однако подпоясался он матросским ремнём да ещё прицепил кинжал в ножнах. А вот идёт ещё один, в зюйдвестке, но в бомбазиновом плаще.
Никогда городскому франту не сравниться с деревенским, со стопроцентным денди-мужланом, который на сенокос надевает перчатки из оленьей кожи, дабы уберечь от загара руки. И вот, если такой деревенский франт заберёт себе в голову, что ему необходимо отличиться и сделать карьеру, и решит поступить на китобойное судно, – посмотрели бы вы, что он выделывает, очутившись наконец в порту! Заказывая себе матросское облачение, он обязательно посадит на жилет модные пуговицы колокольчиками и прикажет снабдить штрипками свои парусиновые брюки. Увы, бедный деревенщина! Как прежалостно полопаются эти штрипки при первом же порыве свежего ветра, когда тебя, вместе со всеми твоими пуговицами и штрипками, захватит свирепый шторм!
Однако не подумайте, что сей славный город может похвастаться перед приезжим только гарпунщиками, каннибалами и деревенскими простофилями. Это вовсе не так. Ведь Нью-Бедфорд и впрямь место удивительное. Когда бы не мы, китобои, этот участок земли и по сей день оставался бы, наверное, в таком же плачевном состоянии, как берега Лабрадора. Да и теперь за городом, чуть в глубь от побережья, встречаются места, до того голые, костлявые, что просто страх берёт. Но сам город прекрасен, пожалуй, во всей Новой Англии не сыщешь города лучше. Настоящая земля елея, право же, но только, в отличие от Ханаана[81]81
Ханаан – по библейской легенде, «земля обетованная», древнее название территории Палестины и Финикии.
[Закрыть], к тому же ещё – земля хлеба и вина. Улицы не текут молоком, и по весне их не мостят свежими яйцами. Однако, несмотря на это, нигде во всей Америке не найдёшь домов царственнее, парков и садов роскошнее, чем в Нью-Бедфорде. Откуда они? Каким образом разрослись здесь, на этой некогда скудной, усыпанной вулканическим шлаком земле?
Ступайте и разглядите хорошенько железную решётку, в которой каждый прут загнут наподобие гарпуна, разглядите решётку вокруг вон того высокого особняка, и вы найдёте ответ на свой вопрос. Да, все эти нарядные здания и пышные сады прибыли сюда из Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Всё это в своё время загарпунили китобои и выволокли сюда со дна морского. Способен ли был сам герр Александер[82]82
Герр Александер – немецкий фокусник-иллюзионист, выступавший в Нью-Йорке в конце 1840-х гг.
[Закрыть] на подобный подвиг?
Говорят, отцы в Нью-Бедфорде дают за своими дочерьми в приданое китов, а племянниц наделяют дельфинами. Поезжайте в Нью-Бедфорд, если хотите поглядеть настоящую блистательную свадьбу, ибо у них там, говорят, в каждом доме есть целые резервуары китового жира и каждую ночь щедро сжигаются спермацетовые свечи высотой в человеческий рост.
Летом город особенно приятен для взгляда, весь утопающий в клёнах, – длинные зелёные и золотые аллеи. А в августе высоко в небе прекрасные пышные каштаны, словно канделябры, протягивают над прохожим удлинённые, как свечи, конусы своих соцветий. Столь всемогуще искусство, которое по всему Нью-Бедфорду разбило яркие террасы цветников на голых обломках скал, сваленных здесь в последний день творения.
А женщины Нью-Бедфорда! Они цветут, подобно розам, что посажены их же нежными ручками. Но розы цветут лишь летом, тогда как нежные гвоздики у них на щеках рдеют круглый год, точно солнце на седьмом небе. Цветения, равного этому, не сыщешь на всей земле, разве только в Сейлеме, где, как я слышал, дыхание молодых девушек так полно мускуса, что моряки за много миль от берега по запаху угадывают близость своих возлюбленных, словно идут к ароматным Молуккам, а не к пуританским прибрежным пескам.








