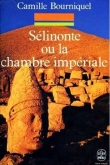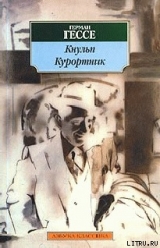
Текст книги "Кнульп. Курортник"
Автор книги: Герман Гессе
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Гессе Герман
Кнульп.
ТРИ ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ КНУЛЬПА[1]1
Тип романтического бродяги и скитальца, воспетый еще немецким романтизмом («Из жизни одного бездельника» И. Эйхендорфа и др.), появляется в творчестве Гессе уже в начале века. Первыми обработками темы, как бы подготавливающими «Кнульпа», можно считать «Юность Петера Бастиана» (1902), «Письмо господину Килиану Шванкшеделю» (1902-1903) и «Записки подмастерья шорника» (1904).
В 80-90-х гг. прошлого века бродяжничество стало в Германии повседневным явлением, приобрело настолько большие размеры, что только на территории Саксонии полиция ежегодно задерживала около двадцати тысяч бездомных. Гессе с юности с большой симпатией относился к этим оборванцам, обитателям больших дорог, воспринимая этот образ в чисто романтическом духе: бродяга и странник представлялся ему выражением протеста против мещански-упорядоченного быта бюргерства, попыткой сохранить свободу и независимость в мире потребительских идеалов поздне-капиталистического мира.
Над "Кнульпом" ("Тремя историями из жизни Кнульпа") Гессе работал в 1907-1913 гг. Первые две истории были созданы в Гайенхофене, на Боденском озере, где писатель поселился в 1904 г. и провел восемь лет жизни. "Конец Кнульпа" завершен в Берне. Первая часть "Кнульпа" впервые печаталась в 1908 г. в журнале "Нойе рундшау", "Мои воспоминания о Кнульпе" были напечатаны в 1913 г. в штутгартском журнале "Дер грайф", "Конец Кнульпа" впервые опубликовала "Дойче рундшау" в 1914 г. Отдельной книгой "Три истории из жизни Кнульпа" вышли в серии "Библиотека современного романа" в берлинском издательстве С. Фишера в 1915 г.
[Закрыть]
КАНУН ВЕСНЫ
В начале девяностых годов случилось нашему другу Кнульпу несколько недель пролежать в больнице; когда он оттуда выбрался, уже стоял февраль, погода была отвратительная, так что, проскитавшись всего несколько дней, он опять ощутил озноб и поневоле стал подумывать о пристанище. В друзьях у него недостатка не было, его приветили бы в любом городке округи, но он был горд, слишком горд, за честь можно было считать, если он что-нибудь принимал от друга.
На сей раз Кнульп вспомнил о благородном дубильщике Эмиле Ротфусе из Лехштеттена и в его-то запертые двери постучался однажды поздним ненастным вечером. Дубильщик приоткрыл ставень наверху и громко крикнул в темноту улицы: "Кто там барабанит? Неужто нельзя подождать до утра?"
Голос старого друга сразу же возвратил бодрость утомленному Кнульпу. Ему вспомнился стишок, сложенный им много лет назад, когда однажды он целый месяц странствовал вместе с Эмилем Ротфусом, и он пропел его прямо в приоткрытое окно:
Сидит усталый странник,
Сидит в большой пивной.
То блудный сын – изгнанник,
И уж не кто иной.
Дубильщик рывком распахнул ставень и наполовину высунулся из окна.
– Кнульп! Это ты или твой призрак?
– Я, я! – закричал Кнульп. – Но, может, ты спустишься или непременно нужно орать через окно?
Друг с радостью поспешил вниз, распахнул входные двери и коптящей масляной лампой посветил прямо в лицо пришельцу, так что тот заморгал.
– Входи же! – взволнованно воскликнул хозяин и потянул Кнульпа в дом. Рассказывать будешь после. От ужина тебе еще кое-что осталось, и постель получишь. Боже милосердный, в такую собачью погодку! Послушай, а башмаки-то у тебя хоть крепкие?
Кнульп предоставил ему вволю задавать вопросы и удивляться, на лестнице он аккуратно подвернул свои подшитые тесьмой брюки и уверенно двинулся впотьмах вверх, хотя не был в этом доме вот уж четыре года.
В верхних сенях, перед дверью в горницу, он немного помедлил и за руку придержал дубильщика.
– Слушай, – зашептал он, – ты теперь женат, это правда?
– Чистая правда.
– Вот то-то и оно. Понимаешь, жена твоя меня не знает, может, вовсе и не обрадуется. Не хотел бы я быть вам в тягость.
– Какое там в тягость! – засмеялся Ротфус, распахнул дверь и подтолкнул Кнульпа в ярко освещенную горницу.
Там над большим обеденным столом висела на трех цепях керосиновая лампа, легкий табачный дым еще парил в воздухе и тонкими струями уходил в горячий цилиндр, где спиралью вился вверх и исчезал. На столе лежала газета и сыромятный кисет с табаком, а с маленького узкого канапе у стены вскочила молодая хозяйка; вид у нее был смущенный, но нарочито бодрый, как будто ее потревожили среди дремоты, а она не хотела этого показывать. Кнульп, ослепленный, замигал на яркий свет, взглянул в серые глаза женщины и с вежливым поклоном подал ей руку.
– Вот она, – радостно объявил мастер. – А это Кнульп, дружище Кнульп, помнишь, мы с тобой еще давеча о нем говорили? Само собой, он наш гость, переночует в комнате подмастерьев – она ведь пустая. Но прежде мы все выпьем сидру, и ты попотчуешь Кнульпа. Ливерная колбаса у нас еще осталась?
Хозяйка выбежала из комнаты, и Кнульп проводил ее взглядом.
– Все-таки я ее чуток напугал, – тихонько сказал он, но Ротфус с ним не согласился.
– Детей еще нет? – спросил Кнульп.
В этот миг она снова появилась, принесла колбасу на оловянной тарелке и деревянный поднос, посередке которого лежали добрые полкаравая ржаного хлеба, заботливо положенные початою стороною вниз, а по краю было вырезано замысловатыми готическими буквами: "Хлеб наш насущный даждь нам днесь".
– Лиз, а ты знаешь, какой вопрос только что задал мне Кнульп?
– Оставь! – воспротивился тот и с улыбкою обернулся к хозяйке. – Итак, разрешите приступить, сударыня?
Но Ротфус не унимался.
– Он спросил, есть ли у нас дети.
– Ой, да про что вы! – выкрикнула она со смехом и сразу же опять убежала.
– Так что же, нет еще? – повторил Кнульп свой вопрос.
– Нет. Она, знаешь ли, не торопится, на первых порах так оно и лучше. Ну давай, принимайся за дело, приятного тебе аппетита!
Теперь хозяйка принесла голубой фаянсовый кувшин с сидром, поставила три стакана, которые тут же и наполнила до краев. Она проделала все это так споро и ловко, что Кнульп невольно улыбался, на нее глядя.
– Твое здоровье, старый друг! – провозгласил мастер и потянулся чокнуться с Кнульпом. Тот, однако, учтиво отклонил здравицу:
– Сначала за дам! Ваше драгоценное здоровье, сударыня! Будь здоров, старина!
Они чокнулись и выпили, и Ротфус просто сиял от радости, подмигивая своей хозяйке: заметила ли она, какие великолепные манеры у его друга?
Она, оказывается, давно это заметила.
– Видишь, – сказала она мужу. – Господин Кнульп вежливее, чем ты. Он знает, что такое настоящее обращение.
– Ну что вы, – не согласился гость. – Каждый поступает, как обучен. Что до манер, то тут вы меня легко посрамите, сударыня. До чего же красиво вы все сервировали, точно в самом лучшем отеле!
– Так и есть, – засмеялся мастер. – В точку попал, этому-то она обучалась.
– Вот как, и где же? Уж не трактирщик ли ваш батюшка?
– Нет, и он давно уже на том свете, я едва его помню. Но я и вправду несколько лет работала в "Быке", если вы такой знаете.
– "Бык"? Да это же была лучшая гостиница в Лехштеттене, – похвалил Кнульп.
– Она и сейчас такова. Разве не правда, Эмиль? И номера там берут только важные баре, коммивояжеры и туристы.
– Могу себе представить, сударыня. Вам, верно, там было хорошо, и заработки приличные. Но свое хозяйство все же лучше?
Он медленно, смакуя, намазывал мягкую ливерную колбасу на хлеб, откладывая тонко срезанную шкурку на самый край тарелки и время от времени прикладываясь к прекрасному светло-желтому сидру. Хозяин одобрительно смотрел, как аккуратно Кнульп со всем управлялся, как легко, играючи сновали его белые тонкие пальцы, да и на хозяйку это произвело благоприятное впечатление.
– Выглядишь ты не ахти как, – стал затем выговаривать ему Эмиль Ротфус, и Кнульп вынужден был призваться, что верно, последнее время дела его шли неважно, он был в больнице. О неприятных подробностях он умолчал. Когда друг осведомился, что же он намерен предпринять в ближайшее время, и от души на любой срок предложил ему стол и приют, то гость, хотя именно на то и рассчитывал и того желал, все же не дал ответа, как бы сробев, смущенно поблагодарил и отложил обсуждение этого вопроса на завтра. – Успеем поговорить завтра или послезавтра, – бросил он другу. – Слава богу, еще не конец света, а некоторое время я у тебя так или иначе пробуду.
Он не любил строить планы или давать наперед обещания. Ему бывало не по себе даже, если завтрашним днем он не мог располагать по своему выбору.
– Ежели я и в самом деле поживу здесь, – снова завел он разговор, отметь меня в управе как своего подмастерья.
– Еще чего, – захохотал мастер. – Ты – и вдруг мой подмастерье! Да, кроме всего прочего, какой же ты дубильщик?
– Не в том дело, разве ты не понимаешь? К дубильному ремеслу я и верно отношения не имею, хоть и считаю, что ремесло это почтенное. У меня к работе вообще таланта нет. Но вот моему паспорту такая запись бы не повредила. Это важно и для оплаты лечения.
– Можно мне взглянуть на твой паспорт?
Кнульп полез во внутренний карман своей почти новой куртки и вытащил оттуда книжечку в аккуратной клеенчатой обертке.
Дубильщик посмотрел на нее и сказал с усмешкой:
– Как всегда, не придерешься! Можно подумать, ты только вчера покинул родимое гнездо.
Затем внимательно изучил все записи и печати и восхищенно пожал плечами.
– Вот это порядочек! Все-то у тебя должно быть благородно!
Содержать свой дорожный паспорт в образцовом порядке было одним из пристрастий Кнульпа. Эта книжечка была в своей безупречности чудесным вымыслом, поэмой, все записи в ней, заверенные должностными лицами, обозначали славные этапы почтенной трудовой жизни, и лишь любовь к путешествиям, проявлявшаяся в очень частой перемене мест, бросалась в глаза стороннему наблюдателю. Но жизнь эта, обозначенная в дорожном паспорте, была сочинена самим Кнульпом, она продлевалась им с помощью тысячи уловок и частенько висела на волоске, в то время как в действительности он, хоть и не делал ничего запретного, влачил презренное и не вполне законное существование бездельника и бродяги. Конечно, ему вряд ли бы удавалось без помех сочинять свою прекрасную поэму, если бы все жандармы в округе не были настроены к нему в высшей степени снисходительно. Они по возможности оставляли в покое этого веселого забавного малого, чье умственное превосходство, а порой и серьезность внушали им уважение. У него не было ни одной судимости, воровства или нищенства за ним не числилось, а влиятельные друзья были повсюду; его терпели, как в хорошем хозяйстве снисходительно терпят красавицу кошку, а она живет себе среди усердных, замученных работой людей, как барыня, легко и грациозно, без забот, без труда.
– Вы давно бы уж легли, если бы я не пришел, – виновато сказал Кнульп, пряча паспорт. Он встал и поклонился хозяйке. – Пойдем, Ротфус, покажешь, где мое место.
Мастер с лампой провел его по узким крутым ступеням на чердак, в каморку подмастерьев. Там стояла у стены голая железная кровать, и рядом еще одна – деревянная, застеленная.
– Грелку не надо? – заботливо осведомился хозяин.
– Обойдусь, – засмеялся Кнульп. – А господину мастеру она уж точно не нужна, при такой-то женушке.
– Да, вот видишь, – с искренним жаром заговорил Ротфус, – ты сейчас уляжешься в холодную свою кровать, а порой даже и в худшую ложиться приходится, а то и вовсе никакой нет, так что ночуешь ты на сене, под открытым небом. У таких же, как я, и дом свой, и хозяйство, и жена славная. А ведь ты и сам давно бы мог стать мастером и добился бы куда больше, чем я, если бы только постарался.
Кнульп между тем поспешно скинул платье и, дрожа от холода, забрался в постель.
– У тебя еще много за душой? – спросил он. – Мне здесь лежать удобно, могу и послушать.
– Кнульп, я серьезно тебе говорю.
– Я тоже, Ротфус. Не воображай, пожалуйста, что ты первым придумал жениться. Спокойной ночи!
На следующий день Кнульп с утра остался в постели. Он чувствовал еще некоторую слабость, да и погода была такая, что одеваться и выходить не хотелось. Дубильщика, который заглянул к нему около полудня, он попросил, чтобы его не тревожили и, если возможно, прислали в обед тарелку супа.
Так весь день он покойно провел в сумрачной каморке, ощущая, как отдаляются и уходят в прошлое холода и невзгоды страннической жизни, отдаваясь блаженному чувству покоя, тепла, безопасности. Он прислушивался к шуму дождя, прилежно барабанившего по крыше, к прихотливым порывам душного беспокойного ветра. В промежутках немного дремал или, пока хватало света, читал что-нибудь из своей походной библиотечки; она у него состояла из разрозненных листков, на которые он списывал стихи или изречения, и из целого вороха газетных вырезок. Среди последних было несколько картинок, которые он отыскал и вырезал в иллюстрированных журналах. Две из них были им особенно любимы, от частого вытаскивания обе обветшали и обтрепались. На одной была изображена актриса Элеонора Дузе, на другой – парусник в открытом море при сильном ветре. С детских лет Кнульп испытывал сильнейшую тягу к морю и к северу; он не раз пускался в дорогу, чтобы увидать их своими глазами, однажды добрался до самого Брауншвейга. Но вместе с тем этого перекати-поле, который всегда был в пути и терпеть не мог задерживаться на одном месте, постоянно гнала назад странная тоска и любовь к родным местам, и быстрыми переходами он всякий раз возвращался в Южную Германию. Может быть, обычная беззаботность покидала его в местностях с чужим диалектом и чужими обычаями, где никто его не знал и где ему было нелегко сохранять в порядке свой фиктивный паспорт.
В обед дубильщик принес ему на чердак супу и хлеба. Он вошел на цыпочках, говорил испуганным шепотом, так как считал Кнульпа тяжело больным, – сам он с детских лет среди бела дня никогда не лежал в постели. Кнульп, который чувствовал себя преотлично, не стал затрудняться объяснениями и только заверил, что назавтра встанет и наверняка будет здоров.
К вечеру в дверь каморки легонько постучали, и так как Кнульп был погружен в дремоту и не откликнулся, хозяйка вошла осторожно и, забрав суповую тарелку, поставила на тумбочку у кровати чашку кофе с молоком,
Кнульп, который слышал, как она вошла, то ли из-за усталости, то ли из каприза продолжал лежать с закрытыми глазами, делая вид, будто крепко спит. Жена дубильщика, с пустой тарелкой в руках, украдкой бросила взгляд на Кнульпа, который положил голову на руку, прикрытую до локтя синей клетчатой рубашкой. Она невольно отметила, как мягки его темные волосы, как почти по-детски прелестно беззаботное лицо, – и все стояла и любовалась этим красивым малым, о котором муж рассказывал ей столько удивительных историй. Она разглядывала его широкие брови над сомкнутыми веками, высокий чистый лоб, смуглые, чуть впалые щеки, красивые яркие губы и стройную шею, и ей вспомнились те времена, когда, работая кельнершей в "Быке", она нередко по весне пускалась во все тяжкие с таким вот пригожим заезжим гостем.
Замечтавшись и чувствуя легкое волнение, она наклонилась, чтобы получше разглядеть лицо, как вдруг оловянная ложка соскользнула с тарелки и громко стукнула об пол, этот звук в тишине и укромной уединенности комнаты особенно сильно напугал ее.
Кнульп открыл глаза, медленно и с таким видом, как будто сейчас только пробудился от глубокого сна. Он повернул к ней голову, заслонив глаза ладонью, и сказал с улыбкой:
– Вот те на, оказывается, вы здесь, сударыня! Да еще кофе мне принесли, горячий кофе! Как раз то, о чем я сей миг мечтал. Большое спасибо, госпожа Ротфус! Не скажете ли, который час?
– Четыре, – быстро ответила она. – Пейте поскорее, пока горячий, а я унесу посуду.
Сказав это, она выбежала из комнаты с таким видом, будто у нее минуты нет лишней. Кнульп проводил ее взглядом и услышал, как она торопливо сбегает по лестнице. Он задумался над этим, легонько покачав головой, слегка присвистнул на птичий манер и принялся за кофе.
Через час после наступления сумерек он, однако, заскучал, чувствуя себя вполне бодрым и отдохнувшим, и его потянуло на люди. Он неторопливо встал, оделся, тихо, как куница, спустился впотьмах по лестнице и незаметно выскользнул со двора. Все еще дул влажный юго-западный ветер, но дождь прекратился, на небе видны были чистые и светлые прогалины.
Все разведывая, вынюхивая, Кнульп слонялся по вечерним улицам; он пересек опустевшую рыночную площадь, постоял в дверях кузни, наблюдая, как прибираются ученики, вступил в разговор с подмастерьями и погрел озябшие руки над темно-красным остывающим горном. При этом он как бы невзначай расспросил о своих былых знакомцах, осведомился о похоронах и свадьбах, а в беседе с кузнецом легко мог сойти за его собрата по ремеслу, настолько хорошо он знал язык и тайные знаки каждого цеха.
Тем временем госпожа Ротфус поставила на плиту похлебку, погремела ухватами, начистила картошку, и когда вся работа была переделана и кастрюля надежно стояла на слабом огне, пошла, с кухонной лампой в руках, в горницу и стала у зеркала. В нем она увидела то, что желала увидеть: свежее, миловидное личико с голубовато-серыми глазами, – и умелыми пальцами быстро привела в порядок прическу. Затем еще раз отерла руки о передник, захватила лампу и отправилась на чердак.
Она легонько постучала в дверь каморки, и еще раз – чуть посильнее; так как ответа не последовало, она поставила лампу на пол и осторожно обеими руками приоткрыла дверь, чтобы та не скрипела. Затем на цыпочках вошла, сделала шаг-другой и нащупала стул у кровати.
– Вы спите? – спросила она вполголоса и повторила еще раз: – Вы спите? Я пришла только забрать посуду.
Так как все было по-прежнему тихо, не доносилось даже легкого дыхания, она протянула руку к кровати, но, внезапно с испугом ее отдернув, выбежала за лампой. Теперь она увидела, что каморка пуста, а кровать тщательнейшим образом застелена, даже подушки и перина безупречно взбиты, – и растерянно вернулась в кухню, охваченная не то тревогой, не то разочарованием.
Полчаса спустя, когда дубильщик поднялся к ужину и сел за стол, она начала беспокоиться, но все никак не могла набраться храбрости и сказать мужу, что поднималась в каморку. Тут внизу как раз отворились ворота, легкие шаги простучали по мощеной дорожке, по ступеням витой лестницы, и Кнульп был тут как тут. Сняв с головы свою красивую коричневую шляпу, он пожелал всем приятного аппетита.
– Откуда ты? – удивленно воскликнул мастер. – То болен, а то бегает по ночам! Так и помереть недолго.
– Правда твоя, – согласился Кнульп. – Бог в помощь, госпожа Ротфус! Я, кажется, поспел вовремя. Запах вашей похлебки я учуял еще на рыночной площади, а уж отведав ее, помереть невозможно.
Сели на ужин. Хозяин был словоохотлив, он хвалился домом, хозяйством, званием мастера. Он поддразнивал гостя и затем вновь принимался всерьез его убеждать, что пора бросить наконец вечные странствия и заняться делом. Кнульп слушал его и почти не отвечал, хозяйка тоже помалкивала. Она досадовала на мужа, он казался ей грубоватым в сравнении с изящным благовоспитанным Кнульпом, и свое благоволение к гостю она проявляла тем, что усердно подкладывала ему на тарелку. Когда пробило десять, Кнульп поднялся, пожелал хозяевам спокойной ночи и попросил дубильщика одолжить ему бритву.
– Ты, однако, чистоплотен, – похвалил Ротфус, давая бритву. – Чуть оброс – и сразу же бриться. Ну, доброй тебе ночи, поправляйся!
Прежде чем войти в каморку, Кнульп помедлил у маленького оконца на площадке чердачной лестницы, хотел еще раз взглянуть на местность и угадать завтрашнюю погоду. Ветер почти стих, между крышами виднелось черное небо, на нем влажным блеском мерцали яркие звездочки.
Только он хотел отодвинуться и захлопнуть оконце, как вдруг осветилось точно такое же в доме напротив. Он разглядел маленькую низкую каморку, во всем подобную его собственной, и дверь, в которую только что вошла молоденькая служанка; в правой руке она несла свечу в медном подсвечнике, а в левой держала кувшин с водой, который тут же опустила на пол. Она осветила узкую девичью кровать, скромную и опрятную, уютно застланную грубошерстным красным одеялом. Затем поставила подсвечник – от Кнульпа ускользнуло, куда именно, – и уселась на низкий, выкрашенный зеленой краской сундучок, какой непременно есть у каждой служанки.
Как только перед его глазами начала разыгрываться эта неожиданная сцена, Кнульп загасил свою лампу, чтобы его не приметили, и выжидающе притаился у окошка.
Молодая девушка из каморки напротив была как раз того типа, который ему особенно нравился: лет восемнадцати – девятнадцати, не слишком высокая, с загорелым личиком, карими глазами и густыми темными волосами. Спокойное славное лицо ее глядело, однако, невесело, и вся она, притулившаяся на жестком зеленом сундучке, казалась такой пришибленной и унылой, что Кнульп, хорошо знавший жизнь и молодых женщин, догадался, что девушка эта со своим сундучком недавно на чужбине и тоскует по дому. Она сложила на коленях худые смуглые руки и, по-видимому, находила некоторое утешение в том, чтобы перед сном посидеть спокойно на своем добре и повспоминать об уютной горнице в родимом доме.
Кнульп замер у окошка так же неподвижно, как и она в своей каморке, и со странным волнением всматривался в эту маленькую чужую жизнь, которая столь простодушно прятала свою трогательную грусть в тусклом свете огарка и не помышляла ни о каком зрителе. Приветливые карие глаза ее то глядели прямо, то затенялись длинными пушистыми ресницами, на смуглые, детски округлые щеки ложился красноватый отблеск, а худые юные руки, такие натруженные и усталые, всё медлили, казалось, выполнить последнюю назначенную на сегодня нетрудную работу – раздеть свою хозяйку – и неподвижно лежали на темно-синей холщовой юбке.
Наконец девушка вздохнула и подняла головку с тяжелыми, сколотыми узлом косами, задумчиво, но не менее озабоченно уставившись в пустоту, и низко наклонилась, чтобы развязать шнурки на ботинках.
Кнульпу не хотелось уходить, но продолжать наблюдение, в то время как бедная девушка собралась раздеваться, казалось ему непорядочным и даже жестоким. Он охотно бы ее окликнул, поболтал перед сном и утешил доброю шуткой, но он боялся, что она испугается и сразу же погасит свет, как только он что-нибудь крикнет.
Вместо этого он решил пустить в ход один из своих многочисленных талантов. Он начал свистеть, необыкновенно мелодично и нежно, как будто издалека, и насвистывал он песенку "Там на лугу зеленом всё мельница шумит", и песня эта звучала у него так нежно и так мелодично, что девушка заслушалась, даже не сознавая толком, что это и откуда, и только на третьем куплете выпрямилась, встала и подошла к окну.
Она высунула голову и прислушалась: Кнульп между тем продолжал свистеть. Некоторое время она покачивала головкой в такт, затем вдруг взглянула вверх и сразу поняла, откуда исходит музыка.
– Там кто-то есть? – вполголоса спросила она.
– Всего только подмастерье дубильщика, – последовал столь же тихий ответ. – Я не хотел бы мешать вам уснуть, барышня, просто я немного загрустил о доме и вспомнил песенку. Я знаю и другие – повеселее. Девонька, а ты тоже нездешняя?
– Я из Шварцвальда.
– Вот так удача, из Шварцвальда! И я оттуда, оказывается, мы земляки. Как тебе нравится в Лехштеттене? Мне не слишком.
– Ой, пока я ничего не могу сказать, я здесь только восьмой день. Но мне тоже не очень нравится. А вы здесь давно?
– Всего три дня. Но землякам положено говорить друг другу ты, не так ли?
– Нет, я не могу, мы ведь еще совсем не знакомы.
– Это дело недолгое. Как говорится, гора с горой не сходится, а уж человек с человеком... Откуда же вы родом, фрейлейн?
– Да вы, наверно, и не слыхали.
– Как знать? Или это секрет?
– Из Ахтхаузена. Это всего только хутор.
– Красный хутор, верно? Перед ним на повороте стоит часовенка, а еще там есть мельница или лесопилка, не помню; у них живет большой такой рыжий сенбернар. Точно я говорю?
– Ну да, это Белло!
Когда она увидела, что он и вправду знает ее родные места и бывал там, недоверие и подавленность почти тотчас ее покинули, она оживилась и охотно вступила в беседу.
– А Андреаса Флика вы знаете? – быстро спросила она.
– Нет, я никого оттуда не знаю. Но держу пари, что это ваш батюшка.
– Верно.
– Так, значит, тогда вас зовут барышня Флик; если бы мне знать еще ваше имя, я бы мог послать вам открытку, когда опять забреду в Ахтхаузен.
– А вы уже собираетесь отсюда уходить?
– Нет, не собираюсь, хочу только узнать ваше имя, фрейлейн Флик.
– Что вы, ведь и вашего я тоже не знаю...
– Сожалею, но это легко исправить. Меня зовут Карл Эберхард, теперь, если мы встретимся среди бела дня, вы знаете, как меня окликнуть. А как мне вас величать?
– Барбара.
– Спасибо, вот и познакомились. Однако имечко ваше выговорить нелегко, бьюсь об заклад, что дома вас кличут Бербели.
– Точно так. Если вы все знаете, зачем тогда спрашиваете? Ну ладно, пора и прощаться. Спокойной ночи, дубильщик.
– Спокойной ночи, фрейлейн Бербели. Спите сладко, и раз уж вы тут, просвищу для вас еще одну песенку. Не убегайте, денег это не стоит.
И он принялся насвистывать, исполнив такую искусную мелодию на тирольский манер, с двойными нотами и трелями, что она вся сверкала и искрилась, как плясовая музыка. Девушка подивилась такой виртуозности, а когда все замолкло, осторожно закрыла и заперла на задвижку ставень, а Кнульп впотьмах удалился в свою каморку.
На следующее утро Кнульп пробудился в самом бодром настроении и сразу же воспользовался бритвой дубильщика. Тот уже несколько лет как отпустил бороду, бритва так затупилась, что Кнульпу пришлось чуть ли но полчаса править ее на своем ремне, прежде чем ему удалось наконец побриться. Когда он с этим справился, он надел куртку, взял в руки башмаки и спустился в кухню, где было уже натоплено и откуда доносился аромат кофе.
Он попросил хозяйку дать ему ваксу и сапожную щетку, чтобы почистить башмаки, но она горячо запротестовала: "Да как же можно! Это не мужская работа. Позвольте уж мне". Он ей, однако, не позволил, и когда она с неловкой улыбкой все же подала ему сапожные принадлежности, принялся делать свое дело основательно, аккуратно, играючи, как человек, который берется за физическую работу редко и под настроение, но зато уж исполняет ее с великим тщанием и любовью.
– Вот такую работу люблю, – похвалила его жена дубильщика. – Все блестит и сверкает, будто вы сейчас собрались на свидание с милой.
– Да я бы не прочь.
– Еще бы. Небось, она у вас симпатичная. – Опять засмеявшись, она спросила с настойчивой фамильярностью: – Может, и не одна?
– Нет, это было бы нехорошо, – с веселым осуждением, в лад ей отвечал Кнульп. – Да я могу и карточку показать.
Она с любопытством подошла ближе, он же, вытащив из кармана свой клеенчатый пакет, отыскал в нем изображение Дузе. С жадным интересом хозяйка разглядывала фото.
– Выглядит очень благородно, – осторожно похвалила хозяйка. – Настоящая дама. Конечно, немного тоща. А она у вас не больна?
– Насколько мне известно, нет. А теперь пойдемте поздороваемся с хозяином, я слышу, он уже встал.
Он прошел в горницу и обменялся приветствиями с дубильщиком. Там было чисто подметено, светлые деревянные панели, часы, зеркало и фотографии на стенах придавали комнате обжитой и приветливый вид. "Какая приятная комната, – подумал Кнульп, – славно должно быть здесь зимой, но из-за этого жениться... пожалуй, что не стоит". Благосклонность, которую выказывала ему хозяйка, явно его тревожила.
Выпили кофе с молоком, после этого мастер Ротфус повел Кнульпа во двор и в сараи, чтобы показать ему свою дубильную мастерскую. Кнульп разбирался почти во всех ремеслах, его разумные понимающие вопросы удивили друга.
– Откуда тебе-то все это известно? – искренне недоумевал он. – Можно подумать, ты и впрямь подмастерье дубильщика или был им прежде.
– Когда странствуешь, чему не научишься, – степенно обронил Кнульп. – А что касается дубильного дела, тут ты сам был моим учителем, разве не помнишь? Шесть или семь лет назад, когда мы бродяжничали с тобой, ты мне все это рассказывал.
– И ты запомнил?
– Кое-что, Ротфус. А теперь не хочу тебе больше мешать. Жаль, я охотно бы тебе помог, но здесь так сыро и душно, а я все еще кашляю. До вечера, старина. Пойду поброжу по городу, пока нет дождя.
Когда он вышел со двора и неторопливой своей походкой зашагал переулком по направлению к рыночной площади, сдвинув на затылок коричневую шляпу, Ротфус, стоя в воротах, долго смотрел, как легко и весело он шагает, блестя башмаками и заботливо обходя лужи.
"Неплохо ему живется", – подумал мастер не без зависти. Направляясь к яме с квасцами, он все продолжал размышлять о чудаке-друге, который хочет от жизни одного: быть зрителем; и Ротфус все не мог решить, что это скромность или притязательность. Человеку, который работает и всего достигает собственным трудом, конечно, во многих отношениях лучше, но, с другой стороны, у него никогда не будет таких нежных холеных рук, такой легкой упругой походки. Нет, Кнульп прав, он живет, как требует его натура и как редко кому удается, он простодушен, как дитя, и покоряет сердца, он одаривает комплиментами девушек и женщин и каждый день превращает в праздник. Пусть живет, как хочет, а ежели ему придется туго и потребуется крыша над головой, так надо за честь считать приютить его у себя и еще быть благодарным судьбе, ибо человек этот вносит в дом ясность и радость.
Тем временем гость весело и с любопытством осматривал город, лихо насвистывая солдатский марш; не спеша, обстоятельно разыскивал места и людей, которых знавал прежде. По круто вздымавшейся вверх дороге он поднялся в предместье, где у него был знакомый портняжка, влачивший жалкое существование; никогда он не мог получить выгодных заказов и вечно латал старые штаны, хотя в юности кое-что умел, на многое надеялся и работал в солидных мастерских. Но он рано женился, пошли один за другим дети, а жена не очень-то ловко справлялась с хозяйством.
Портняжку по имени Шлотербек он отыскал на четвертом этаже в одном из задних дворов предместья. Маленькая мастерская под самой крышей висела над бездной, как птичье гнездо, потому что дом стоял на самом откосе, и если глядеть из окна, то глазу представали не только три этажа, но и крутой обрыв с отвесными садиками и травянистыми склонами, а ниже – серый лабиринт захламленных дворов с флигельками, курятниками, сарайчиками для коз и клетками для кроликов, так что ближайшие крыши домов видны были дальше этого запущенного участка, уже глубоко в долине, и казались совсем маленькими. Зато в портняжной мастерской было много света и вольно дышалось, и прилежный Шлотербек, сидя по-турецки на широком столе, парил над миром, как сторож на маяке.
– Привет, дружище, – входя, приветствовал его Кнульп, и мастер, щурясь от яркого света, некоторое время молча разглядывал вошедшего.
– О, да это Кнульп! – воскликнул он наконец, просияв, и протянул гостю руку. – Опять в наших краях? Интересно, чего это тебе понадобилось, не зря же ты забрался на мою верхотуру.
Кнульп придвинул к себе трехногий табурет и основательно на нем уселся.
– Одолжи мне иглу и коричневую нитку потоньше, я хочу кое-что подштопать и привести в порядок.
С этими словами он стянул с себя куртку и жилетку, подобрал нитку, вдел ее в иглу и зоркими глазами тщательно осмотрел свое платье, которое выглядело еще очень пристойным, почти что новым. Каждую будущую прореху, ослабевшую петлю, готовую оторваться пуговицу он закрепил, приладил прилежными ловкими пальцами.
– Как дела-то? – спросил Шлотербек. – Время года сейчас не из лучших. Но в конце концов, если человек здоров и нет семьи...
Кнульп протестующе кашлянул.
– Да, да, – начал он легко и небрежно. – Сказано ведь, господь посылает дождь на праведных и неправедных, только портняжки сидят в тепле. А тебе по-прежнему не везет, Шлотербек?
– Ах, Кнульп, что я могу сказать? Слышишь, за стеной орут ребятишки, их у меня уже пятеро. Сидишь тут, надрываешься с утра до ночи, а денег все равно ни на что не хватает. А ты все разгуливаешь?
– Не угадал, старина. Четыре или пять недель провалялся в больнице в Нейштадте, а они там, сам знаешь, держат, только покуда крайняя нужда, не дольше. Да, поистине неисповедимы пути господни, дружище Шлотербек!